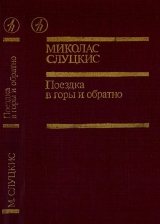
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
– Ну и что? В горах змей видимо-невидимо. Было бы кого жалеть. – Алоизас поправляет очки и устремляется вперед, чтобы увлечь за собой, потому что Лионгина стоит чуть не плача.
Внезапно она бросается вдогонку, опережает, оборачивается, жалобно скулит:
– Пусти меня в горы, Алоизас! – Ее возбужденные глаза сверлят базальт его очков. – Будь добрым, пусти!
– Дети смотрят! – Он все больше раздражается: где логика? Только что чуть не потеряла сознание из-за какой-то жалкой змеи – и вот уже подавай ей горы! – Если ты немедленно не прекратишь, мы не пойдем к реке, как я обещал, а…
– …а вернемся и ляжем в постель, да? – Лионгина кричит, грубо, дерзко.
– Люди смотрят. Уймись! – со злобой шипит он.
– Какие люди? Здесь только ты и я… Сними очки!
Сам не знает, что движет его рукой, но стаскивает черные стекла. Минуту не видит ничего, кроме молний. Как добела раскаленное космическое тело, летит на него солнце, грозно выгибается огромной сверкающей пилой горный хребет. Со всех сторон, грозя раздавить, ползут камни. И сколько их! Поросшие колючим кустарником склоны наверняка кишат ядовитыми тварями. Где же Лионгина? Исчезла из глаз в этой круговерти… Уж не начинает ли ему, как этой сумасбродке, мерещиться среди бела дня? Алоизас быстро надевает очки, прижимает ладонью, чтобы прилипли. Вот так! Борение света и тьмы прекращается. Камни замирают на своих местах, солнце потускнело. Лионгина… Лионгина, опустив голову, носком туфли что-то чертит на мелком гравии. Не станешь же призывать к порядку на людях. Не станешь ругать, дрожащую, подавленную. После того как он сломил ее сопротивление в постели и камня на камне не оставил от глупых рассуждений о смерти, она – хочешь не хочешь – будет следовать за ним.
– Остыну малость. – Алоизас стоял в тени большого ореха – А ты далеко не забредай.
– Так здесь же мелко. Едва ступни намочешь.
– Не шути, это горная река. – Он разулся, босая ступня взъерошила яркую зелень травки. На солнцепеке торчали лишь бурые и серые клочки. – Не забывай об этом, дорогая.
Его голос потеплел. Голос и взгляд, словно она действительно маленькая девочка, нуждающаяся в опеке. Только что озлобленно пыхтел, чуть не силой тащил сюда, теперь – нежен, как старший брат. А был бы ты таким раньше!.. Может, временами и бывал, только она не замечала?
– Смотри, не заходи далеко! – Он двинулся было к ней, наступил на острый камешек и, смешно замахав руками, юркнул назад под дерево. Распластался на спине, подставив солнцу ноги – белые и не очень мускулистые, ведь никогда не ходил босиком. Тут, в царстве камней, он беспомощен – приходится с этим согласиться. Жмурясь от удовольствия, что можно не двигаться и не страдать из-за своей неловкости, Алоизас одновременно улавливал чувства Лионгины: страх и безумное желание броситься в ревущий поток. – Уцепись за куст и побрызгайся… Договорились?
Она все еще стояла на берегу, удерживали ее не слова – потеплевший, заботливо нежный голос мужа и торчащие из тени его ноги, смешные, будто не Алоизасу принадлежащие, кому-то другому, более простому и понятному. А может, его нежность – лишь хитрость? Мягкий ошейник вместо грубого пафоса? А вдруг – нетерпимость и привычка вещать свысока – всего лишь облачко, заслоняющее солнце? Вот оно взяло и вылезло, когда ты и не надеялась… Так может, почудились мне будни с ним, худшие, чем смерть? И сливы тоже почудились? Сливы и унизительная мука, когда мял, как тряпку?..
– Я умею плавать! – отмела сомнения и отвернулась, будто не было никакого подобревшего Алоизаса.
Плавать Лионгина не умела. Она умела летать. Верила: если бы понадобилось, оторвалась от земли. На один раз решимости и сил хватило бы. Поверила в это недавно, вдохнув пряный, так и влекущий в небо запах этой земли, ощутив струящуюся в жилах кровь. Но ей дали понять, что она тряпка. Сбили с ног и вываляли в грязи. Прежде чем подняться в небо, ей надо отмыться. Как следует оттереть кожу…
Она поводила ступней над пенящимся, стремительно летящим потоком. Вода так и кипела, как будто под ней пылало жаркое пламя. Плотно сжала веки и шагнула в ледяной кипяток. Не успела и охнуть, мутный водоворот подхватил, обжег огнем, потом – мерзлым железом и снова огнем. Все вокруг гудело и грохотало, от страшных ударов лопалось небо, швыряя в нее звенящие куски. Рядом с исхлестанным стремниной плечом пронеслась коряга, черная, скользкая; все целилось в нее: стальные жгуты струй, ползущие по дну камни. Не удается раскинуть руки, вдохнуть воздух, кажется, что ее вертит и крутит на одном и том же месте, просто мимо неистово несутся берега, бегут от нее, то исчезая, то возникая совсем близко – голые или заросшие густым кустарником, утыканные застрявшими пнями, черными ветками, а развесистое ореховое дерево прыгнуло вдруг и вцепилось в другой берег…
Алоизас, спасай! Она не услышала себя. Спасай, Рафаэл!.. Рафаэл!.. Ра!.. Уже и имени, прозвучавшего надеждой, не могла выкрикнуть, горло заткнула твердая, скользкая пробка, еще одно усилие – и разорвется грудь. Лионгина мчалась куда-то, совершенно забыв, что умеет летать. Поток тащил, заливал с головой, вновь с силой выталкивал на поверхность. Воздух только хлестал и ускользал от нее, захлебывающейся пеной. Удар. Всем неуправляемым телом обо что-то огромное и твердое. Будто ее раскачали и бросили на железные ворота. Зазвенело в голове, во всем теле. Берег, земля, небо – вся круговерть остановилась. В висках – тупая боль. И уже никакой боли, когда из горла и носа хлынуло что-то мерзкое…
Застонала. Попыталась шевельнуть руками, ногами. Снова накатила боль.
Лионгину вынесло на отмель, вернее, на тысячелетия не поддающийся бешеным горным потокам выступ. Рядом вонзившейся торпедой торчала коряга, обогнавшая ее в воде…
– Как водичка? Я тут вздремнул малость. – Сквозь очки Алоизасу не было видно, что Лионгина мертвенно бледна. Белизна пробивалась пятнами сквозь ее загар, струпьями покрывала лицо и шею.
– Хо-ро-шая во-дичка… – выдавила она дрожащими губами.
– Вот так искупалась – перемазалась вся, – усмехнулся Алоизас, внимательнее присмотревшись к ней.
– Поцарапалась немножко. Вот…
Она вытянула здоровую правую руку. Хотя болела и правая. Все тело было непривычным, тяжелым. Голова клонилась, шея не выдержала ее десятикратно увеличившегося веса.
– Ведь предупреждал тебя, кажется. – Алоизас вновь вытянулся в тени, подставляя солнцу ноги. Так и не заметил, что Лионгину шатает. Тем более не мог заметить, что огромное, облипшее зелеными шишками орехов, с торчащими отсохшими сучьями дерево – зеленых орехов дети еще не сбивали – тоже качается, как пьяное.
Лионгина опустилась на землю. Села, обхватив руками колени. Поросший травой берег продолжал колебаться. Она медленно завалилась на бок, прильнула к теплой надежной тверди, под которой залегал камень, тысячелетние каменные пласты, равнодушные к человеческим глупостям и горестям, а также к их решимости и поражениям. Равнодушные? Земля глухо гудела, вторя грохоту реки, вечному ее мятежу. Поток продолжал мчаться, падал с высоты в долину, неся гибель неосторожным и отчаявшимся.
Я получила предупреждение. Меня предупредили горы. Но я чиста. Чисто мое тело… и душа.
– Не обижайся, дорогая. Страшно надоело безделье. Пора приниматься за работу, а?
Алоизас теперь и в комнате не снимает своих очков, укладывает на столик, лишь собираясь спать. Его незагоревшие глазницы, освещаемые лампой, белеют, как у незрячего, но ночью он видит больше, чем днем. В тишине успокоившегося старого дома пытается втолковать жене, что их совместная жизнь продолжится и тогда, когда уже не будет слепящего солнца и раскаленных эмоций. Эти мгновения сгорят, не оставив и пепла, а настоящая их жизнь – там, на далекой родине, в доме, которого они еще не успели создать. Разве следовало так волноваться, когда Рафаэл Хуцуев-Намреги явился звать их в горы? Правда, и сам он, Алоизас, был не слишком любезен, заявив, что на такие прогулки приглашают заранее. Горы не убегут! Они и сами заберутся, подготовившись с вечера, обзаведясь подходящей обувью, палками. Разве он еще не рассказывал? Во второй части его книги будет рассматриваться проблема воспитания личности и оптимальных границ индивидуализма. Ведь, поощряя самовыражение индивида, мы непременно пробудим в нем эгоцентрические силы, взывающие к биологии. Интересно, что она об этом думает?
– А что прикажешь мне делать сегодня?
– Сегодня? – Алоизас – слепец именно в свете утра, распахивающего шири и дали. И как слепой, который обо все запинается, никуда не желает идти. – Отдыхай, гуляй по саду. Попроси у хозяйки гамак, хорошо?
– Хорошо. Буду слоняться из беседки в беседку, как старуха.
– Старухи-то, слоняясь, глядишь, и книгу какую-нибудь прочитают, – удается ввернуть Алоизасу.
– Досыта начиталась, перепечатывая…
– Ну, не будем ссориться, – поспешил он сгладить свой упрек. – За твоего муженька книгу ведь никто не напишет, не правда ли? А после обеда, даю слово, погуляем по окрестностям.
Алоизас утыкается в бумаги из большого портфеля – как зеницу ока оберегал в дороге! – Лионгина выходит в мерцание и колыхание голубых далей, которая не что иное, как горная цепь. Зеленая гора-ящер – наклоняется, чтобы ей легче было вскарабкаться на шею. Дальше уже совсем просто – покатишься, как мячик, по широкой каменной спине. Нет, лучше не смотреть… Опустила глаза. Ой, вчера вроде не было – змеится трещина с рваными краями: ужасом веет от страшной ссохшейся земли. Вот-вот услышишь, как, разрываясь, трещит ее корка. Ни разу, пока они здесь, дождя не было! Через розовый куст, прочесываемый гудящими пчелами – сыплются и сыплются лепестки, – она видит, как, согнувшись под рюкзаками, быстрым шагом взбирается по склону Рафаэл, за ним, постукивая по камням палкой, – Гурам. Оба в белых шляпах, в каких ходят здешние старики, и действительно, превратись они вдруг в белоголовых стариков, она бы нисколько не удивилась. Или в ярких ящериц… С ними все может случиться, а вот с ней… Обида всколыхнулась с новой силой. Сейчас Рафаэл скроется в низком кустарнике, дальше – овраг, который надолго спрячет их. Лионгина не различает под широкополой шляпой черт лица, но чувствует, что взгляд Рафаэла крадется вдоль ограды дома отдыха, шарит по аллеям, по просеке между плодовыми деревьями. Что тебе, красавчик? Иди себе, иди!
Нет, остановись, Рафаэл! Крикнуть ему, чтобы услышал: возьми и меня в горы! Я не стану обузой. Пойду по вашим следам. Поднимусь хотя бы до часовни. Знаю, с непривычки будет трудно. Пустяки! Можно упасть, скатиться, пораниться – неважно. Если не выберусь в горы, умру на месте. Зачахну. Пусть не сразу, но умру!
…Ну и умирай. Мне-то какое дело? Отвяжись от меня, чужая и строптивая жена. У меня есть Лора. Лора! Ло-ра! Когда ухожу в горы, она ждет меня в долине. И без стонов. Тысячу лет будет ждать! Она ничего не требует от меня. Не связывает по рукам и ногам. А ты – стыдись!
Лионгина слышит свой голос, извлекающий из груди такие ноты, какие нужны. Так говорит презирающий ее Рафаэл. Вот уже он и Гурам скрываются в овраге.
…И снова день, и снова ждет гора-ящер, склонив к ее ногам длинную шею.
– Что сегодня будем делать, Алоизас?
– То же, что и вчера. Я славно поработал, ты еще лучше загорела.
– Земля ссохлась. – Лионгина сообщает об этом, словно о внезапно заболевшем человеке. – Трескается и стонет.
– Стонут только люди, когда у них что-то болит, дурочка. И то не все. Некоторые умеют сдерживаться.
– Которые в черных очках?
– Трещины и я вижу. Издержки солнечного юга, дорогая. – Алоизас снисходительно усмехается. – А винограду такая сушь – в самый раз. Мне хозяйка сказала. Пошла бы, побеседовала с ней, пока я тут ковыряюсь. Слышишь?
Лионгина слышит, как отщелкивается замочек портфеля, как шуршит бумага. Сыплется известковая пыль, Алоизас яростно отряхивает листы. Еще отчетливее слышны стенания взывающей к ней каменистой земли, которая не что иное, как подножие нависшей над селением громады. А что, если и она треснет, если зашатаются и провалятся зеленые островки леса, застрявшие между ними пряди облаков, а еще выше – окутанные ватой зубья хребта, не имеющие цветовых оттенков бескрайние просторы Вселенной?
– Куда вы? В горы? И я с вами! – как ящерица, выныривает из кустов мальчишка – давешний их провожатый и танцор. Нетерпеливо переминаются худые и сильные, как у охотничьей собаки, ноги.
– Нет, нет. – Лионгина лихорадочно придумывает, как бы от него отделаться. – Лучше помоги мне в другом: если муж позовет в окно: «Лионгина!», ответь: «Тут она!» Или: «Там!» Согласен?
– А если увидит?
– Не увидит, он работает. Голова забита более важными делами.
– Договорились!
– Тебя как же зовут, герой? – Ее руку, поднявшуюся было, чтобы потрепать его по макушке, удерживает дымок будущих усиков над верхней губой подростка.
– Тамаз. А вас – Лон-гина?
Как Рафаэл. Ей приходит в голову, что таким был в отрочестве и Рафаэл. С неотмываемыми прыткими ногами, в отцовской или дедовой гимнастерке. Только нос мальчугана еще внушительнее. Изогнутый лук, а не нос.
– Эй, нехорошо, Лон-гина!
Смотри-ка, плетется следом. Привяжется и испортит день, ее праздник. Что делать?
– Во-первых, я тебе не Лон-гина, а…
– Тетя, тетя Лон-гина! – ухмыляется он во весь рот. И лицо становится похожим на взрезанный арбуз. – Ноги мне ваши не нравятся, тетя Лон-гина.
– Ой, Тамаз!
– Не ноги, простите, туфельки. В таких туфельках на танцы – не в горы.
– В следующий раз привезу с собой альпинистское снаряжение. Пока, дружок!
Шагает она легко, вприпрыжку, будто на ней уже все это снаряжение.
– За часовенкой есть родник! – летит вдогонку голос Тамаза. – Пейте, не бойтесь, чистый-пречистый!
– Спасибо, Тамаз.
Теперь она видит мальчика сверху, словно с балкона пятого этажа, хотя ускакала еще совсем недалеко.
– А проголодаетесь – ищите сливы. Сколько угодно, только дерево потрясти! Или кизил!
– Хорошо, Тамаз.
– А если ваш муж пойдет искать? Что тогда?
Лионгина метнулась вверх, пусть исчезнет последняя связь с долиной. С землей!
– Тогда, – бормочет внизу Тамаз, – тогда я скажу ему, что вы спустились на базарчик. Фасоль покупать. Нет вкуснее еды, чем лоби. Скажете – есть?
Сколько Тамаз помнит, фасоль всегда была для него лучшим угощением. Разумеется, не надо забывать о бесконечном количестве винограда, слив, яблок, кизила и другой зелени. Тамаз круглый сирота, ни отца, ни матери…
Она не чувствует тропинки под ногами. Лишь бы подняться как можно выше. Летит, будто за спиной крылья выросли. Радость клокотала в горле, мешала глотать воздух – вот ведь как идет: легко, быстро, а говорили – в гору трудно… Наоборот, тропа, протоптанная людьми и животными, врезанная в мягкий камень громоздкими, медленно, будто во сне, вращающимися колесами, так и выталкивает тебя вверх! Одна такая арба проскрипела мимо. Огромная вязанка хвороста упиралась в воловий зад. Лионгина выкрикнула приветствие дочерна загоревшему старику, который твердой рукой удержал вола перед неожиданным оползнем. Ее старик! Каждый раз встречается ей этот вечный старик. Нет, не всегда, а в решающие для нее моменты жизни. Старик высоко приподнял свою длинную палку с острым наконечником – такой тут погоняют волов. Ответил на приветствие? Она улыбнулась и еще резвее заскакала вверх.
Больше никто не встречался. Какой-то серый комок шмыгнул в норку, заметая хвостом свои следы. Утоптанная дорожка – до блеска отполированная, словно укатанная лыжня, – пропала. И только теперь почувствовала она свои ноги. Голова и тело были невесомы, только ноги. Но время от времени попадались плоские камни, удобные для того, чтобы вскарабкаться на них. С одного на другой, с другого на третий, через едва заметные следы неизвестных зверей, через промытое когда-то водой пыльное русло потока, просто через синевшую пустоту… Изо всех сил вцепившись в свою переливающуюся через край радость оттого, что над ней только небо, что никто не запрещает дышать полной грудью, смахивать и смахивать льющийся градом пот, что ее душа поднимается над тяжелеющим телом, над ее жалко и глупо прожитой жизнью, – Лионгина спешит вверх.

Изредка оглядывается на пустынную долину, но не останавливается, чтобы, как горб, не потащило назад то, что осталось там, окутанное дымкой и таинственной далью. Не думать о милых, но маленьких земных тайнах! Так упоительно в горах! Все выше поднимают ее каменные волны, а внизу все мельчает, застывает и блекнет. То, что казалось величественным и неприступным, выглядит теперь ничтожным и простеньким: как легко накрывает все распростертое в долине тень проплывающего рядом с ней облачка. Уже давно перебралась Лионгина через спину ящера, того, который лежал ближе других к селению и столько раз жарко дышал в лицо, теперь он кажется жалким, как тощая бездомная собачонка. Тут, на высоте, она свободна смотреть и смыкать веки, молчать и кричать во все горло. Эй ты! – гордо крикнула бы она побежденному ящеру, однако боязно его собратьев, вставших на дыбы в небе и поджидающих ее.
Зелень лета постепенно блекла, уступая самые красивые прогалины желтизне осени. Возле одного клена мерцал чеканный медный поднос. И возле березы, и возле незнакомого хвойного дерева… Им, деревьям, все труднее подниматься следом за запыхавшейся Лионгиной. Зато колючий кустарник и чертополох преследовали неотступно, царапая ноги и грудь. В волосы вцепилось множество репьев, терпкие запахи забивали ноздри. Наконец гора опустила плечо, осела, словно устала тянуться вверх. Лионгина выбралась на чистую ровную террасу, позволившую отдохнуть ногам и умерившую дыхание. Не кончался бы этот пологий откос, шла бы и шла, мелькнула предательская мысль, покорная налитым свинцом ногам. Она обрадовалась, когда перед глазами возникла тропинка, подпрыгнула вверх и оборвалась – едва успела ухватить взглядом ее продолжение. Вот и хорошо, и пусть, буду опять лезть на четвереньках, цепляться за шершавые валуны, как за горячий, трепещущий бок скакуна. Удержаться на таком – все равно что летать! И вдруг, когда Лионгина схватилась за один из камней, он легонько шелохнулся, выскользнул и покатился вниз, увлекая за собой другие, рождая громовое эхо. Прильнув к круче ничтожной песчинкой, оцепенев от страха и восхищения, Лионгина безотчетно сознавала – хотя и не думала об этом, было некогда! – что такого грохочущего, обрастающего эхом обвала никогда больше не услышит. Однако догадывалась, что это еще не все очарование гор, ровно как и не весь сковавший ее ужас. Когда пыль улеглась и грохот утих, она полезла дальше.
Напилась воды, журчащей из трещины. Какая вода! Будто лижешь сосульку, свисавшую с голубого неба… Вместе с ней, чуть в стороне, припал к освежающей влаге жук, похожий на майского. Его желтые надкрылья вздрагивали на потемневшем от скуки камешке. Лионгина ощущала свое родство с этим маленьким созданием природы, которое обладало крыльями и могло так высоко взлететь. Опустившись на корточки, она училась у него слизывать с земли небесную росу, завидовала его крыльям, пусть и крохотным. Все же он жужжа полетел вниз, а ее еще сильнее потянуло вверх. Остановившись передохнуть во второй раз, попробовала ягоды кизила, сорванные еще внизу, когда она ныряла под алые кусты. Кислота свела рот и желудок, снова захотелось пить, но Лионгина поняла, что без жука не найдет родниковой жилки, впереди же, будто поджидая ее, ощетинилось непреодолимое нагромождение камней.
Стой, переведи дух, приказала она себе, оглянись по сторонам. Разумеется, тайком, потому что возжелавшему высей нельзя праздновать труса. Тем более, что уже не ноги волочишь, а чугунные гири. У подножия каменного завала чернеет след костра. Отсюда, сжегши несколько веток и подкрепившись разогретыми консервами, Гурам с Рафаэлом вслед за гремящей жестянкой направились вниз. Нет, один Гурам. Рафаэл еще в горах! Он следит за ее полетом! Указывает путь! Разве смогла бы она сама, без его поддержки? Он тут, несмотря на то, что вчера вечером его голос звенел возле кухни – жаловался, что разорвал брюки. Поскользнулся на камне – и сгорели новые штаны! Сестра-хозяйка латала их, а он трепался. У кого, мол, горы отбирают жизнь или разум, у кого – брюки. Нет, Рафаэл в горах, всегда в горах, даже кощунствуя. Живее, Лон-гина! Лон-гина! Его жаркое дыхание ерошит ей волосы, она сдвигается с места. Чуть ли не повисает подбородком на каменном барьере, подтягивается на руках, перебрасывает тело на другую сторону. И, не удержавшись, зажмурив глаза, падает вниз. К счастью, на мягкое: в каменной чаше собралось немного земли. Полежу, пока не приду в себя. Так и валяться здесь среди камней и мха? Вперед! Надо выбираться на простор, где ничто не заслонит ей неба, где не будет никого – только она и Рафаэл. Там она умрет от счастья…
…Нет, я умру тут. И не от счастья – от страха…
Снова леденил ее застарелый страх, пронизывавший насквозь, страх, от которого она цепенела до того, что не шла кровь, когда доводилось порезаться. Правда, сейчас ее пугало не возможное бесследное исчезновение, которому когда-то сопротивлялась, нарочно сажая глупейшие опечатки. Лионгина боялась, что не одолеет следующей ступени. Пока она тут пыхтит, ее обгонят другие, отберут чистоту и право первого прикосновения, первого взгляда. Щека, согреваемая солнцем, остыла. Солнце сдвинулось в сторону. Поспеши, снова приказала она себе и поднялась. Одна часть ее существа все еще парила, легко перепрыгивая через валуны или капкан колючих кустарников, а другая, замученная, исцарапанная, едва ползла и жаждала прильнуть к теплому камню, который скоро начнет холодеть, прильнуть и не вставать больше. Камни не теряют сил, камни не страдают от жажды. Летунья-душа, ласково уговаривавшая не опускаться на колени, соблазняла близостью бесконечности и побуждала переставлять распухшие, избитые ноги, будто Лионгина – больной слон. Когда слова уже не помогали, ослеплял осколок горного хрусталя, сверкнувший в гравии, или голубой цветок, отважно уцепившийся за камень. Обернись-ка, уговаривала она себя. Долина уже темнеет, значит – необходимо сделать еще шажок, пока солнце не село. Рафаэл будет восхищен тобою!
Трезвый разум, а на самом деле – неподъемные ноги нашептывали Лионгине другое. Не убежать тебе от заливающих подножье сумерек. Даже выбравшись на ничем не заслоняемый свет, не найдешь ничего другого – лишь россыпи тех же камней да сухие мертвые колючки. Даже альпинисты возвращаются с теми же самыми сердцами в груди. Ах, если бы она достигла вершины и там кто-нибудь вложил ей новое сердце – храброе, гордое, справедливое. Все-таки Лионгина не теряла надежды: еще шаг-другой – и она увидит то, чего не видела, поймет, чего не понимала, или хотя бы выяснит, почему как безумная рвалась в эту пустую, жуткую вышину…
Она не успела переставить ногу. Ровная, удобная площадка, на которой она минуту назад отдыхала, подпрыгнула вверх, стащила со стены в сверкающую огнем боль и повисла над ней всем своим страшным весом. Она не сообразила, что кожаная подошва ее туфельки соскользнула с каменной глыбы… Даже не поняла, что, обдирая растопыренные, пытающиеся ухватиться за какой-нибудь выступ руки, сорвалась вниз. От удара почернело небо, а когда оно вновь посветлело, на нем мерцали густые красные пятна, а голову наполнила тупая боль, словно ее придавили тяжелым камнем. Узнав свою площадку, Лионгина шевельнулась, тут же левый бок остро обожгло, а по правому ко лену будто молотком стукнули. Летунья-душа, уже порхавшая по ту сторону каменной стены, вынуждена была вернуться в скованное болью и беспомощностью тело. Лишь тогда Лионгина постигла, что произошло, и застонала.
…Я умру от ужаса и боли, если не выползу из-под стены, тут стемнеет раньше, чем на всей земле…
И она поползла, оставляя на камнях следы крови с ободранных рук.
Боже мой, боже, шептала Лионгина, пытаясь поднять голову и согнуть одеревеневшую ногу. Боль перестала терзать колено, но сгибаться оно не хотело. Пересохшим ртом, горящим лицом и телом – не только глазами! – глядела она сквозь жесткие стебли редкой травы в долину, которая куталась во все более темную синеву. Дороги, улочки и дома селения, даже стремительная лента реки казались отсюда ничтожными, временными, зависимыми от сияния солнца или набежавшего облачка. Она своей рукой, если была бы в состоянии поднять ее, могла бы утопить в тени по-детски расставленные кубики домиков и мачты линии высокого напряжения. Но ты не откуда-нибудь пришла – оттуда. И тело свалило тебя, чтобы напомнить, кто ты есть…
Лионгина смотрела вниз и видела не только лишенные реальных признаков своей сути спичечные коробки вместо ферм и белые пряди шерсти вместо пылящей дороги пастбища, но и самое себя – размером с маковое зернышко и с еще меньшим, испуганно бьющимся сердчишком. Видела себя, ткнувшуюся в падении о людей, как о причиняющие боль предметы с твердыми гранями, хотя каждый из них – бабушка Пруденция, мать Лигия, отец Тадас – тоже имели свое уязвимое место, может быть, даже страдали, однако старательно прятали свои слабости, обманывая судьбу. Сызмала, с первых просыпов в темноте, когда мир был лишь пробивающимися из-под свинцового неба сумерками или слабым огоньком на лестничной площадке, где мерзко пахло кошками, она чувствовала эту двойственность, что и отталкивало от нее всех, кто пытался с ней сблизиться, вплоть до отца. Ее и саму от себя отталкивало это ощущение, подобное пчелиному воску, залеплявшее глаза, чтобы не видела она ни любви, ни сострадания, ни радости, не могла удивляться сотням других глаз, горящих полнотой жизни. Как мало впитывала я света и как мало излучала его, – какого света дождалась от меня бабушка Пруденция? Может, я только ускорила ее конец. Лионгине виделась вчерашняя заброшенная девочка, потом девушка, от одиночества кинувшаяся в объятия первого же посулившего свое покровительство мужчины. Бедный, бедный Алоизас, как жил ты с такой трусихой? С такой нищей духом, с такой своекорыстной? Те дерзкие опечатки, которыми я втайне гордилась, – как ничтожно, как мелко! Тут, где земля тянется и никак не может дотянуться до неба, ничтожно все, что не может подняться выше… что не летает… Но ведь я – это я? Что мне с собой делать?
…Нет, с каменной тяжестью в голове и распухшим, все сильнее ноющим коленом далеко не проползти. Умру здесь. Одно жалко: никто не узнает, что я презирала свое мизерное сердце. Хоть бы сразу умереть, сразу! На минутку пристроить ногу так, чтобы не болела… всем телом впитать вечернее зарево, разливающееся за высоким, самым высоким неодоленным хребтом…
Когда-то она уже лежала так – почти без чувств, – хотя никуда не лезла – лежала в своей кроватке, страшась и темноты, и одиночества, а более всего – человека, который, казалось, будет иным, чем все другие люди. Встанет у изголовья теплой громадой и раздавит своей невероятной добротой. Это будет отмщением за вину – не ее, чью-то, а может, ничью, но тлевшую в ней с первых проблесков сознания, отмщением за неудовлетворенность куском, кроваткой и порывистыми, болезненными, как щипки, ласками матери. Всем своим существом, еще не познавшим себя, она молча искала то, чего не теряла, втайне веря, что где-то, скорее всего в каком-нибудь человеке, живет часть ее – не такая зябкая, не такая убогая, – придет время, эта часть воссоединится с ней – слишком огромная и щедрая, чтобы заключать в себе коварство. Ей казалось, что коварство это пронизывает лишь ее самое, непонятным образом заключено в ней. И еще маленькой девчушкой мечтала она исчезнуть, вдохнув запах добра, исчезнуть, пока зло не разрослось в ней, пока коварство не стало чудовищным. Она мечтала исчезнуть внезапно и навсегда, пусть и не понимала еще, чем ночной мрак и холод отличаются от мрака и холода небытия. Отец, прости меня, отец! Не надо было тебе вытаскивать Ледышку из кроватки! Это я превратила, твою жизнь в незаживающую рану!.. Перед глазами возникло отцовское лицо, и Лионгине стало теплее среди остывающих серых валунов.
Как бывает в горах, как не раз бывало уже у их подножия, внезапно навалилась темнота. Навалилась бесшумно, без малейшего шороха, залила взгорки и впадины, россыпи валунов и отдельные их осколки, которые можно пнуть ногой. Волна мрака дробила горы, так стоило ли удивляться, что, как червяка, раздавила она Лионгину.
Лионгина корчилась и скулила, уже забыв, что хотела умереть. Долина внизу превратилась в гигантскую, налитую до краев чернильницу. В монолит базальта, еще чернее и страшнее, чем сами горы. В огромное надгробие чему-то, что теперь навеки будет отнято у нее и похоронено. Алоизас! Добрый мой Алоизас! Она звала Алоизаса, чтобы пришел и вытащил из безжалостных жерновов, превращающих все – даже надежду! – в черную муку. Не сердись, пожалуйста, Алоизас! Знаю, тебя сердит, что не люблю я Гертруду. Боюсь ее и уважаю, очень боюсь и очень уважаю. На вокзале не успела раскрыть над ней зонтик не по своей вине – заклинило спицы. Но я постараюсь – полюблю ее, как сестру, как старшую сестру, которой у меня не было. Нет, нет, Гертруда была тебе матерью, отныне и я буду любить ее, как мать, которой у меня тоже не было… Только приди, спаси меня, Алоизас! Лионгина стонала, винясь за свое – мало сказать, легкомысленное и необдуманное! – бегство в горы. Отныне – пусть только спасет! – она будет следовать за Алоизасом верной собачкой, превратится в его постоянную тень. На горы и смотреть не станет, будто их вовсе не существует, зальет в памяти их манящий мираж черной тушью… Слышишь ли меня, Алоизас, умный мой Алоизас? Я достаточно жестоко наказана – за непослушание, за гордыню. Старуха со страшным лицом предупреждала меня. Чуть не утонула, тебя не послушавшись! Лучше уж в реке бы… Как холодно! Ее стала бить дрожь. Мрачно и холодно, будто дохнуло зимой. Испугавшись еще больше, Лионгина клялась быть послушной и теперь и впредь, если, разумеется, увидит завтрашний день. Алоизас, слышишь ли ты меня, Алоизас?
Она дрожала, измученная болью, темнотой, холодом и своей исповедью. Холодная испарина покрыла лоб, пока ждала отзвука, какого-нибудь знака, что услышана. Ей казалось, что протекли не минуты – часы. Бормотала имя Алоизаса все глуше, уже не доверяя ему. Словно заранее сомневаясь в успехе, пыталась зажигать мокрые спички на ветру и дожде. В этой суровой пустыне, где изредка стрелял, трескаясь, камень, имя мужа не звучало и не придавало храбрости. Нет, не годится здесь Алоизас, ни его черные очки на прямом носу, ни длинные бледные пальцы, которые, обо всем в мире позабыв – даже о молодой жене, ха-ха! – шуршат мертвыми страницами, отыскивая соответствия между – как он там сказал, господи? – между духовным самовыражением индивида и эгоцентрическими силами. Силами? Только бы не обмочиться со страха – вот где подвиг! А то найдут потом мертвую в луже… Стыда не оберешься, Алоизас, если не успеешь спасти жену! И тут, в темноте и холоде – брр, вся окоченела! – настойчиво билось в мозгу другое имя, оно сверлило Лионгине виски, разрывало рот для крика. Рафаэл! Храбрый, гордый Рафаэл! Ведь из-за тебя бросилась в горы – в разинутую пасть ящера. Спаси меня, Рафаэл, хотя и не стою я твоей Лоры. Послушной, терпеливой Лоры… Клянусь, стану такой же, только не отдавай меня вечному холоду и мраку! Я еще не жила – под лучами заходящего солнца увидела свое микроскопическое сердечко. Ведь горы – твой дом, Рафаэл!







