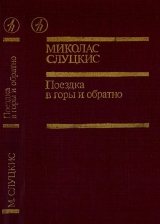
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
– Выпейте, Игерман, подсластите сон. Неужели начнете похваляться своими любовными похождениями? Лучше выпейте!
Уговаривала и дивилась своему поведению, которое ничем не отличалось от поведения здешней пестрой компании. Стоял многоголосый гул, пьяный смех и звон стаканов. Все спорили со всеми, Еронимас пытался оживить коньяком сладко посапывающую Аудроне.
– В ухо ей капни, в ухо! Вскочит как ужаленная! – коварно подначивал Валька Яблочко; было ясно, что сам он поступил бы именно так.
– Похождения? Были, да и как им не быть, если я всю жизнь бродяжничаю, мотаюсь по такой огромной стране. Но любви, поверьте, Лон-гина… Никого я до сих пор не любил, хотя десятки раз терял голову. Лишь вчера, когда высадили меня с летающей тарелочки в этот удивительный, древнейший город, увидел я женщину, которая…
– Аудроне? Она спит – не услышит.
– Ах, Лонгина Тадовна, Лон-гина. Возьмите лучше нож и разрежьте мне грудь!
– Ресторанным ножом и яблока не разрежешь.
– Спасли меня, чтобы снова погубить? Если бы не вы, я прыгнул бы вниз головой, честное слово! Почему вы так жестоки?
– Я не жестокая, Игерман. Устрою вам грандиозный концерт. В клубе наших шефов. В провинции у нас замечательные люди. Терпеливые и доверчивые, не такие избалованные, как мы. Успех вам обеспечен.
– Поедете со мной?
– Необходима свидетельница триумфа? Мне пора домой. Муж волнуется. Да и вам пора отдохнуть. Гоните всех прочь. Аудроне мы захватим с собой, потому что ее ждут детишки.
– Поедете? Или нет?
– Хорошо, хорошо… мелочи обсудим завтра.
– Не обманывайте меня. Я не ребенок!
Игерман вдруг схватил ее в охапку и закружил так, что зарябило в глазах. Вращались стены, телевизор, флейта, в которую кто-то лил вино, мелькали запотевшие стекла окна, изборожденные стекающими каплями, кружилась гостиница и весь мир, словно предчувствуя, что вот-вот победит притяжение земли и вознесется в пространство над бездной времени и расстояний этот не подвластный забвению человек, а потом оцепенеет среди звездного хаоса и будет сверкать с высот.
– Пустите! Уберите свои грязные лапы! – Лионгина визжала от ужаса, упираясь кулаками в широкую грудь Игермана, хотя освободиться не жаждала, напротив, хотелось, чтобы эти страшные лапы не отпускали, громили в ней все, что сопротивляется влекущему видению, которое еще немного – и вспыхнет в черной ночи забвения.
– Золотом осыплет! Чего ерепенишься? – крикнул ей в ухо Валька Яблочко.
– Пошел отсюда, подлец! Мотай по-хорошему, пока с лестницы не спустил! – взревел Игерман. Бережно усадил Лионгину в кресло и в один прыжок очутился возле бритоголового.
– Не бейте его, – взмолилась Лионгина.
– Разумный совет. – В Валькиной руке блеснул металл. Пряча нож, он сунул руку в карман брюк. – Не волнуйтесь, дамы и господа, я не часто пускаю в ход эту железку.
– Ну, а мои руки медлить не привыкли! – Игерман, не испугавшись ножа, ухватил Вальку Яблочко за шиворот, оторвал от пола и, полунеся-полуволоча, потащил к дверям. Широко распахнув створки, вышвырнул сучащего ногами подонка вон.
– Пожалеешь, черномордый! Ох, пожалеешь! – донеслось из коридора.
Шатаясь, подошел Еронимас, застонал, словно собирался плакать:
– Что происходит, братцы? Хозяин гостей избивает?
– Ты – актер? Тогда не стану бить, но если у кого чешется шкура – милости просим!
Глаза Игермана метали молнии, от стиснутых кулаков и влажного, по-молодому бешеного лица веяло силой. На миг Лионгине показалось, что перед ней стоит руки в боки не какой-то Ральф Игерман, а Рафаэл Хуцуев-Намреги, сама гордость и гнев. Она обмякла, уменьшилась, а он вырос и еще выше держит голову.
– Извиняюсь, Лонгина Тадовна. Пришлось проучить парня. Не одного подобного за свою жизнь довелось вразумлять. Некоторые после этого профессорами становились, ха-ха! – Он снова хвастал, любил хвастать, и это было невыносимо.
Пока она развлекалась в той странной, сбившейся, должно быть, в гостиничном ресторане компании, выпал снег, усыпал улицы. Тротуары расстилались чистые, нетронутые, и лишь одна она впечатывала в их пушистое, нежное покрывало некрасивые черные следы. В бледнеющих владениях предрассветных сумерек она ощущала себя возмутительницей спокойствия – к чему ни прикоснется, то и замарает! – недостойной этой хрустящей белизны, этой робкой, обещающей новое начало чистоты. Что-то изменилось, пока обуздывала она Игермана, изменилось в ней самой и в судьбах ее близких. Нет, ничего не произошло, убеждала она себя, ровным счетом ничего, ну поддалась на мгновение ложным чарам и снова вступаю в привычную колею. Разумеется, если найду ее неразрытой. Эта мысль рассмешила. Лионгина остановилась и расхохоталась, глотая холодный очищенный воздух, пока сама не испугалась своего недоброго смеха. В ушах неотвязно продолжал звучать гул застолья, словно она несла, прижав к уху, огромную раковину, – когда-то была такая у них в доме! – и немного не хватало до испуга, до примитивного страха, что она пьяна. Неужели должна была столкнуть человека с подоконника? Причина ее ночного визита – боязнь, что Ральф Игерман, не дождавшись, мог бы выброситься с шестого этажа! – после того как она вырвалась из табачно-алкогольного чада, рассыпалась, как наивная детская ложь. Не ради него явилась ты в гостиничный люкс – ради себя! Ради себя? Тебя еще не тошнит от собственной особы? Мечтала о возвращении к самой себе? Заставьте-ка ожить мумию! Все о ней известно – химический состав ее покровов, тысячелетия назад мучивший ее коксартроз, – но попробуйте оживить! И все-таки взволновал ее невинный белый снежок, сиявший по дороге домой, а потом до боли пронзил скрип двери – открыла Аня, не Алоизас, хотя это было его добровольной обязанностью, доказательством того, что земля все еще вращается.
– Ш-ш-ш, голубушка! Алоизаса разбудишь. От тебя несет, как от головешки. Что курила? – допытывалась Аня.
– Сигары, дорогая.
– Ого, ты делаешь успехи! Воняет, но шикарно! А что пила?
– Шампанское и коньяк.
– Начинать надо с коньяка. Тише… Алоизас не хотел засыпать. Пришлось убаюкивать, как ребенка. Если тебя интересует мое мнение… Такие потребности следует удовлетворять тайком. Зачем дразнить мужчин, будить в них зверя?
– Какие потребности, дорогая?
– Сексуальные. Ты что, шокирована? Каждой женщине, даже самой добропорядочной, раз-другой случается вильнуть в сторону. Но лучше делать это потихоньку, не афишируя! Едва удалось его успокоить.
– Спасибо, Аня. Я знала.
– Что знала? Не понимаю.
– Что ты сумеешь его успокоить.
– А было нелегко. Он называл меня не Аней, а… Погоди, никак не вспомню. Лилианой?
– Берклианой.
– Ты все знаешь? Это у него уже не в первый раз? Обидно. Я-то гордилась, вроде бы подвиг совершила. Поверь, было очень нелегко.
– И мне было трудно, Аня. Представляешь? Человек хотел покончить с собой.
– Ого-го! Ох уж эти современные слабаки мужчины! Я не хотела говорить, но о чьей-то смерти лепетал и твой благоверный.
– Ты его успокоила, правда же?
– В конце концов мурлыкал, как котенок.
– Еще раз благодарю, дорогая.
– Не за что. Из солидарности. Мы, женщины…
– А теперь из солидарности – спатеньки! Еле держусь на ногах.
– Такой у нас откровенный разговор, что жалко расходиться. Не знаю, будет ли другой случай.
– Не будет. Завтра мы начинаем ремонт квартиры.
– Ого-го-го! Так я скажу, не ожидая случая.
– Ты ведь не сообщишь мне, что успокаивала Алоизаса в постели? – Голос Лионгины взорвался глухо, как полный стеклянный сосуд, осколки рассыпались без звона. – Спокойной ночи, дорогая.
– Нет, погоди! – Аня властно выбросила руку. – Мы еще не поговорили о Вангуте.
– О какой Вангуте?
– Не прикидывайся. О единственной на свете Вангуте. Почему небо синее – не желтое? Давай покрасим в желтый цвет!
О господи, Вангуте!.. Втайне от всего мира взлелеянная и неосуществленная мечта. Захлебнувшийся во мне крик. Последний порог, который я переступила, растоптав свою чистоту. Сама видишь, девочка, как бессмысленно безнадежное сопротивление. Чуть шатнулась в сторону, тебе швырнули в лицо счет. Вангуте, боже!.. Первый, но не последний. Посыплются и другие. За отправленную умирать среди чужих людей бабушку Пруденцию… за испытавшую ту же судьбу мать Лигию… за отца Таласа, нашедшего тепло и забвение возле пивной бочки… за начальника, которому ты по расчету облегчала угрызения совести… за бухгалтершу, которую без ножа режешь… за Ляонаса Б., слабостью которого пользуешься до сих пор, не обрывая нить его напрасной надежды… Нет, нельзя тебе сворачивать со своего пути, пусть он никуда и не ведет!.. Улыбнись Аницете-Ане своей прелестной, очаровательной улыбкой.
– Подожди… Вангуте? Припоминаю… Твоя племянница?
– Не племянница – дочь.
– Разве дочь?
– Ты же знала это, знала! Не притворяйся.
– Не помню.
– Знала! Я врала, что Вангуте – дочь брата. Ведь у нее не было отца. Брат удочерил, невестку она называла мамой. Ты все поняла по моим глазам, по голосу. Полюбила ее, ни разу не видя. Будучи моей и не моей, Вангуте принадлежала всем, а значит и тебе. После операции ты не могла иметь детей, а очень хотела…
– Может, и хотела. Не помню…
– С ума по ним сходила. Восхищалась незнакомой Вангуте, заставляла меня без конца рассказывать о ней. Все одно и то же. Когда не было ее новых высказываний – А какая фамилия у комара? – я сама придумывала. Ты дружила со мной из-за Вангуте!
– Смутно что-то припоминаю. Впрочем, если что и было, это уже не важно.
– Дай мне кончить, дай кончить! Когда свалилось на меня то страшное горе, когда попала Вангуте под машину – невестка-то совсем не смотрела за ней: одень, обуй, накорми чужую! – ты убежала от меня, как от зачумленной. И на похороны не приехала. А ведь в таком горе первый долг подруги быть рядом… Малознакомые люди цветы принесли. Совершенно посторонние – шапки снимали… Почему ты была так жестока? Почему? Этого я не поняла, не понимаю до сих пор.
– Я и сама не понимаю.
– Если бы тогда ты иначе ко мне отнеслась… помогла бы оплакать Вангуте, в гробик положить… Кто знает? Может, не стала бы я сегодня такой сукой? Ведь я сука, Лина! Сука. И ты сука! Хотя прикидываешься порядочной, благородной семейной женщиной, хотя высоко взобралась по служебной лестнице. Чего молчишь?
– Молчу, потому что примеряю новую шубку.
– Какую?
– Сучью.
– Ого и еще пять раз ого! Далеко мне до тебя, Лина. – Аня взглянула на нее удивленно, не скрывая восхищения. – Отложи ремонт квартиры. Мы снова могли бы с тобой подружиться.
– Ремонт давно требуется. Думаешь, Аня, мне нечем оправдаться? Давил меня в ту пору невыносимый груз: беспомощный Алоизас, парализованная мать. Думала, не выдержу, сломаюсь, как былинка. Не имела я права взваливать на себя еще один камень – твой траур. – Лионгина помолчала, набрала воздуха в легкие. – Нет, не верь никаким моим оправданиям, Аня! Сама себе лгу. Видеть тебя больше не могла – вот что! Ведь в смерти Вангуте была виновата ты – не злая твоя невестка! Такая девочка, такой лучик у тебя был, а сунула чужим людям, стыдилась ее. Мне казалось: ты хотела ее гибели, чтобы увяла последняя моя честная радость…
– С ума сошла, Лина…
– Точно, была как сумасшедшая. Это не снимет с меня вины за то, что не поехала хоронить Вангуте. Чувство вины меня грызло. Как тайная неизлечимая болезнь. Верь не верь, Аня, только потому оказалась ты в моем доме. Не сегодня принялась я собирать осколки своей жизни. Что остается, если подумать? Могло ли быть иначе? Каков смысл всех страданий, утрат, подлостей?
– Твое хобби никого не интересует! Если хочешь знать, меня привело сюда желание тебя укусить. Так укусить, чтобы ты извивалась, грызла черную землю, как я тогда…
– Спасибо! Не ты мне – я сама себе отомстила. Дальнейшего твоего пребывания в моем доме не потерплю. На твоем месте я бы съехала немедленно.
Мелькнула мысль: впервые за многие годы по-человечески поговорила, словно на продуваемом всеми ветрами юру постояла, где не спрячешься – все как на ладони. Почему в начале пути, когда особенно нуждаешься в ясности, четких ориентирах и дружбе, горизонт тебе зачастую заслоняют непроходимые чащобы?
Алоизас не шелохнулся, когда она улеглась рядом. Казалось, не спит, хотя глаза плотно закрыты. Большой и неуклюжий, жался он к стене, чтобы не касались ее бок, ее дыхание, ее беспощадная проницательность. Подушка отдавала мужским потом и шампунем. Пивным шампунем мыла свои красивые волосы Аня. Внезапно закачались стены, огромный шлепанец Алоизаса взлетел под потолок. Кто-то, безжалостно схватив, бросил Лионгину на раскаленные угли все еще тлеющего костра. Чуть было не закричала, что у нее плавятся ногти и волосы, что не вынесет боли и сойдет с ума, шлепанец вновь оказался на своем месте, стены перестали шататься. Даже пожалела, что не воспламенилась, что смрад горящих волос и ногтей не заглушил запаха той, другой, который постепенно станет душить, хотя ее тут больше не будет.
Я виновата, сама виновата. Охваченная жалостью к себе и Алоизасу, Лионгина погладила плечо мужа. Он не ворохнулся, не порадовался ее снисходительности – лишь еще больше напрягся, и его усилия сжаться, стать тонким и плоским, невидимым и неосязаемым, заставили ее снять руку. Некоторое время она смотрела на свою ладонь. Орудие для того, чтобы бить, хлестать, громить. Мгновение видела, как молотит этим цепом Алоизаса, которому не удается сжаться. И вздрогнула, когда он застонал. Стонал во сне. Действительно спал, когда она присела рядом, спал, когда она легла, придавленная жестокостью жизни и палимая углями костра. В темноте спальни всхлипывал младенец, каким-то невероятным образом вселившийся в отяжелевшее, вялое, расслабленное тело Алоизаса. Однажды она уже слышала, как скулил этот младенец – сквозь суливший будущее грохот вагонных колес. Алоизас опасался ответного удара. Прятался в застарелой обиде, словно сквозь тонкую снежную пелену увидев ее искаженное от страдания и злобы лицо.
Снег смягчил темноту. Пора было вставать, как вчера, как во все другие утра. Их тела отдалялись друг от друга, чтобы не соприкасаться. Так же отдалялись и взгляды, и мысли. Временами расстояние между ними рискованно сокращалось, и она видела, как пугливым зверьком вздрагивают его губы в растрепанной бороде.
Пока она суетливо собиралась, забыв, что куда бросила ночью, Алоизас кружил около нее, норовя приблизиться. Комнаты слишком большие, слишком много в них углов, она легко ускользала из силков его раскаяния и растроганности. Прикидывалась, что не замечает, как безнадежно взывает он к ней, как шатается его громоздкое, утратившее равновесие тело. Наконец, потеряв надежду привлечь ее внимание, Алоизас отстал. Вопль признания и раскаяния уплелся вместе с ним. Лионгина сидела, зажав ладонями уши, чтобы не слышать.
Ничего особенного не произошло. Ничего! Несколько заученных движений рук – и ее обвисшие серые щеки снова будут похожи на крепкие яблоки. Усердная, тоже механическая манипуляция – и выжженные горем черные глазные впадины зальет оптимистической зеленоватостью. Но она медлила, словно гнушалась лезть в свою повседневную сверкающую скорлупу, втискиваться в бодро поскрипывающую сбрую. Смотрящее на нее из зеркала серое взлохмаченное существо куда больше нравилось Лионгине. Такая в случае надобности может оскалить зубы, выдать непристойное слово, но врать не станет. Она услышала грязное ругательство, ее голосом произнесенное, и много других, которых не выкрикнула вдогонку Ане и Алоизасу. Неопрятная злюка напомнила ей ту, которой здесь не было, от взволнованного дыхания которой ее отделяли семнадцать – и по думать-то страшно! – семнадцать долгих лет. Она пальцем обвела в зеркале овал лица, как бы пытаясь удержать растаявшую в тумане хрупкую девушку. Бред, чушь! Не было никогда нежной, едва очерченной! Есть вот эта – твердая, жилистая, колом не перешибешь.
И Лионгина ловко помассировала лицо, шею, снова становясь Лионгиной Губертавичене, коммерческим директором Гастрольбюро.
Цветы еще издали светились и пахли. У дверей кабинета Лионгину Губертавичене ждала охапка красных роз. Визитной карточки в корзине не было. Ральф Игерман! Кто другой, если не он, притащил целый куст, гигантскую корзину?
Лионгина поставила розы на столик для посетителей. Пусть вянут там. Домой не понесу. Как и следовало предполагать, действие развивается по банальному сценарию. Имитация попытки самоубийства, по-царски щедрый пир, а утром, когда ночные чары блекнут и подступает тошнота при воспоминании о застолье, – копна дорогих роз. Сказка не кончается, девочка, находишь то, чего не теряла! По небесным просторам перемещаются таинственные летающие тарелочки, а переносимые ими менестрели игерманы странствуют по земле, опьянев от любовной тоски! Спорю на лисью шубку, которой у меня нет, – скоро мой менестрель примчится за авансом.
Просмотрев корреспонденцию и уладив неотложные дела – в том числе будущее выступление Игермана в клубе у шефов, – Лионгина сбежала в Министерство финансов. Вызывали по поводу концертного рояля из ФРГ. Ее аргументы отфутболивали с помощью одного-единственного слова, произносимого со священным трепетом: Валюта. Она устала улыбаться и доказывать, что нужен целый рояль – не половина.
– Покупайте хоть полтора, – шутили с красивой женщиной жрецы ее величества Валюты. – Разве мы предлагаем покупать половину?
– Вы же выделяете половину нужной суммы.
– Валюта, уважаемый товарищ. Ва-лю-та!
– Ничего не желаю знать! – Она прикинулась наивной девочкой, которая ничего не понимает в проблемах международного торгового обмена. – Все равно буду ходить и ходить, пока вам не надоест.
– Мои советники именно этого и жаждут, – вмешался до тех пор молчавший человек с усталым лицом и тяжелыми руками, сам министр. – Я бы тоже не прочь почаще вас видеть, товарищ Губертавичене, но придется дать и на вторую половину.
– Никогда не забуду доброты вашего сердца! – Эта фраза – уже не пробивного администратора, а наивной, случайно забредшей в столицу пастушки! – и легкий книксен совсем разоружили суровых жрецов валюты. Они почувствовали себя так, словно чуть ли не из собственного кармана вытащили и преподнесли, чтобы красивая женщина счастливо улыбнулась.
Возвращаясь в бюро, Лионгина представляла себе, как сообщит эту новость художественному руководителю. Победа! Мы победили! Поздравляю вас, маэстро! Улыбка будет та же самая, что и финансистам, а книксен ниже. Начальники, пусть даже самые лучшие, не любят высокомерия подчиненных. Она несла добрую весть, подняв ее, как факел, и время от времени репетировала свою речь, чтобы не забыть, из-за чего так радуется. Поздравляю вас, маэстро! А вы поздравьте меня. Победа!
Ляонаса Б. в кабинете не было. Ее улыбка вонзилась в секретаршу, вечно скучающую рыжую девицу.
– Как только появится, немедленно дайте знать. Очень важное дело!
Секретарша съежилась.
Я же ей улыбнулась – чего она испугалась? Лионгина покосилась на стеклянную дверцу шкафа и обомлела. Улыбаюсь так, будто собираюсь откусить ей нос! А был бы на месте Ляонас Б.? Минуту стояла, обливаясь холодным потом. Концертный рояль! Лучшей и старейшей западногерманской фирмы! Целый год выбивали, убеждали, клянчили, а у меня перекошен рот…
– Нам удалось получить концертный рояль. Вы понимаете, что это такое? Золотой самородок, валюта!
Рыжая смотрела так, будто ее заглатывал удав.
Не забыть. Повторять и повторять. Превосходный рояль! Первый в Вильнюсе и пятый в стране! Все будут завидовать нашему Гастрольбюро! Все!
Постукивая каблучками по пути к своему кабинету, Лионгина уже снова мило улыбалась.
Вопреки расчетам, Игерман не поджидал ее. Жаль, она собиралась крепко дать ему по мозгам. Вместо гастролера у дверей взад-вперед вышагивал Алоизас, тяжело волоча свое тело. Его перекошенная фигура, будто тащил в руке гирю или какой-нибудь другой неудобный груз, наглядно свидетельствовала, что за несколько часов ничего не изменилось. Нет, изменилось. Алоизас совсем удручен, ему не по силам ноша, становящаяся с каждой минутой все тяжелее. Он не любил появляться в бюро, все, что свидетельствовало здесь о высоком положении жены – шикарный кабинет, телефоны, поклоны подчиненных, – раздражало его. Если уж возникала настоятельная потребность, старался ни с кем не общаться, не оставлять следов. Даже эхо его шагов под лепными потолками, когда заходил к ней, звучало упрекающе. По его теперешнему виду Лионгина поняла: первым же словесным залпом переложит тяжесть содеянного на нее.
– Я тут! Тебе не странно, что я тут?
Спешил к несчастной и униженной, как и он сам, а она сияет, словно юбилейная монета. На мгновение в памяти мелькнула восхитительная Р., уже который раз за последнее время. Сопоставление его ошеломило. Смятением воспользовалась Лионгина.
– Прости, что заставила тебя ждать. Была в Министерстве финансов.
– Зачем? – не понял он.
– Воевала! – Она попыталась превратить свою победную улыбку в более нежную, взяла мужа под руку. – Нелегко вырвать у финансистов мешок валюты.
– Валюты? Какой еще валюты? – Он не понимал, как может она говорить о служебных делах, когда обжигает страшная боль и неизвестно, куда девать свое тело, свое дыхание. – Знаешь, Аня… не будет больше жить у нас!
– Представь себе, они намеревались всучить мне половину рояля! – продолжала Лионгина свое, смеясь и сжимая его локоть. – Не выгорело! Выцарапала и вторую половину.
– Ты слышишь, что я говорю? – Алоизас попытался вырвать свой локоть из ее пальцев, ему было неприятно этакое покровительственное пожатие ее руки. – Аня, я сказал… Аня…
– Знаю. – Не отпуская его, она широко распахнула дверь в кабинет. – Мы же будем делать ремонт!
– Какой еще ремонт? О чем ты говоришь? – Его прерывающийся голос превратился в шипение.
– Можешь меня поздравить! Не какую-нибудь мелочь – рояль покупаем. Старейшей западногерманской фирмы. На валюту. Требовалась кругленькая сумма, и если бы не я… Разве ты забыл, котик, что мы договорились о ремонте?
– Забыл? – Алоизаса напугала его слабеющая память, но еще пуще – пятна извести и перетаскивание мебели, которую необходимо чем-то укрывать от этих пятен. От одних намеков на предстоящий разгром он заболевал.
– Помнишь, приходил человек с образцами обоев? Тебе тогда понравились светло-коричневые с большими и маленькими ромбиками.
– Мне понравились? Мне? – Не останется и уголка спокойного, куда можно будет забиться и тихо повизгивать?
– Если ты отказываешься…
– При чем здесь я? Ты выдумала этот ремонт, ты и делай. Но не надейся, помогать не стану, пальцем не шевельну! – Алоизас перешел на визг. Злился на себя – зачем ввязался в обсуждение ремонта, почему сразу не выплеснул, что спал с Аней.
– У нас хорошая акустика, Алоизас, старинная. Можно не напрягать голосовых связок. – Лионгина подняла телефонную трубку и глухо рассмеялась, преодолевая в себе другой голос и другие слова. – Раздевайся, присядь, выпьем кофе.
Он тяжело плюхнулся в кресло. Колени торчали возле бороды, колыхавшейся от неровного дыхания.
– Не хочу кофе.
– А я хочу, – и она вызвала секретаршу. – Сахара у вас нет? Ладно, сойдет и без сахара. Подожди минуту, – кивнула она Алоизасу, положив трубку и углубляясь в какую-то бумагу. – Срочный документ. Не могу, в глазах рябит. Я ведь не спала, ты знаешь.
– Сама виновата! Сама, сама, сама! – Алоизас схватился за ниточку, нарочно или случайно выскользнувшую у нее из рук. – А по ночам надо спать, да, да! Не удрала бы к этому… к своему… – Ему нужна была какая-то зацепка, подтверждающая ее связь с гастролером, и вдруг невидящие глаза наткнулись на корзину пурпурных роз. От него? От этого непризнанного гения? Сомнительные проходимцы – твоя слабость! – Ярость воспоминаний отшвырнула его в ту сторону, куда он вовсе не собирался, не для того вовсе спешил сюда, чтобы обвинять, – сложить к ее ногам свою измену и покорно просить о прощении. – Чуть не на другой день после свадьбы едва не бросила меня ради чернокудрого шалопая! Что, вру? Совсем с ума сошла, воспылала страстью к какому-то Габриэлу, пардон, Рафаэлу! Ра-фа-эл – я не путаю? Молчишь? Не желаешь помочь мне разобраться? А ведь не забыла – через семнадцать лет устроила ему гастроли!
– Пусть твоя правда, но стоит ли ворошить столь далекое прошлое? – У Лионгины внутри все застыло от ужаса – вот-вот рассыплется то, что осталось от ее жизни! – однако на лице все еще была приклеена улыбка, принесенная из министерства, улыбка, годная для переговоров, компромиссов и побед. – А к цветам ты зря привязался. Джентльменский жест. Ральфу Игерману, очевидно, неловко из-за ночного шума. Форма извинения, мой милый.
– Форма, форма… Если бы не эта твоя форма, не так называемая твоя деятельность, – Алоизас с ненавистью обвел глазами украшенный лепниной потолок, стильную мебель, – ничего бы не случилось… Ничего!
– Ничего и не случилось, милый! А вот и кофе. – Лионгина встала и двинулась к дверям навстречу секретарше. Молоденькая светловолосая девушка внесла на подносе керамический кувшинчик и такие же чашечки.
– Я же сказал тебе… Аня… Аня ушла… Как ты думаешь, почему она ушла?
– Я просила ее освободить квартиру. Мы будем делать ремонт. Это я решила твердо, Алоизас! – Лионгина уловила недоуменный испуг на пухлом личике секретарши. – Спасибо, Марите, можете идти.
– Вас зовут Марите? Постойте, Марите. Не слушайте мою жену! – Алоизас вырвался из плена кресла и бросился удерживать девушку. – Никуда она не уйдет!
Марите отступила, прикрываясь подносом.
– Пусть будет свидетелем… Хочу при свидетелях!.. Пусть все слышат… Марите, позовите сюда всех!
– Спасибо за кофе и – никаких собраний! – Лионгина открыла секретарше двери. – Мой муж крайне взволнован. Только что чуть-чуть не попал под машину на улице.
– Откуда… ты знаешь? – Алоизас вытаращил покрасневшие, испещренные прожилками глаза. И вправду, не заметил опасности: такси почему-то стояло поперек улицы, а таксист, приоткрыв дверцу, грозил ему кулаком и ругался.
– Знаю, я все знаю! – Лионгина сдержала стон, как живое, выползающее наружу существо, услышала, как что-то хрустнуло в горле. – Ты очень невнимателен. Идешь по улице и разговариваешь сам с собою… В другой раз не зевай. Нам это может обойтись слишком дорого!
Только не позволить ему признаться, вывалить содержимое помойного ведра… Ему станет легче, конечно, легче, когда слезами раскаяния смоет прилипшую грязь. А мне? Он уже во сне раскаивался, погрузившись в нирвану младенчества. А мне, каково потом жить мне, с головы до ног вывалянной в нечистотах? В голове Лионгины, как бы сконцентрировавшись в нескольких мгновениях, пронеслась вся ее жизнь. Одно из этих мгновений кануло в прошлое, другое – поджидает, ощерив пасть. Много лет назад юная и неопытная, она потеряла голову. Что было причиной, горы или молодой горец, сама не поймет. Так заполыхала, что чуть не сгорела, однако удалось совладать с собою. И откуда только взялись силы? Ведь замерзала, совсем было потеряла сознание, а вокруг от раскаленного солнца пылали камни. Кто она, чья и откуда, позабыла, страсть туманила голову, сбивала с ног, но все-таки сумела тогда понять, что достаточно ей ступить вслепую еще шажок – и она убьет Алоизаса. Глупая, не знающая жизни девочка удержалась на ногах, когда под ними дрогнула земля, а он… Нет, нельзя позволить Алоизасу… нельзя разрешить ему признаться… рассказать, как он там с Аней… Не самое страшное, что переспал с другой женщиной, хотя все достаточно ужасно и отвратительно. Самое страшное, что опять, как и тогда, почти в доисторические времена, вся тяжесть взваливается не нее – не на него. Ей предлагается сделать выбор – не ему. Люди добрые, как смогла бы я жить с Алоизасом, если бы стала не жалеть, а презирать его? Располневший, с косными привычками, старый – да, старый! – он сделал то, чего не позволила себе восторженная восемнадцатилетняя девчонка, и тут же, ужаленный болью и угрызениями совести, спешит переложить их на нее… На ту самую легкомысленную девочку, которой скоро тридцать семь и позвоночник которой уже не так гибок – может не выдержать нового удара. Многое отняла жизнь – не только веру в чудеса, но и в бескомромиссную порядочность! – однако она всегда знала, что делает, и не пыталась избежать ответственности. Поэтому ей и не за что презирать себя, пусть часто себя ненавидит. И тогда, и теперь – во все времена! – важно удержаться на какой-то черте, хотя многое замарано, заплевано, заложено или продано. И все-таки должно же быть нечто, чего придерживаешься, стиснув зубы, ни на что при этом не надеясь, не рассчитывая ни на какую выгоду или утешение?
Нет, не даст она Алоизасу признаться, как он… с Аней.
– Совсем забыла. Директор ждет. Бегу докладывать о победе – получаем превосходный рояль! – Она тяжело поднимается, бежать, конечно, не сможет, но как-нибудь доползет. – Будь осторожнее на улице… котик!
Алоизаса шатает, когда он уходит, придерживаясь за стены. Вот перед ним площадь – пустая, словно сцена, готовая стать местом действия для новой человеческой трагедии или трагикомедии. С голубого неба падают редкие крупицы. Когда солнце цепляется за шпиль башни, в вышине вспыхивает точка. В чистой синеве горит осколок блестящей жести. Снова она? Снова воздушная гимнастка? Раскачивается на невидимом канате, изредка пронизываемая солнечным лучом. Она не только качается, она прыгает и кувыркается, становится на голову, маленькую, гладко причесанную головку, а ноги держат… откуда-то свалившийся сверкающий красным лаком концертный рояль. Эй, осторожнее! Ведь яростный, кипящий от ревности и ненависти человечек уже кричал, и ты уже падала с высоты, влекомая земным притяжением. Должна была разбиться, превратиться в горсть пыли, в жестяной могильный цветок. Или притворилась, что падаешь, а на самом деле взлетела еще выше и теперь вот кувыркаешься? А может, никто и не кричал? Может, не рискнул раскрыть пасть этот скрючившийся во мне гадкий человечек? Нет, орал, все тело, мышцы и мозг ноют от его крика. Вопил, выл, но ревность и месть слишком слабы, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние. Дух захватывает, когда следишь за порханием серебряного мотылька в пространстве, за его ошеломляющими пируэтами. Красиво, необыкновенно! Кувыркайся, пари, милая, я с благоговением и благодарностью буду следить за твоим полетом… и молча.
Между тем Лионгина Губертавичене наблюдала в окно, как удаляется Алоизас. От судорожной улыбки болели скулы. Улыбаться – тоже работа, трудная работа. Бедный Алоизас. Бедная Лина. Бедные они оба. Внезапно в ушах возник тонкий звон, будто задели натянутую струнку, – что-то оборвалось внутри головы. Лучше всего сесть. Лионгина двинулась к столу, но голова кружилась, как после взрыва, и ноги подкашивались, будто у пьяницы, старающегося не упасть. Стол удалялся, пришлось схватиться руками, чтобы он не отшвырнул и, встав на дыбы, не ударил по звенящей голове. В непрекращающийся резкий звон врезался звонок телефона.







