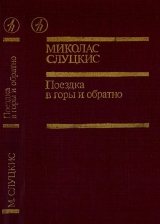
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
– Не судите сурово бедняжку Р. – В узких щелках поблескивали глаза, улыбка приоткрывала жемчужные зубки. – Ее безумно мучила щербатинка. Вам, мужчинам, не понять, как она страдала. Поверьте, готова была всем пожертвовать, чтобы вставить себе фарфоровые и улыбнуться сверкающим ртом. Стоматология там делает чудеса.
– Вы издеваетесь надо мной? – Алоизас побледнел.
Бурятка вытащила трубочку, закурила. Она была уже не аспиранткой и могла вести себя, как ей заблагорассудится.
– Прислала свою фотографию. Зубы как жемчужное ожерелье. Но если честно, щербинка ей была к лицу.
Хочет меня утешить, думал Алоизас, уверить, что я любил другую Р., лучшую. Это ложь, но мне уже не так больно. Изредка, если коснется кто-то посторонний, – обжигает.
– Не курите? – удивилась бурятка, прощаясь. – К вашему правильному нордическому лицу очень пошла бы трубка.
Там же, в Ленинграде, Алоизас приобрел трубку, взглянул на себя в зеркало в холле гостиницы – будто всю жизнь не вынимает изо рта! Загадочный, важный и гордый, нисколько не похожий на того, кто мог бы рисковать своим будущим из-за девушки с жемчужными зубками.
Good bye, восхитительная Р.! Ничто так не закалило Алоизаса Губертавичюса, как ваш скачок через Атлантику. Невидимый палач содрал с него всю кожу – от лба до пяток – и натянул другую, ороговевшую, негибкую. Наконец-то он стал мужчиной и, когда пробил час, сумел сразиться с высокими горами. Да, он сражался из последних сил и победил, хотя нередко победа, как известно, бывает подобна поражению. Но это уже не ваша вина, восхитительная Р., на веки вечные good bye!

Валик летает вперед-назад, на белый лист, стуча, сыплются буквы. Робот Лионгины прилежно трудится. Вдруг словно захлебнулся. Все? Не все, робот скалит свою железную пасть. Объявление. То самое, когда-то давно начатое и незаконченное. Лионгина тянет лист из стопки, приготовленной для воспоминаний начальника. Гладкая, мелованная бумага. Верже. Сдается комната, отбивает она средним пальцем, как негнущейся палочкой. Кому сдается, не помнишь? Девушке без детей и морских свинок, подсказывает робот. Уймись, одергивает его Лионгина. Желательна медсестра, но они от таких предложений заведомо отмахиваются, напоминает робот. Кто же остается? Девушка между шестнадцатью и сорока шестью, – память робота исчерпана. Он торчит безмолвный, печально сутулится и Лионгина. Разминает руки, похрустывает суставами пальцев. Девушка, работающая в ночную смену. Хитро придумано, а? Ночью будет работать, днем сможет ухаживать. Да и какой уж там особый уход? Живой голос, движение. Что-то принести, что-то подать. Ведь в комнате лишь парализованная, ходящая под себя старуха. Не старуха. Моя мать, мать, мать.
Робот оживает. Выпаливает несколько серий. Еще и еще. Волна стрекота хлещет до тех пор, пока от объявления не остается ни буковки. Смятый лист верже летит в корзину. Когда берет свежий, еще не тронутый коготками букв, сквозь блестящую поверхность, словно водяной знак, проступает девушка. Среднего роста, коренастая, костлявое лицо обтянуто нечистой кожей. Небольшие глаза, утонувшие в слое краски, ничему на свете не удивляются, тем более – объявлению. Имя девушки Зита. Оно тоже отпечатано на бумаге, которую еще не запятнали строчки робота. Скоро Зита купит вечернюю газету, чтобы узнать, в каком кинотеатре идет фильм «Вечная любовь», и, зевая, обнаружит объявление заспанными, но хваткими глазками. Нет, никогда. Включенный робот стучит, как гильотина, отсекающая головы. Лист испещрен иксами и игреками.
– Работаем, аж пар валит! Что в таком темпе гоните, если не секрет?
– Ничего. – Лионгина едва успевает выдернуть из машинки свое забитое иксами объявление. Мнет, не выпуская из вспотевшего кулака.
– Чего уставились? Не съем! – Начальнику неловко в неуютном, заставленном лишними вещами и, наверно, нездоровом помещении. Забилась в уголок, как паук, приходит ему в голову, трудолюбивый паук. Ее трудолюбие – драгоценная собственность нашего народа – привлекает его. И еще тепло, излучаемое маленькой фигуркой и худеньким личиком. Если не померещилось в тот раз, когда ругал за опечатку.
Она улыбается ему, как в тот раз, и еще шире, вспомнив упражнения перед зеркалом.
– Жалобы? Пожелания? Не бойся, выкладывай! – Если обращаться на «ты», легче выслушивать людей, давать советы, принимать меры.
– Я всем довольна.
– Напрасно! Кто здесь архив свалил? Ну покажу я этому сукину сыну завхозу…
– Я и так благодарна вам за условия работы. Могу учиться.
– Что учишься – хорошо, но говоришь, как несознательная. Может, еще руку бросишься целовать, как господину работодателю? Я – не работодатель, заруби это себе на носу. Государственное, народное учреждение – не мое!
Покрикивает, подумала Лионгина, потому что пришел жаловаться. Снова блондинка что-нибудь выкинула, не желая терпеть ни малейшей шалости ребенка?
– Что ты о моих воспоминаниях думаешь? – спрашивает строго, уставившись немигающими глазами в стену.
Воспоминания до нынешней жизни начальника, до его капризной жены не доходят. Они – о далеких, тонущих в тумане временах. И все же ощущается неясная, нелегко прослеживаемая связь. Неожиданный вопрос подтверждает догадку Лионгины.
– Интересно, – сдержанно хвалит она. – Особенно для нас, молодых.
– Ты мне зубы не заговаривай! Не похвал жду. Если спрашиваю, значит…
Ему и самому не ясно, чего он от нее хочет. Лионгина чувствует, что пора его поощрить, тихонечко подтолкнуть.
– Очень интересно, товарищ начальник, но, только не сердитесь, слишком мало пишете о внутренних своих переживаниях, о чувствах. Современным читателям…
– Копание в мелочах, грязное бельишко – вот что вас интересует? – Начальник отмахивается от навязываемых ему чувств так, что даже вздыбливается его седая гривка. – Чувства? Мы тогда чувства эти вот как душили! – Не удержался – сжимает в кулак здоровую руку.
– Может, и ошибаюсь. – Все-таки Лионгина побаивается его голоса, помаргивающих глаз, кулака. – Я хотела сказать…
– Ничего-то вы не знаете, в молочных реках купались, в шелковых пеленках нежились, пока мы кровь и пот проливали! – На этот раз «вы» – это уже не одна она – ее поколение, несколько поколений.
– Да, да… – Остается мямлить и приказывать губам улыбаться шире, дружелюбнее, только ни в коем случае не заискивающе.
– А мы что, обязаны были все знать, все? – Начальник разгорячился, его суровый взгляд, пробившись сквозь завалы времени, уже всматривался в хорошо знакомые лесочки, нищие полосы на песчаниках. – Послушай! Когда меня назначили на ответственный участок коллективизации, заскочил я как-то в одну сельскую школу. И приглянулась мне тамошняя учителка. И я ей тоже вроде понравился. Еще неувечным был. – Пошевелил своей изуродованной рукой. – Она здорово рисовала, так, бывало, изукрасит стенгазету флагами, звездами – залюбуешься. И голосок у нее приятный был – хор организовала. Я на нее посматриваю, она на меня. Однажды собрание там допоздна затянулось, и я остался ночевать в школе. Молодой был, горячий, и она не соня… Просыпаюсь утром – свернулась в ногах и плачет. Что такое? Охраняет, чтобы кто-нибудь спящего не кокнул. Спелись мы за лето, мысли о женитьбе в голове вертятся, только бац мне на стол анонимку – кулацкая, мол, дочка, родители и брат на Запад сбежали.
– Сирота?
– Кому сирота, мне – кулацкая дочка, классовый враг. Проверил через соответствующее учреждение – факты подтвердились.
– Бросили? – Вопросы Лионгины почти вызывающие, но он этого не замечает.
– А что было делать? Коварство врага налицо. С нами тогда и юбками воевали. Подсунуть секретарю райкома кулачку – неплохо, как считаешь?
– А она… Она что?
– Не знаю. Не видел больше. Уехала куда-то… – И после паузы: – Слух был – родила.
– Ребенка… вашего?
– Кто там разберет. Мало ли народу в той школе околачивалось? Но вот как вспомню ее, свернувшуюся калачиком в ногах…
Правда, трогательная история. И до сих пор гнетет человека, внезапно вырвавшегося из тумана, освещенного иным солнцем. Не раскаивается ли теперь, сам себя обманув и временем жестоко обманутый? И не приходит ли ему в голову, что злобные проделки пышной блондинки, обижающей его горячо любимого ребеночка, – предъявленный судьбой счет? Вероятно, до того еще не дошло, но неспокойно ему, так неспокойно, что разоткровенничался с почти незнакомой женщиной, стоящей на одной из последних ступенек в иерархии руководимого им учреждения.
– Простите, может, я не все понимаю. – Лионгина переводит дух. – Только, мне кажется, не должны вы из-за… той учительницы корить себя. Вы же не виноваты. Такое время было.
– Думаешь так или… или опять зубы заговариваешь?
Скажи она что-то другое – не потерпел бы, зарычал, но теперь его близко придвинутый лоб бугрится, залившись потом. Хочет и не решается поверить, что эта молодая скромная женщина искренна. Может, подмазывается с корыстными целями?
– Не умею я подхалимничать, товарищ начальник.
Уже умеешь, увы, умеешь, шепчет кто-то на ухо Лионгине. И голос у тебя подрагивает, чтобы правдивее вышло.
– Такое время было, – повторяет она прочувствованно, хотя по своему небольшому опыту знает, что, когда надо принимать решение, время всегда трудное и полное соблазнов. Самые смелые не боятся времени – отец вон не бросил мать с чужим ребенком, которого, вполне возможно, ненавидел. Уходил и снова вернулся. Да, мой отец! Мой неродной и самый родной, какой только может быть, отец!
– Такое время было. Суровое время. Твоя правда! – Начальник покачивает львиной головой, его глаза сверкают, вернувшись из тумана прошлого, а шаг, когда собирается уходить, снова твердый.
У дверей его гривастая голова оборачивается.
– Так и не показала, что печатала. Если кончила все, нечего цыплят высиживать. В голове-то небось дом, маникюры, педикюры, что, не правда?
Самое тревожное – мать. Забежала перед лекциями, ухватив по дороге необходимые продукты. Соседка Тересе не приходила, истопник Феликсас, иногда кое в чем за сто граммов помогавший, забыл заглянуть. Зажмурься и входи, подбодрила себя Лионгина, однако жмуриться было некогда. Вонь, грязное белье, не в подъем тяжелая туша. Выпавший свободный часок, подаренный начальником, поправил не столько дела, сколько настроение. Работалось быстро, даже с каким-то остервенением, и мать наблюдала за ней со все возрастающим беспокойством.
– Ишь какая быстрая сегодня. Боюсь тебя. – И глухо засмеялась, скрывая настоящий страх.
– Правильно, меня надо бояться! – бросила Лионгина, сгоняя метлой мусор. – Я душу дьяволу продала!
– Я хорошо тебя воспитывала. Зачем нехорошо говоришь?
– По себе и воспитала.
– По мне, так была бы артисткой. Гастроли, цветы, поклонники…
– Я и есть артистка. Похвалила человека за то, что бросил девушку с ребенком. Представь себе, это мой начальник. Похвалила, вместо того чтобы рассказать ему историю об отце…
– Отчим он тебе, отчим.
– …об отчиме, который не бросил тебя, хотя ты сто раз была того достойна. Достойна, достойна!
Лионгина прижала к груди ручку щетки, худую спину сотрясал то ли беззвучный плач, то ли смех. Совладав с собою, сказала:
– Между прочим, мой дьявол не самый худший. Не требует всей души сразу. Берет по кусочку.
– С ума сошла. Окончательно сошла с ума. – Мать дрожала, если бы могла, то залезла бы куда-нибудь, спряталась, к сожалению, могла заползти только в себя, в беспомощную гору своего тела. – Просто сумасшедшая! Лучше уж моей болезнью болеть, чем сойти с ума.
– Лучше, мама. Разве ты раньше этого не знала?
Она услышала свое имя в шуме улицы. Теплый юго-западный ветер слизывал снег. Местами подошвы уже чиркали по асфальту или цементным плиткам. Лионгина, прибрав мать, спешила на лекции. Несвежий запах впитался в волосы, прилип к косыночке, пальто. Остановившись, подставила лицо влажному ветру. Одновременно и умывалась, и прислушивалась. Нет, никто не зовет. Да и кому она может понадобиться? Как обычно, между шестью и восемью, толпа хлынула по домам. Меньшие волны – из дома в театры, кино, рестораны, на ночные дежурства, свидания, в пункты междугородных переговоров.
Она вынырнула на площадь. На просторе и на свету чей-то голос может обрести плоть, на худой конец, какие-то определенные признаки. Пока пересекала цементную пустыню, не проходило ощущение, что кто-то преследует. Не выдавая себя, растворялась в тени зданий, в порывах ветра, шорохе плащей на бегущих к троллейбусам. Чужое дыхание жгло затылок, чужие глаза, оставаясь невидимыми, словно тонкая игла электрического фонарика, шарили по влажным, облипшим остатками прошлогодней листвы плитам площади. Оглянулась – жгуты снега с дождем в пасти фонаря, сплошная белая завеса. Никто не наступает на пятки, если в спешке кто-нибудь и наткнется, то отшатывается, ошарашенный белым гипсовым лицом. Ей почти приятен испуг раззяв. Это я! Что, не нравится? Снова послышался шепот – преследователь явно издевался над ее попытками исчезнуть, спрятаться за белой маской. Вслед катилось странно растягиваемое, с удивлением и болью произносимое ее имя. Лон-гина? Как сто лет назад во время солнечного пожара, когда оселки камней оттачивали каждую гласную и согласную до музыкального звучания. Затоптать шепот, как змею, как вспыхнувший огонь. Заткнуть уши. Какая наглость – сны и шепот, когда барахтаешься в липкой грязи, а по лицу еще ползет зловонная жижа. Кощунство это, ведь Алоизас нынче едва выбрался на работу, вместо того чтобы выступать гордо, как на параде. Не решился любоваться собою, хотя любит по утрам покрасоваться перед зеркалом, не израсходовав еще дневных авансов. Сверкнула и подкатилась к их постели шаровая молния, пока она спала, а он бодрствовал. Алоизас, шатаясь, вышел из дома, ослепленный ею. Что я болтала во сне? Какой яд капала ему в ухо? Ничегошеньки не помню, одну только черную пустоту. Кажется, тянулась на цыпочках в самом темном уголке этого мрака, на абсолютно черном дне бездны. Висела вниз головой, как летучая мышь, и видела черный ужас…
– Лионгина, погоди! Помилосердствуй, я же не бегунья-рекордсменка!
Глубокий, звучный голос, темная шляпка, неизменно служащая во все сезоны, свободная каракулевая шуба, одеваемая ради служебного престижа, – зима-то больше по календарю, чем на улице! – и лицо – словно с гравюры на дереве старых литовских графиков. Ни мокрый снег, ни качающийся свет фонарей не расшатали крупных черт лица, их серьезности. Будто стояла на трибуне или преклоняла колени на ступеньке возле исповедальни, вызвали ее шепотком, и не успела сменить задумчивой торжественности на будничное выражение. Сконцентрировав свой стальной взгляд, она, пожалуй, без труда просверлила бы человека насквозь, чтобы извлечь путаницу чувств. Это тебе не кающийся начальник, из которого при желании можно веревки вить. Все твое внимание, все нервы потребовались бы, чтобы противостоять насилию, которого вроде и нет, которое ты выдумала, но которое, будучи недоказанным, делается все грознее. В самом деле, где факты недружественного отношения? Разве Гертруда возражала против их брака? Словечка поперек не бросила, а ведь была против, и сейчас против, и будет против, пока дышит. Против не означает отрицания ее, Лионгины, как не отрицаем мы существования губительных, абсолютно никому не нужных стихийных бедствий – наводнений, ураганов, землетрясений. Лишь стараемся по возможности приноровиться, обуздать или смягчить последствия их жестокости.
– Что так уставилась, детка? Не узнаешь?
– Добрый вечер, Гертруда. – Лионгина едва удерживается, чтобы не сказать товарищ Гертруда, потому что женщина с длинным неулыбчивым лицом – не только сестра Алоизаса, но и довольно большое начальство.
– Вижу, не в кафе спешишь?
Снисходительной полуулыбкой Гертруда пытается разрушить вечную стену между ними. Лионгина заставляет себя ответить беззаботно, хотя и не терпится ей как можно скорее заткнуть все щелочки в этой стене.
– На занятия, на занятия.
– Проходила сейчас мимо кафе. Одни женщины. Может, зайдем?
– Кафе, насколько мне известно, не способствуют учебе.
– Да брось ты смеяться над старухой! Выпили бы горячего кофейку, поболтали. Встречаемся, как корабли в море. Не балуете вы меня визитами, ни ты, ни Алоизас. Оба.
Оба. Гертруда не говорит того, что хотелось бы, что гудит в ее большой голове, крупном теле. Ты, все ты, увела брата от сестры, вырвала из-под ее влияния, набила, как мешок, своими ничтожными, изнурительными переживаниями.
– Ах, Гертруда, вы ведь все знаете.
– Что все? Ах, детка… – Обиженная Гертруда наклоняет голову, с полей шляпки скатывается капля. – Думаешь, нет у меня других забот? Ответственная работа так связывает человека! – Она вытаскивает платочек, смахивает каплю со щеки, снова складывает его и сует в черную вместительную сумку. – Подожди, ты – со службы? Намылю завтра шею твоему начальнику. У всех работа давно кончилась, а он…
– Начальник тут ни при чем. – Лионгине не хочется, чтобы проницательный взгляд Гертруды лез в ее служебные дела, и поэтому она спешит кинуть приманку, которая будет жадно схвачена. Заводит разговор о матери, хотя почти никогда не рассказывает про нее посторонним, особенно Гертруде. – Засиделась у больной. Прихворнула ее соседка, Тересе.
– Та монашка? Осторожнее, детка, со святошами, – строго поучает Гертруда.
– Еще с гимназии дружат. Старые больные женщины.
– И все же, и все же. А тобою, детка, я восхищаюсь. Ты достойна похвалы. Кому и заботиться о беспомощных родителях, если не детям? Правда, теперь многие легко забывают этот долг.
– Я ничем не лучше. Был бы выход…
– Не скажи, детка. Твоей, хоть она и тяжелая больная, повезло.
Гертруда не перестает хвалить пустыми, бесцветными, будто в хлорке вымоченными, словами, потому что и на шаг не желает приблизиться к матери Лионгины, к ее болезни, одиночеству. Впрочем, можно ли хотеть, чтобы посторонний человек не воротил носа, если я, дочь, стиснув зубы, едва выдерживаю? Никогда не прощу ей молотка – гнала отца к бочке и в конце концов загнала в болото… И лицемерия, упрямой ее решимости не сдаваться, которые ненавижу и которыми восхищаюсь, – простить не могу. Закрываю глаза, убираю и бегу прочь, испытывая отвращение к самой себе. С головы до пят измазана гнилью, бактериями разложения и тления. От меня можно любую заразу подхватить. Особенно опасно это для Алоизаса. И хоть стараемся не упомянуть его имени, оно витает между нами как напоминание о другом, более высоком и значительном долге…
Так же, как сейчас – благосклонно и холодно, стараясь не выдать себя подозрительным блеском, – следили за ней круглые и светлые, словно прикрытые тончайшим стеклом, глаза Гертруды, когда носила она в своем чреве продолжателя рода Губертавичюсов. Должно было произойти нечто необычное, способное перевернуть вверх ногами все мироздание и разрушить иерархию устоявшихся ценностей, – уж не заменит ли новый идол, беспомощный, но больше обещающий, прежнего? – однако беспокойство не проходит, только накапливается, когда смотрит она на Лионгину – хрупкую и ненадежную оболочку, которая должна вынашивать и защищать крепостными валами хрупкую завязь надежды.
– Тебя не подташнивает, детка? – настойчиво выспрашивает Гертруда.
– Нет.
– А голова? Не кружится? В глазах не мелькает? – продолжает допытываться она.
– Вроде нет.
– Ешь морковь, новорожденный не будет болеть желтухой. – Гертруда изучала соответствующую литературу. – Кисленького, скажи, не хочется?
– Нет, вроде бы нет. – Лионгина с удовольствием ответила бы: да, Гертруда, да! Сама смущена – тошноты нет, ноги не отекают, даже живот не особенно велик – округлился немножко и чуть более упругий под ладонью Алоизаса.
– Когда была в консультации? Я бы на твоем месте сходила.
– Позавчера была. Уже третий раз.
– Что сказали?
– Все нормально. Врачиха меня похвалила.
– Приятная новость, очень приятная, – хвалит и Гертруда, но светлые, словно стеклянные, глаза далеко не убеждены в этом, они продолжают рассекать чрево Лионгины в стремлении проникнуть туда, где во влажном тепле, питаемый таинственными соками, дремлет наследник.
Недовольна собою и Лионгина, будто прикидывается беременной, хотя ее никто ни в чем не обвиняет, напротив, окружают все растущей заботой. Наверно, она не такова, как другие женщины, потому и будущий человечек не смеет ей надоедать, лишь изредка напоминая о себе слабыми толчками. Понемногу приучает к покойной и мягкой поступи, к ровному течению мыслей и глубоким, прощающимся с молодостью, вздохам. Зачатый не любовью – исступленной страстью, – надеется постепенно усыпить сопротивление ее души, примирить с женской судьбой, которой противопоказаны мятежи и бурные вихри.
– Не глупи, детка, даже если все складывается нормально, – вежливо выговаривает Гертруда, не растягивая своей впечатляющей, вызывающей у Лионгины ужас верхней губы. – Зачем мыла окна?
– Мухами засижены.
– Грязь всего мира не соскребешь. Думай о себе и о ребенке.
– Хочется больше света, – вырывается у Лионгины.
Бдительно присматривающиеся к малейшей перемене глаза Гертруды остаются суровыми. Они сомневаются не столько в обстановке, в более или менее благоприятных условиях, сколько в самой раковине, где зреет жемчужина. Должным ли образом оберегается хрупкая драгоценность от физических воздействий, от капризов обмена веществ, от кишащего инфекциями быта, а главное – от незрелой психики будущей матери? Что-то случилось у Алоизаса и Лионгины в горах, сестра чувствует это, как ноющее колено перед ненастьем, как будущую пустыню своего одиночества, – обвал настиг или другая катастрофа, оба сильно изменились, однако едва ли в желательном направлении. Лионгина и словом не обмолвилась о том, что между ними произошло, этой беременной женщине она, сестра мужа, – чужой человек, а Алоизас слишком горд и замкнут, чтобы делиться с ней своей семейной неудачей. Что мы знаем о загадках природы, о коварстве наследственности? Кто может поручиться, что пагубные последствия катастрофы не отразятся на младенце? Пытаясь проникнуть в беременную собственными и его, Алоизаса, глазами, Гертруда выдает то, что он душит в себе, стараясь встать выше изнуряющих сердце опасений и подозрений.
– Врачи не предупреждали? Ни об отрицательном резусе, ни о малокровии?
– Не волнуйтесь, Гертруда. Кровь хорошая. Говорят, все в норме.
– Дай бог, дай бог.
Впервые при Лионгине сестра мужа помянула бога. Она строго придерживалась атеистических принципов – никогда не божилась, даже не признавала традиционных рождественских блюд.
– Беременная? Хорошенькая клизма тебе, Йокимас!
Человек, похожий на врача и одетый в наспех наброшенный халат, не может совладать с набухшими губами и отвисшими, заросшими щетиной, будто сажей вымазанными, щеками. Его лицо, а также взъерошенную щеточку усов сотрясает едва сдерживаемый смех, словно он лишь посторонний человек с улицы маленького городка, а не хирург, чьи чуткие, как у слепого или скрипача, руки, жесткие и уверенные, только что поставили диагноз – аппендицит. И не какой-нибудь обыкновенный. Гнойный.
– Третий месяц? Четвертый? Выкладывай, как ксендзу на исповеди! – Врач, назвавший себя Йокимасом, сразу начинает тыкать Лионгине. – Когда забавлялась с мужем, небось голубкой ворковала, а? – И снова, едва сдерживая смех, бормочет себе под нос: – Хорошенькая тебе клизма, Йокимас!
– Шестой… шестой, доктор… – заставляет себя простонать Лионгина, ошеломленная диагнозом, а еще больше осмотром. Она и рта не открыла бы, если бы не сводящая с ума боль и не страх за ребенка, который, почувствовав опасность, заволновался – пытается извернуться, выскользнуть из болевой области.
– Просто везет, если шестой. Как в лотерее! А, Йокимас? – Хирург, заросший щетиной, разговаривает сам с собой, то хохочет, то чуть не скрипит зубами от ярости.
Отойдя от кушетки, поддерживаемый под руку круглолицей женщиной с испуганными глазами, наверно хирургической сестрой, он покачивается, распространяя вокруг алкогольный дух. Какой дьявол посоветовал этой бабенке везти свой гнойный аппендицит в наш забытый богом городишко? И не в рабочий день, а в воскресенье? И не в обычное воскресенье, а в судное, когда корифей местной хирургии Йокимас обмывает развод со своей былой избранницей? Мало тебе одного сюрприза, Йокимас, на второй – гнойный аппендицит на шестом месяце!
– Скажите, доктор, ситуация опасная? – обдумав каждое слово, чтобы не спросить ничего лишнего и не помешать доктору, заговорил наконец Алоизас.
Никакой реакции, никто не обращает внимания ни на него, ни на его с важным видом произнесенную фразу. Досада на то, что они попали в сложное, зависимое положение, жалость к терпящей страшные муки жене разрывают сердце. Кроме этих терзающих его чувств, раздражает идиотская мысль: как он смешон с ее оранжевой кофтой в руках. Захватила, так почему не надела там, во дворе замка? Может, и не прохватил бы насквозь ветер и не пришлось бы теперь с виноватым видом топтаться в бывшей богадельне около по-деревенски большой печи, облицованной коричневым кафелем. Глупо думать такое, но что, что предпринять, если она с каждым стоном отдаляется, выскальзывает из рук, оставив ему свою дурацкую кофту? В этот далекий городок они приехали вдвоем, он – читать лекцию, она – посмотреть развалины замка. Развороченный фундамент, груда красного кирпича и смирная пестрая коровенка, хрумкающая траву, – вот и вся древность. Лионгина озябла, беседуя посиневшими губами отнюдь не с историей – со сторожем, озабоченным своей охромевшей коровой. Какое тут высокое небо, тебе не кажется? – она стояла возле реставрируемых железных ворот, и в этот миг ее пронзила боль. Да так сильно, что она вскрикнула, словно ножом полоснули. Ее желание поехать вместе с ним не понравилось Алоизасу с самого начала, как и сам городок, и остатки замка, и больница в бывшей богадельне, где все, по его мнению, было полной противоположностью современному лечебному учреждению.
– Что тут надо этому парню? – уставился на него мутным взглядом хирург, и Алоизас, которого никто и никогда парнем не величал, не на шутку рассердился бы, если бы руки не связывала оранжевая тряпка и не стонала бы на жесткой клеенчатой кушетке Лионгина, нуждающаяся в немедленной помощи. Прижмется здесь к печке и будет молчать, чтобы не помешать врачу. Из-за огромной печки в приемном покое так тесно, что даже дыхание постороннего человека мешает. – Так что, Йокимас, – с самим собою, словно с невидимым, но реально существующим ассистентом, советуется хирург, – в операционную?
– Не смейте оперировать, доктор! – сверкает белками глаз круглолицая сестра.
– Ладно, не будем оперировать. Невелико удовольствие мучиться в судный день. Пусть бабенка помирает. Ее ребеночек – тоже. Хорошо это будет, Казе?
– Вы же пьяный, доктор, пьяный! – будто защищаясь от злого духа, машет на него сильными крестьянскими руками сестра Казе. – Ступайте проспитесь. Под холодный душ и в постель! Есть пустая палата.
– Пил, признаюсь, но не пьяный! Мою боль водкой не зальешь. Ошибаешься, Казе, голубушка, – мотает головой врач. – Пусть парень скажет – пьян я или не пьян?
– Не пьяны… Спасите ее, доктор, – покорно соглашается Алоизас, проглатывая парня. Избегает глаз сестры, надо только, чтобы они перестали сверкать, и доктор выпрямится, не будет качаться. Теперь я действительно похож на парня. Жалко Лионгину, исходящую от боли, жалко себя, и единственный выход – опустить глаза.
– Утром, доктор, на свежую голову, – уговаривает, как непослушного ребенка, сестра Казе доктора Йокимаса.
– Хитрая ты, Казе, но как была деревенщиной, так ею и останешься. Утром будет поздно. Может, и теперь уже поздно, откуда мне знать? Марш к инструментам, не заговаривай зубы! – Врач кричит, дряблые щеки трясутся. – А мы с тобой, Йокимас, возьмем себя в руки, и скальпель заиграет у нас, как смычок!
– Опасно, доктор! Что вы делаете? Себя пожалейте, – только словами сопротивляется сестра.
Доктор весело, как на качелях, приседает, выпрямляется, показывая, как он крепок, гибок, прям.
– Как же! Не было бы опасно, стал бы я возиться в такой радостный для меня денек? – На самом деле уже не день – поздний вечер, даже ночь, и неоткуда ждать помощи, кроме как от него, шатающегося богатыря, – встретишь такого на улице, примешь за потерявшего шапку пропойцу. – Опасно, как же не опасно. Если что, все собаки завоют: оперировал в нетрезвом виде! Один пьян, только понюхав, другой хлещет и не напивается. Йокимас вот этими руками не один десяток из лап смерти вырвал. В судный день никто этого и не вспомянет.
Она задыхается не от наркоза – от запаха водки, бьющего сквозь хирургическую маску, – так казалось Лионгине и после операции, когда она пришла в себя в уютной, с деревянными стенами палате, и позже, в санитарной машине, которая мчала ее в Вильнюс, время от времени жутко завывая, потому что, как огонь, вспыхнул сепсис и необходимо было спешить. Она все еще боролась с водочным перегаром, ничего не зная о пожаре, который не сулил ей спасения. Даже стеклянные глаза Гертруды, разыскавшей ее в огромной палате клиники после повторной операции, опустошившей ее чрево – в раковине больше не было жемчужины! – не решились ни в чем обвинять ее. Лионгина находилась по ту сторону, куда не проникают ничьи глаза, только звуки и запахи. Теперь это снова был перегар изо рта Йокимаса. Так пахнет смерть?
Когда-то ей казалось, что она хочет умереть, говорила о смерти, Алоизас удивлялся и протестовал. Смерть, как ей представлялось, была бы внезапной, пахла холодным камнем, увядшей колючей травой и полетом, похожим на полет птицы, не расправившей крыльев и не противящейся земному притяжению. Смерть, подкрадывавшаяся к ней здесь, в больнице, дурно пахла. Умереть – значило долго задыхаться. Эта мысль, достигнув сознания, пронзила ее тело, наполовину погрузившееся в небытие, и не позволила провалиться окончательно. Понемногу молодое, не балованное лекарствами тело задушило пожар, и небытие вытолкнуло ее на игровое поле, именуемое жизнью. В палате, где перемывают косточки мужьям, где смеются и плачут из-за мелочей точно так же, как по серьезному поводу, стоял душащий алкогольный запах, он превратился для Лионгины в аккомпанемент раскаяния. Она не была верующей, но, когда ее бросало то в жар, то в холод, не сомневалась: это расплата за что-то – скорее всего за глупые мечты, за безответственность. Чувство вины особенно придавливало ее, когда в вену по капле переливалась кровь других людей. Эти другие, и прежде всего Алоизас, вынуждены платить за ее ошибки: за взрыв чувств и запоздалую беременность. То и другое – ее бунт в горах и аппендикс, нестерильно удаленный хирургом Йокимасом, – противоположные берега моря. Две эти катастрофы невозможно связать здравым рассудком. Хотя он-то меньше всего и устраивал ее, этот здравый рассудок, заставлявший в послеоперационной палате клиники прислушиваться к однообразному пощелкиванию монитора – ритм твоего сердца хороший, ритм сердца хороший! – и отгораживаться от сбивчивого, означавшего аритмию. Какая-то другая женщина мечется в агонии, не ты, уговаривал здравый рассудок не желающую слушаться, не желающую дышать, не желающую жить, но так же яростно не желающую задыхаться от алкогольного перегара, настоящего или воображаемого. Ни теперь, ни когда-либо позже. Никогда. Окрепшую и раскаивающуюся здравый рассудок усмирял жестче: пятнами крови на простынях, которые санитарка сменит за рубль, исколотыми венами, абсцессом, – когда его будут вскрывать, гной окатит половину процедурного кабинета. Хорошо дышать, хорошо прикасаться к чистой наволочке, даже если не собираешься жить. Выздоровев, Лионгина уже не думала о расплате и других подобных вещах, больше напоминающих веру, чем чувства. Она провинилась перед Алоизасом и постарается загладить свою вину. Добротой, заботой, самопожертвованием. Протянулась ниточка, за которую она будет держаться, медленно бредя по берегу жизни и не опасаясь больше сорваться в пропасть…







