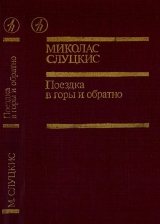
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
Лионгина заправляет в каретку очередной глянцевый лист. Робот медлит, не подключается. Приходится самой целить средним пальцем: стук, стук, стук. Сдается комната. Обращаться по телефону… Стук, стук, стук. Все? А кому сдается? Едва ли артисту гастролирующего цирка с дрессированными морскими свинками. Или семье из трех человек, которые срочно снимут отдельную комнату. Стук, стук, стук. Желательно девушке или одинокой женщине. Робот такой чуши не отбарабанил бы. Одинокая женщина официально не существует. Остается девушка. Шуршит выдранный из-под валика лист, скрипит вставляемый туда новый. Палец долбит, как клюв хищной птицы. Сдается комната девушке. Какой девушке? В наше время девушка – понятие растяжимое, прямо-таки необъятное. Красящее волосы существо от шестнадцати до сорока шести лет, как шутит Алоизас.
Ее имя возникает прописными буквами в ненаписанном тексте. Начальник любит испещрять такими свои воспоминания. Нет, Алоизас ничего не должен знать об этом объявлении. О девушке между шестнадцатью и сорока шестью, которая будет красить волосы. Это его не касается, как меня прошлогодний снег. Важно, чтобы девушка не привела детей или морских свинок. Почему свинок? Лучше уж нутрий – мех на воротники и вкусное мясо. Лионгина тупо уставилась на лист перед собой, не понимая, откуда взялись нутрии. Девушка, вот что главное. И чтобы руки у нее были умелые. Едва не отбарабанила последней фразы, откинулась на спинку стула. Лучше всего, если бы эта девушка была медсестрой или санитаркой. Ведь ее ждет не только комната с удобствами, но и беспомощная больная. Гора сала. Протухшая гора. Желательна медсестра или санитарка. Последнюю строку, невзирая на сопротивление Лионгины, отгрохал робот. Резвишься? Все равно не будет по-твоему! Хорошо воспитанная, с чутким сердцем. Не пьющая, не курящая, не приводящая в дом мужчин. Снова автомат. Он что, ошалел?
Лионгина выдирает очередной лист, рвет в клочки. Робот не унимается, буквы колотят по валику. Согласная заменить больной женщине родную дочь.
В левой руке раздувшаяся авоська: четвертинки белого и черного хлеба, бутылка молока, кусок голландского сыра, ком масла, пачка обезжиренного творога, двести граммов докторской колбасы, кило сахара, пучок лука, несколько морковок, в полиэтиленовом пакетике – театральные леденцы. В правой: завернутая в плотную бумагу желтая хризантема на длинном стебле. Белых она не любит, и ключ, твердо сжатый в пальцах, как консервный нож, – ведь по ту сторону двери – густая, законсервированная масса, она бьется о стены, просачивается сквозь замочную скважину в коридор, растекаясь тягучей смолой воспоминаний. Иногда Лионгина меняет руки, так как авоська оттягивает плечо и начинает ныть шея.
– Кто там? Ты, Линка? Наконец-то, негодница, наконец-то.
Глухой голос доносится не из большой, по-старинному сводчатой комнаты с окнами, затянутыми гардинами, а словно из черной дыры, ведущей в небытие.
…не стой как преступница, опустив голову, смелее встречай мечущий молнии, насквозь пронзающий взгляд! Ладони горят, Лионгина тайком проводит ими по юбке, грубая материя впитывает липкий пот, но руки, тело, голова снова раскаляются. По желобку на груди стекает капля – прижаться бы спиной к прохладной, метровой толщины стене, а еще лучше сунуть голову под кран, чтобы побежали по шее холодные змейки. Матери-то не жарко, она вышагивает взад-вперед по комнате, выбрасывая из-под халата красивые ноги. В стандартной блочной гостиной сразу бы наткнулась на черное пианино, а тут даже не задела, будто его и нету, – так просторно. Развеваются полы длинного нейлонового халата – белые кленовые листья на темно-синем, почти черном фоне, блестят вьющиеся, вымытые вчера вечером с хной и заметно посветлевшие волосы, а рука, сжимающая сигарету, выцарапанную из валяющейся на столе пачки, чертит в воздухе огненные дуги, которым тоже просторно под украшенным лепниной потолком, кстати, сильно облупившейся.
– Только и дела было – переписать со шпаргалки. А она и того не может, люди добрые! Срезаться в консерваторию на литовском!
Добрых людей в комнате не густо – хотя уместилась бы целая толпа – она, мать и отец с выражением виноватого ребенка, втиснувшийся между пианино и телевизором, за перистой пальмой, которую мать притащила из своего детского сада, – она заслоняет отца и листаемую им книгу.
– Одна, что ли? Пойдет работать. Подумаешь, какая трагедия, – робко подает голос пальма.
– Прекрасно, соломоново решение!
Мать вертится, как флюгер при переменном ветре. Ее движения, взгляды и слова как бы подогреваются ощущением простора. После того как убрали кровать и прочую рухлядь бабушки Пруденции, комната стала большой, как зал. Нет больше подушечек, вышивок, полочек, верб, исчез запах больного и лекарств, однако что-то невидимое осталось и не выветривается.
– Работать так работать. Может, бывший заместитель министра порекомендует нам доходное местечко?
– Мест дополна. Молодые руки всюду нарасхват. – Заместитель министра пропущен мимо ушей, но пальма вздрагивает в бочке от сдерживаемого отцом волнения. Замминистра был он не по своей охоте, а по воле исторических обстоятельств, не принимавших в расчет, что он простой рабочий-самоучка, напротив, эта деталь и обусловила его выдвижение на гибельные высоты.
– Значит, на завод, к станку? Мало ли нынче девчонок токарничают, фрезеруют, таскают бревна и шпалы? Мало их по вечерам, накрашенных, с распущенными волосами, танцуют с лысыми старыми идиотами в ресторанах? Что еще порекомендует нам товарищ директор?
– Давно уже я не директор и по креслу его не скучаю. – Отец встряхивает головой, как норовистая лошадь, но терпение пока сохраняет. Никогда грубо не срежет жену, хотя к директорству, вернее, к его печальному финалу и она причастна. – Что стоишь, Лина, как соляной столб? Иди сюда! – зовет он другим, потеплевшим голосом и неуклюже взмахивает рукой – выскальзывает и шлепается на пол его книга.
– Уж помолчал бы лучше о своем директорстве! – Мать забыла, что и директора сама вытащила из небытия. Вихрем мечется перед пальмой, под которой, как филин, нахохлился отец, изредка позволяя себе разевать клюв. Мать едва не пинает книгу. Спиноза. Избранные произведения. – По всей Литве прославился, но, к сожалению, не в качестве директора, а как каторжник. Да, да, каторжник! – громко выкрикивает мать, будто не сама потянула из прошлого этот позор. – Мог бы нам не напоминать!
Нам? Теперь потребовалась она, Лионгина, чтобы сломить слабое, но все-таки не прекратившееся сопротивление мужа. Был он и директором, и каторжником, как кричит мать, но проведенных в тюрьме лет не стыдится, ибо если все – и высокие посты, и тюрьмы – сотворено для людей, то разве он не человек? Его охмурили хитрые и жадные, объяснял он дочери, хотя та его и не осуждала – их глаза по-прежнему не встречались, – где уж простому рабочему выиграть битву у объединившихся спекулянтов Литвы и нескольких соседних республик! Нуж-но, сказали ему, вызвав наверх, тебе необходимо реабилитировать себя после провала в министерстве, а нам ну-жен честный человек, чтобы разорить осиное гнездо, свитое мошенниками. Каждые три года прокуратура перетряхивала руководство фабрики. По старой солдатской привычке отец щелкнул каблуками, пусть война уже давно кончилась, послевоенные битвы тоже, и если велась борьба, то за душу человека. Тут, правда, по словам отца, мы иногда бьем мимо цели – плохо эту душу знаем, меряем на метры и сантиметры, как фанеру или ткань. Тот, говорим, вырос на столько-то, другой выше себя поднялся, то есть выше собственной головы прыгнул, а один поэт даже срифмовал черным по белому, что сознание выросло за зиму – как овечья шерсть. Были и другие причины, Лионгина догадывалась, почему отец погорел на фабрике верхнего трикотажа, так и не сумев своими сильными руками разорвать обвившую ее паутину.
– Не надо никого винить, как есть, так и ладно.
Не вставая, он тянется к книге – осторожно и нежно, как к уползающему младенцу. Шершавые, натруженные, похожие на коряги руки. Как будто не нежились на сукне дубовых столов. Что-то у него внутри хрустнуло, когда упал с высот на серую мостовую, мысли потекли медленнее, крутятся неспоро, как жернова, а руки все такие же. Им хорошо, как есть, а лучше всего – когда ухватят книгу. Визг матери не выбил бы ее из отцовских рук, думает Лионгина, дрогнули они из-за моих горестей. Нет-нет, и теперь старается прикрыть меня отец, как в детстве, своим озабоченным голосом, однако стесняется указывать или поучать, чтобы не причинить вреда растущему существу. Растущая девочка хрупка, как деревце, пересаженное из питомника, сберечь бы от болезней и вредителей, а ведь его собственные мысли неспокойны и мучительны – так и царапают мозг. Счастье, говорите, счастье? Может ли один быть счастлив, если в мире сотни миллионов несчастных? Не только голод, рак или атом, не только… В свое время он свято верил: скрутим классового врага, поставим человека на ноги, а потом, как новогоднюю елку, внесем в его дом счастье. Теплый, сытый, чистый дом – кто скажет, что такой не нужен? Однако кто в этом доме будет жить – вот вопрос! Какими будем мы, вселившись в него? Помнишь, я избил ворюгу-шофера? Ему одного дома мало – двум сыновьям по дворцу отгрохал. Предложи мне дворец – не возьму. Тебе тоже надо иное, чем тому ворюге. Каждому нужно свое, чтобы морщины у него разгладились. Но правильно ли будет – уничтожить все морщины? Может, человек без морщин, без следов страданий – неполноценен? Не довольствуясь человеческой жизнью, отец захватывает бесконечность Вселенной, которая неизвестно, разбегается ли в стороны или постепенно сжимается, – из книг нахватался он знаний не только в области астрономии, но и астрологии. По мнению одних, могучие астральные силы влияют на наше бытие, даже на обмен веществ в организме, – может, так оно и есть, если даже грибы растут в зависимости от фаз луны, – однако разумны ли эти силы, целесообразны ли, осмыслены кем-нибудь? Не такой ли хаос царит в космосе, как на маленькой планете людей?
– Не согласна и никогда не соглашусь! – Мать снова решительно вышагивает, разбрасывая коленями полы нейлонового халата, снова чертит в полумраке комнаты огненные дуги сигарета, уже новая, выцарапанная из пачки вместо смятой и брошенной. – От этого себялюбца, от этого рохли помощи не дождешься. Зачем впустую языком трепать? Но ты, Лина, ты! Я ничего не жалела, учителей наняла, у судебных исполнителей из пасти пианино вырвала!
После того как отца осудили, пришли конфисковать имущество. Ничего особенного не было – материна шуба, пачечка трехпроцентных облигаций. Возможно, часть ценных вещей мать рассовала по знакомым или распродала. Пианино в квартире – как слона в зоопарке – не спрячешь, и мать развила бурную деятельность по его спасению. Призывы о помощи и причитания подняли на ноги десятки бывших соратников отца по подполью, войне и послевоенному восстановлению – судебным исполнителям не удалось увезти пианино. В письме группы товарищей, адресованном в Президиум Верховного Совета республики, пианино было названо учебным пособием, подобным учебнику родного языка, а она, Лионгина, подающей надежды будущей пианисткой. Подействовали, разумеется, не эпитеты, а фамилии подписавшихся, в том числе полковника в отставке и известного, работающего над молодежной темой, писателя. Когда пианино снова водворилось в квартире, уважение матери к себе сильно возросло. Вырванный из хищной пасти судьбы инструмент свидетельствовал, что не все потеряно. Опираясь на него пухлым, белым локтем, мать разглагольствовала о будущем. Лионгина с трудом заставляла себя поднимать тяжелую крышку. Отца мы променяли на черный ненужный ящик. На черный гроб.
– Ответишь ты наконец или глухонемой стала? О слепых и глухонемых заботится государство, а кто о тебе позаботится? Думаешь – он? Я не вечно жить буду!
Взрыв материной энергии повергает Лионгину, потянувшуюся к отцу, в дрожь. Она пытается рассмотреть в открывшейся книге треугольную печать. Законно ли отец получил в библиотеке книгу или снова одолжил? Пристрастился одалживать и не возвращать редкие издания. Вдруг снова под суд пойдет, как бывший расхититель, пусть посягает теперь только на мудрость философов.
– Не выкручивайся, Линка, отвечай! Что за хворь такая тебя скрутила, даже пера в руках удержать не смогла? Чтобы завалить в консерватории литовский письменный, нужен талант. Талант терпеть поражения! У вас обоих этого таланта с избытком, хоть и не родственники. Да, да – не родственники, что вы на меня уставились? – Смерч слов и резких движений опаляет Лионгине кончик носа.
– Бабушка Пруденция. Она так на меня посмотрела…
– Когда это было? Сто лет! Чего чушь порешь?
Вихрь злобной энергии спутывает Лионгине волосы, выхватывает вислоухий клетчатый бант, выдумку матери, – детский бант для очарования экзаменаторов. Лионгина не решается рассказать о страшном, преследовавшем ее бабушкином глазе, который уставился на нее со столика в аудитории. Мать при всем желании не поймет, другое дело – отец. Они не говорили о бабушке, но над ее освобожденным углом нередко скрещивались их мысли. Глаз вскочил в окно, даже потемнело, мутно желтели стены и потолок. Лионгина запросто написала бы – стихи Саломеи Нерис знала наизусть, к тому же в рукаве шуршало сочинение, которое накатал кандидат наук, благодарный за прием в руководимый матерью детский сад двух своих карапузов. Бабушкин глаз чернел на листе печатью – на скромном поле не вспаханных Лионгиной надежд, над красивым, пестрящим гастрольными афишами будущим, которое рисовала материнская фантазия. Надо было бы крест-накрест перечеркнуть лист с глазом бабушки и попросить новый, тем более что не было никакого глаза – игра светотени, внезапное, ударившее наотмашь воспоминание. Надо было лишь во второй раз отречься от бабушки, бросить на нее еще одну лопату черного забвения, и не обжигала бы теперь ярость матери, не выдирала бы бант из волос, и в углу не сутулился бы все понимающий, сочувствующий и оттого еще более жалкий отец.
– Выдумки слабаков и бездельников! Подумать только, бабушка на нее жалобно посмотрела на прощанье. А что она, кадриль должна была сплясать? Вот я, твоя мать, от горя пальцы кусаю, – растопыренные пальцы матери сверкнули пурпурным маникюром – никогда она пальцев не кусала и волос на них не наматывала, – а ты милосердная? Что-то не видать, чтобы в обморок падала. Бабку, память потерявшую, ей жалко, а матери, видите ли, не жалко!
– Куда-нибудь в другое место поступит девочка, если работать не начнет. Говорят, медсестер не хватает, – подает голос из-под пальмы отец. Будто сам провалился на сочинении – такой виноватый у него голос, но головы ей не погладит и в глаза не посмотрит. Она стоит оцепеневшая, съежившаяся, колючая, заранее зная, что он не подойдет, а если и рискнул бы, то она сердито ощетинится. С раннего детства чаще видела его плечо, затылок, чем глаза. Удаляющегося – не подходящего.
– Девочка? – Мать задевают не столько слова, сколько всегдашнее взаимопонимание между дочерью и отцом. Чем сильнее провинился один из них, тем снисходительнее к нему другой. – Я в ее годы уже ноги мужу мыла! К несчастью моему, они вечно в навозе были. До сих пор отмыть не могу…
– Может, не надо бы при ребенке, а? – Отец выбирается из своего насквозь продуваемого укрытия. Его седая голова и повисшие руки дрожат.
– Не ребенок уже! Заставлю работать, работать! – бьется в стенах комнаты мать, как большое насекомое. Лионгине приходит в голову, что она похожа на красивую злую осу. – А у тебя опять горло пересохло от жалобного кряхтения? Ну и ступай к своей бочке, ступай!
– Говоришь, сходить?
– Ступай, все равно пошел бы!
– Пошел бы, говоришь?
Отец оборачивает книгу газетой, бумага шуршит в его дрожащих руках. По дороге отнесет в библиотеку, радуется Лионгина. Чего же медлит? Не спешит к пивной бочке? Стиснул книгу двумя руками, чтобы не сжимались кулаки. Их всегда боялась застывшая у порога девочка. Сквозь доброту и снисходительность детским сердцем ощущала горечь, холодный каменный комок. Вдруг прорвется ненавистью и станет тем злом, против которого он сам всегда встает на дыбы? Ее скорчившаяся фигурка была для него предостережением, знаком опасности перед неожиданным, крутым, неизвестно где кончающимся спуском. И все-таки – девочка. Была, есть и будет девочкой. Ее мать никогда не была девочкой. Скорее всего родилась женщиной с избытком буйной энергии в крови.
Вопрос отца – ушел ли бы он без понуждения? – мать пропустила мимо ушей.
– По-твоему, и с ворами, расхитителями по собственному желанию связался? – спросил снова, как давно уже не спрашивал.
– Дурак, вот и попал им в руки!
– Я тебя всегда уважал, Лигия… Слышишь? Не только любил, но и уважал. Если не уйду теперь хоть на минуту, не смогу больше… Ей-богу, не смогу…
Не говорит, чего не сможет, объяснить про такое не легче, чем про космические силы, якобы влияющие на судьбы людей.
– Очень ты мне нужен. Скоро вообще около бочки поселишься!
Мать кричит, вслушиваясь в каждое свое слово, и сердце Лионгины сжимается от предчувствия, которое еще горше, чем ее печальное возвращение с экзамена, – так будет, так действительно будет.
И еще кричит мать, но это уже пустые слова, их, будто осколки дешевого стакана, без жалости выметут прочь:
– Сидите на моей шее оба! Лентяи, растяпы, эгоисты! Надорвусь, что делать станете! И он, и ты, ледышка!
Последний залп отца не задел. Пошатываясь, уносит книгу, ненужный свой бунт и никого не согревающую доброту. Сразу же нечем дышать, словно он и воздух с собой унес. Мать и та задыхается.
– Я все… все буду делать, мама! – Лионгина припадает на колено, как в костеле. – Все, что скажешь. Только возьмем назад бабушку, ладно? Давай возьмем бабушку!
На красивом лице матери судорога боли и отвращения.
– Что возьмем? Труп?
Она не обращает внимания на всхлипы дочери – будто ржавая жесть на ветру лязгает. Дымит сигаретами, раскидывает, расхаживая по комнате, полы халата и время от времени усмехается своим мыслям, которые гонит вперед безумная, собранная для новых замыслов энергия.

…войти, гордо выгнуть длинную шею – после того, как постриглась, стала еще длиннее, – рассмеяться огромным ртом – распух от помады, от чужих губ, – только не ловить воздух, ища глазами уголок, где можно выплакаться, Еще глупее всхлипывать, когда мать сжимает себе руками голову. Не знает, что с ней, трет лоб и жалуется на боли. Все, что сваливается внезапно – уличный грохот, новости, солнечный луч, – бьет ее по глазам. Гардины наглухо задернуты, висит застаревший запах сигарет. Курить ей строжайше запрещено. Не обращала бы внимания – не доверяет врачам, – однако, как покурит, становится хуже. Больше всего жалуется на бездействие. Не может, как привыкла, ходить, высоко вскидывая колени. Ее большое тело часто поводит в сторону. Не она клонится – стена или мебель. Вцепится в кресло, руки дрожат, волосы грязные, свалялись. В таком положении остается недолго. Не ей горбиться в кресле, уставившись в одну точку или погрузившись в воспоминания, которых, захоти она, было бы очень много. Сосредоточиться не дают наплывы боли, подгоняющие друг друга планы и дела, хотя главная забота с нее свалилась – ледышка выдана замуж.
– Чего ломаешься, как в гостях? Смочи полотенце. В холодной воде. Очень холодной.
Прогибается под телом матери тахта, вминается груда подушек. От компресса немного приподнимается нависший над головой потолок, на веки перестают давить невидимые пальцы.
– Рассказывай, как там было? Очень боязно? Ты ведь трусиха. Не предупредила я тебя…
– Ничего не было, мама.
– Не заговаривай зубы. – Мать срывает со лба полотенце, Лионгину шлепает по щеке теплая капля – Такой мужчина и – ничего? Не ложились?
– Как ты можешь о таких вещах, мама?
– Матери все можно! Молился он, что ли? Как твой папенька? – Мать неожиданно добро улыбается и молодеет. Ее снова шатнуло, но не в пространстве, во времени, и она очутилась там, где была давным-давно. – Неужели я тебе не рассказывала? Извини. Нам постелили на сене, у его двоюродного брата. В городе мы не хотели, город в тот день был страшным… Вообще-то отец не хотел, плюнул на хоромы, а тут сарай лесника: угол для коровы, теленка огорожен. Как важным господам, нам, конечно, кровать предложили. Знаешь деревенских – прогнал жену и болеющего свинкой мальчика, набил сенник свежей соломой – и милости просим, ложитесь, зачинайте деток! Спасибо за доброе сердце, лучше в сарае. Весь день ни крошки во рту не держали – страшным был тот день, еще не война, но уже пахнет ею… Поели в избе ржаного хлеба с окороком, хлебнули деревенского пива. Ослабла – на ногах не стою, а признаться боюсь, и дурацкий смех подкатывает. Еле дотащилась до сарая, на сене просторно, ароматно и страшно. По балкам кто-то снует – уж не крыса ли? – возле ушей жучки копошатся. И слышно все, что снаружи происходит: кто проехал, протопал, двое мужчин разговаривают. Курят и толкуют, плюхнувшись на скамью. Твой отец – мужчина крупный, нисколечки тогда не сутулился, а кузен его – маленький, невзрачный, но вцепился и не отпускает. Как я его ненавидела!
– Witam państwa[3]3
Приветствую вас (польск.).
[Закрыть], но что теперь будет? Ты поближе к властям, Тадас. Разъясни.
– Жить будем. Жить, говорю, будем. – У Тадаса на уме сеновал, девушка, но тут кузен, да еще руку помощи протянувший, о политике рассуждающий. – Спички будут дешевые, керосин, гвозди. Чего тебе еще надо? Чего хнычешь?
– Кому неохота лучше жить? Всем охота. Но вот нашего лесничего вывезли, witam państwa. Тихий был человек. Что же теперь будет?
– Значит, сволочь, раз вывезли! – Тадас встает, на расстоянии чувствует, как горю на сене, да и сам пылает, но кузен как прилип к скамье, и он снова садится. – Все остальные будут жить. Детей в настоящую школу отдашь – не в пастушьи университеты! Чего хнычешь?
– Кто не хочет школ да докторов задаром? Все захотят. Но почему, witam państwa, твою барышню увозят в Сибирь? – услыхала я, и вновь заплясали перед глазами дневные страхи. Жуть, что пережила. Опять подкрадутся в темноте, схватят и увезут? Хочу закричать – не могу. Платьице дешевое, сумочка… Она тоже – сволочь, witam państwa?
– Ее не трожь! Никто не смейте ее трогать! Ошибка, страшная ошибка тут, понимаешь? Ошибается иногда и революция, мужичья твоя башка! Никому Лигию в обиду не дам! Никому!
Слышу, вскочил и – к сараю. Сам испугался, что меня выкрадут или выскользну сквозь щель в стене! Лежу высоко, на сене душно, от выпитого пива, от бесконечного ожидания кровь бешено стучит в висках, а твой папенька, вместо того чтобы поскорее забраться ко мне, опустился на колени возле плетушки с цыплятами. Жена лесника собиралась утром в город, но в суматохе, из-за нашего вторжения, забыла их выпустить. Цыплята попискивают, он что-то бормочет и смеется, как полоумный. Что ты там делаешь, ору, перепугавшись, что и его этот день по голове огрел, – ведь такой жуткий был день! – а он: любви молюсь, она меня, увальня, из тысяч, достойных ее милости, выбрана. Жалко мне его стало, хрустнуло что-то в сердце – любовь не любовь – не знаю, захотелось встать рядом с ним на колени. Ведь почти совсем не знала его и себя не знала, а тут такие слова… Лезь наверх, смеюсь, помолимся вместе. Знала бы я, какой лоботряс этот твой отец, какой крест на себя беру, столкнула бы с сеновала. Вместе с его молитвами! – Мать приоткрывает один набухший глаз. – Так что делали-то в постели? Свернулась клубочком и ждала ангела с крылышками?
– Мама, что ты говоришь, о чем думаешь?!
– Ни о чем не думаю. Хочу, чтобы не была ты ледышкой. Жизнь за горло схватит, если ее бояться…
На ее пухлом, все еще красивом лице открываются оба глаза – две голубые лужицы, исчерченные красными прожилками. Отбросив полотенце, к дочке тянется ласкающая рука, которая сжимается и разжимается, сопротивляясь непрекращающемуся натиску боли. И эти судороги, и неуклюжая материнская ласка пробуждают у Лионгины чувство вины за возлагавшиеся на нее, однако не осуществленные надежды. В ней зреет что-то, она слышит какие-то звуки, видит знаки, но все – мимо. Прежняя жизнь кончилась, новая не начинается. Губы искусаны и, будто чужие, не решаются улыбнуться. Может, и оправдалась бы, нет у нее слов, кроме самых жалких, ничего не говорящих. Ждала первой ночи с мужем. Без радости – как болезни, которой все равно придется переболеть. Прикосновения чужого человека, даже воображаемого, заставляли каменеть. Думала, Алоизас бросится ее раздевать – что-то подобное представляла по фильмам. Заранее ощущала, как твердеют, цепенеют суставы, грубеет кожа. Чужие руки натолкнутся на холодную доску. Что в ней есть, кроме быстро синеющей кожи? Душа, не способная осмыслить себя? Как доставлю радость, не умея смеяться? Прикосновения, к которым придется привыкнуть, не самое страшное. Больше всего она боялась покушений на свое право чаще грустить, чем радоваться, долго взращивать чувство, не доверяясь первому впечатлению и все же подчиняясь ему. Алоизас не торопил событий, давая ей время обвыкнуть. Как нарочно, запутался узел шнурка, он долго возился, пока развязал. Пришло в голову, что он неуклюжий, лицо было недовольным, будто кто-то нарочно сыграл с ним злую шутку. На столике, рядом с початой бутылкой шампанского, лежали маникюрные ножнички. Алоизас на них не взглянул. Она подумала, что разрезать шнурок не позволяет ему врожденное уважение к порядку. И еще подумала: вместо того чтобы раздеться, он сейчас оденется и выскочит в коридор, ужаснувшись своей ошибке.
– Будь я художником, – донеслись до нее слова Алоизаса, – нарисовал бы тебя такой. Тебя и печальную твою тень.
Смеется над ней, растерянной и не знающей, куда себя девать? И что нарисовал бы: жалкую позу? Она дрожала на краешке тахты, отвернувшись от совсем чужого человека – ее мужа, прикрывая колени комбинашкой. Молча молила погасить свет – пусть скорее произойдет то, что должно произойти, если нельзя умереть.
– Хочу, чтобы между нами все было ясно, – услышала она издалека. – Я любил одну девушку. Назовем ее Р. Надеялся, что Р. – моя избранница на всю жизнь. Мы дружили очень близко. – Они раздевались, не стесняясь друг друга, дошло до Лионгины, на мгновение заглянувшей в колодец человеческих отношений, над срубом которого застыла сейчас она сама. И еще поняла: Алоизас – честный, не хочет утаить существование другой женщины, однако его деликатность не помогает ей, выставленной на обозрение и откровенно сравниваемой с другой. Облегчает свою совесть, обременяя едва дышащую Лионгину. – Не знаю, может, и у тебя что-то было, но, приглядевшись к тебе, в это поверить трудно. – Алоизас легко отбросил в сторону сомнительную вероятность, что могло означать и похвалу, и презрение. Удрученная, убитая признанием о другой женщине, Лионгина не поспевала за его мыслями. Уж не из-за этой ли Р. его лицо с самого начала было столь высокомерным? – Сказать откровенно, восхитительная Р. меня разочаровала. – Вырвавшийся эпитет не свидетельствовал о полном равнодушии Алоизаса, и он поспешил рубануть ладонью по невидимым узам. – Между нами давно все кончено, раз уж я решился тебе рассказать. Нет ей больше места в моем сердце. Буду откровенным до конца: не укоренилось глубоко в нем и чувство к тебе. Еще не укоренилось, – поправился он. – Мне нравится в тебе робость, сдержанность, чуткость, пусть среда, в которой ты росла, была не слишком благоприятной. Я беседовал с юристом, который листал дело твоего отца. Окрутили его проходимцы. В конце концов я не карьерист – женюсь на тебе, не на твоих родителях. И говорим мы о нашей с тобой жизни. Ты знаешь себе цену, хотя, как я уже говорил, робкая. – Вспомнил опечатки в своей рукописи, обомлела Лионгина. – Обжегшись на пылкой любви, я надеюсь найти спокойную, постоянную. Любовь надо растить, как дерево. Оно не вырастает в один день. – Наконец Алоизас заметил, что Лионгина, вцепившаяся в свою комбинашку, смертельно бледна. – Если ты себя плохо чувствуешь… Я ведь не зверь.
– Нет, нет! – Лионгина жаждала, чтобы немедленно, пока она различает свет и вдыхает воздух, все кончилось – страх, неизвестность, пугающий долг, от которого ей не скрыться.
Алоизас погасил свет. Темнота не означала спасения и убежища. Отобрал у нее одежду – мягко, нежно, – и она поняла, что надо лечь. Белье было постелено, сама стелила. Ощущала свое застывшее, одеревеневшее тело, которое следовало отдать ему, чужому. Сопротивляться бессмысленно, она и не думала сопротивляться, но цепенеющие суставы не слушались, не разжимались прижатые к груди кулачки. Руки не в силах были шевельнуться, обнять, а Алоизас не помог ей, это было бы похоже на применение физической силы, отрицаемое им в принципе. Потом шепнул, мол, не бойся, не забеременеешь, я приму меры. Дети – дело серьезное, надо заранее материально и морально подготовиться.
– Молчишь? Не хочешь с родной матерью поделиться? Можешь не рассказывать – и так все ясно! – Рассвирепевшая мать оттолкнула ее от себя. – В куклы тебе играть. Не играла, когда маленькой была, так надумала, выйдя замуж.
– Почему жизнь такая страшная, мама? Скажи, если знаешь…
– Этого и головы поумнее моей не знают. Подумала бы лучше, как удержать мужа. – Мать уставилась на Лионгину горячечным глазом, не вмещающим ее собственной боли и бед дочери. – Без постели нет семьи, нет любви, запомни. Когда-нибудь поймешь, а может – никогда… Кто тебя разберет, чудачка. Ой, голова! Что с моей бедной головушкой, без которой вы оба, ты и отец, как слепые котята?
С терпким запахом воспоминаний соперничает прозаический запах немытого тела и человеческих экскрементов. Он въелся в почти новый половичок у входной двери, в разодранный войлок обивки, даже в серые лестничные перила. Это здесь, перед дверью, а уж за ней… Лионгине слишком хорошо, как собственный страх, с каким она каждый раз переступает материнский порог, известно – там, за порогом, этим тошнотворным запахом пропитано все: вещи, стены, самый воздух, пусть потолок высокий, как на вокзале. По интенсивности зловония Лионгина понимает, что сегодня к матери никто не заходил – ни барышня Тересе, бывшая монашенка-францисканка, так и не отказавшаяся от обета, ни любитель рюмочки и за мелкие услуги получающий ее бородатый истопник Феликсас.
– Барышня Тересе? Тересочка! Глазоньки проглядела, ожидаючи, а вас все нет и нет. Вы уж простите милостиво, если обидела. Разве по силам беспомощной, обезножевшей женщине обидеть ходящих, танцующих, веселящихся? – Из сочной гаммы материнского голоса осталось лишь две тональности – унижение и насмешка. – Не гневайтесь, барышня Тересе, не вас, Христову невесту, упрекаю. Вы святая из святых. Барышня! Барышня? Это – не барышня?







