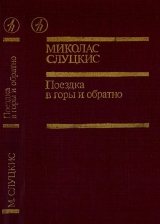
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 40 страниц)
– Пересчитайте. Двадцать пять.
– Спасибо. Оставьте на столе.
Она придавила бумажки стаканом для карандашей, помедлила. Не дождавшись взгляда, поплелась к двери.
Не следовало брать денег. Алоизас внезапно опомнился, прильнул к окну. Поступил как дурак. Алмоне прыгала по тротуару ловкая и почти хрупкая, несмотря на свой рост и неуклюжесть.
Она ни разу не шевельнулась. Как упала навзничь, так и провалилась, будто даже во сне продолжает погружаться в пропасть, преодолевая ничуть не меньшие расстояния, чем днем с открытыми глазами. Со стороны могло показаться, что у противоположного выхода бездонного колодца ее кто-то ждет и она без колебаний спешит в объятия ждущего, не важно, что это за объятия – забытья или небытия. Алоизас уже лежал, – конечно, не спал, готовый каждую минуту вскочить! – но это ее не удивило, а если и удивилась, то скоро забыла, подкошенная усталостью. Вылезая из юбки, жалобно бормотала, обещая быть выносливой и сильной, заботиться о его самочувствии и условиях для творческой работы, – если есть в жизни какой-то смысл, то он в этой, горящей на письменном столе, лампе, правда же, Алоизас? – а сама свалилась, не расчесав волос. Это ее бормотание было похоже на речи пьяного.
– Ты добрый, Алоизас, – шепнула и провалилась, не дождавшись его нежности.
Отодвинувшись на край тахты, он не мог заснуть. Горящими сухими глазами цеплялся за темноту, рассекаемую отблесками улицы. Измучило постоянное ожидание, когда приходят в голову вероятные и невероятные страхи. Не приносит облегчения и ее приход, каждый раз все более тягостный, будто приползает тяжело раненный, почти потерявший сознание человек. Еще хуже, когда выкидывает фокусы, например, прибегает среди дня ввернуть лампочку, чтобы ему было светлее на лестнице, светлее над книгой. Бессмысленное усилие, неизвестно сколько ей стоившее, свидетельствует лишь об одном – о приближающемся крахе. Это чужое слово бьет в глаза Алоизасу, как блеск металлической коробочки, наполненной взрывчаткой. Где видел такую? Скорее всего, в каком-нибудь фильме о войне. Метафорой он не особенно доволен, но она точна. Лионгина не догадывается, что и сегодня он не высидел ни строчки? И клеточек кроссворда не рисовал, но здесь не его заслуга – Алмоне И. Мало того, что измучился, ожидая пропавшую жену, так должен был еще бороться с соблазнами. Мозолистая лопата Алмоне и мраморная ножка Лионгины… Рядом с беззвучно дышащей Лионгиной такое сравнение – издевательство над его, Алоизаса, эстетическим чувством. Лионгину он создавал из дикого побега, из пугливой ласточки, она все время разная, и никто – даже она сама! – не знает, каким будет ее следующее превращение, в то время как Алмоне И. слеплена из глины и может ожить от одного чувства, от единственной прямолинейной мысли. Лионгина предназначена для него, только для него, Алмоне – для любого, кто заслужит ее благосклонность и готов этой благосклонностью воспользоваться. Я думаю о ней в постели, где ни об одной женщине, кроме Лионгины, не думал. Неужели всерьез увлекся ею? Неряха, спортсменка, и не взглянул бы на такую, горячится Алоизас, если бы между мною и Лионгиной не легла пропасть. Теряя голову, кое-как устоял, но опасайся следующей встречи. Впрочем, следующей не будет! От Алмоне он отделался навсегда, равно как и от восхитительной Р., сколько ее еще оставалось там, в раковине. Видела бы Лина, ценой каких усилий гасил он пожар! Тогда, может, поняла бы, что отношения их дошли до точки… Но как расскажешь ей все, если она нарочно проваливается все глубже, оставив на поверхности в качестве заложника лишь свое тело. Он чувствует его тепло – нежное, едва ощутимое, неповторимое – и тоскует по жене все больше, сам себя не понимая, – заново влюбился, получив возможность сравнить со случайной девушкой? – однако как прикоснуться к такой измученной? Страшно сломать, как хрупкую игрушку.
Пока лежал он так, тщетно пытаясь проникнуть в сознание спящей Лионгины, ночь продвинулась вперед. Бессмысленное продвижение, бессмысленные сердечные сбои, когда ничем не поможет даже ее бессознательно скользнувшая к нему рука. Какой-то шепот, нет, скорее легкий шорох, заставляет его поднять голову. Тихо поворачивается на бок, оперевшись на локоть, склоняется над Лионгиной. Замирает, не дыша. Шорох. Не сорочки и не волос – спекшихся губ.
По обыкновению она спит на спине, слегка откинув голову. Волосы легли на плечо, их тяжелая волна не рассыпалась широко, компактно обрамляет лицо. В блеклом мраке или свете раннего утра – все время на стенах и потолке мелькают тени! – отдельных черт лица не разглядеть. Чуть светлеют лоб и не прикрытая одеялом грудь. Снова ничего, даже дыхания не слышно. Лионгина притаилась, будто хочет обмануть чью-то бдительность. Не чью-то – его. Не может спящий лежать, как мертвый, можно только притвориться мертвым.
Алоизас наклоняется ниже – на ее шее пульсирует артерия, сердце медленно проталкивает вверх густую кровь. Во всем теле неспешно течет жизнь, наполненная чем-то не ведомым Алоизасу, более значительным, чем обыденность, тем, для чего не обязателен кислород и насыщенные им красные кровяные шарики в уставшем мозгу. Нечто таинственное совершается в этой обманчивой тишине, в этом небытии, отраженном бледной, едва лучащейся теплом кожей, беззвучными вдохами и выдохами.
Лионгине снится сон, Алоизасу ясно, что она видит, – ничего иного – свои горы, эти проклятые горы! – отгородившись сном, чтобы не вырвался стон и не выдал ее измены. Нелепость, безумие – сдерживает разбушевавшееся воображение Алоизас, она просто измучена и крепко спит, но он не в силах отделаться от впечатления, что его обманывают – сейчас, в этот миг. Она там, в горах – в своих проклятых горах, где застряла навсегда! – хотя он великодушно протянул ей руку, поднял из грязи и до сих пор тянет за собой. Ни в веселый, ни в печальный час не выдает она себя, отгородившись от него не только сознанием, но и мраком подсознания. Глупости, даже йоги не управляют своим подсознанием, Алоизас знает, но не может успокоиться, так жестоко, так абсолютно отринутый ею. Ему нужна вся Лионгина – не только ее тело, которым он мог бы овладеть, обняв и встряхнув. Нужна тихая, струящаяся в ней жизнь, ее затаенные мысли и ощущения, которые роятся и рассыпаются в прах, едва их коснешься. Нужно то, чего, возможно, в ней вообще нет. Не в силах сдержать досаду, страдая из-за ее отчужденности, Алоизас трезво, презирая самого себя, спрашивает: мог ли ты, Алоизас Губертавичюс, когда-то предположить, что ночи напролет будешь вслушиваться в дыхание спящей жены и ловить то, что невозможно поймать, – ее сны? Что подумала бы Гертруда, как нависла бы и дрогнула ее верхняя губа, увидь она своего обожаемого братца в такой позе?
– Не спишь? – пугает жаркий шепот. Она спрашивает – не он, хотя давно уже должен был растормошить ее.
– А ты? Почему ты?
– Я сплю.
– Тебе снится сон! – выпаливает он, жарким дыханием взъерошив ей волосы.
– Что мне может сниться? – В лице ее не дрогнула ни одна черточка, она не здесь, хотя слышит и говорит.
– Горы! Горы тебе снятся! – кричит он в широко раскрытые глаза. Оглушенный своим голосом, понимает, что злыми упреками, противоречащими здравому смыслу, сам воскрешает эти горы, сам, напрягаясь, толкает Лионгину вверх по их острым граням.
– Горы давным-давно сквозь землю провалились.
Подозрительно спокоен ее голос, неоднократно твердила она себе эти слова, пока наконец не поверила – неважно, вправду или нет.
– Нет, горы! И он, этот прощелыга! – Алоизас услыхал свой визгливый крик. – Этот проходимец снится!
– И он провалился. Вместе с горами.
– Не лги! Снился! Лучше признайся, снился? – Ему неловко, словно поднимает мертвого из могилы. Огромные горы – огромные груды окаменевших трупов. Галлюцинация воспаленного мозга, абсурд.
– Может, что-то и снилось, раз ты так настойчиво утверждаешь, – Лионгина поворачивается к нему, уже не призрак – теплое женское тело, – только совсем другое. – Жиличка, которую я пустила к маме.
Черная масса гор колыхнулась, качнулась в сторону. Совсем не пропадает – тает в не спешащем рассеяться мраке.
– Что еще выдумаешь?
– Можешь не верить. Сдала квартиру жиличке.
В свое время это посоветовал ей кое-кто, возмущалась, полгода злилась на Гертруду, хотя та больше не совалась. Косо поглядывала на него, будто он понуждал ее отделаться от матери. Может, лучше будет, как знать, только почему его вечно держат под прицелом?
– Так продолжаться больше не могло. – Она прильнула грудью, но голос не ласковый – придавлен тяжестью, которую она собирается взвалить на него вместо другой, выдуманной им от тоски и ревности. – Я ничего не успеваю. Я стараюсь, из кожи вон лезу, все равно не успеваю. Старик на улице отказывается меня взвешивать. Вам, говорит, нужны детские весы. У матери пролежни, ужас. И за тобой, Алоизас, не ухаживаю как следует, не создаю условий для работы. Поговорить толком времени нет, мы перестаем понимать друг друга.
– Не знаю, не знаю. – Он не спешит навстречу, хотя ее волосы щекочут ему шею. – Кого потом винить будешь? Меня?
– Когда я тебя в чем винила?
– А твои сны? Твои проклятые горы? – вырывается у него снова, хотя неприятная новость – квартирантка – несколько охладила пыл.
– Если мне что и снится, то не горы. Какое-то ущелье, какие-то сгустки мглы…
– Мгла, ущелье… Чушь! Горы! О чем наяву думаешь, то и во сне видишь, дорогая.
– Шутишь, Алоизас? Ведь ты такой умный.
– Шучу, если хочешь знать, сквозь стиснутые зубы. И предупреждаю, впредь шутить не собираюсь.
– Что же мне делать? Ложиться отдельно? Едва закрою глаза, как кто-то хватает и толкает в пропасть. Заботы, я знаю. Этого не сделала, того не успела! Вот и проваливаюсь… Всем людям, Алоизас, что-то снится. Честно говорю: ничего не помню.
– Видела сон, шептала и – не помнишь? – не удержался Алоизас, чтобы вновь не царапнуть свою рану, которая зудит, пока не раздерешь ее, а уйдет боль, подсохнет корочка – и опять свербит, и снова хочется содрать ее. Больно и Лионгине, когда тупой пилой режу ее за видения, не зависящие от сознания, больнее, может быть, чем мне. Не хочу мучить ее горами, но невольно выплескиваются упреки, будто кто-то засел во мне и травит себя ядом. Безумие – обвинять измученную, еле живую, когда уже не ночь и еще не день. Больше чем безумие – садизм! Становлюсь садистом, которому доставляет удовольствие резать живую?
– Я погорячился, Лина, прости, – пытается он мириться, но сухой голос скрипит, как балконная дверь под ветром.
– Сама виновата, стала всерьез оправдываться. – Голос Лионгины, напротив, мягчает, нежнее льнет к нему.
– Ладно, ладно давай успокоимся.
Алоизас гладит ее волосы. Внутри еще кипят стыд и ярость – унизил себя и ее злыми, не выдерживающими критики здравого рассудка обвинениями. Днем будет терзаться из-за этих нелепостей, однако все равно не может убедить себя, что нет никаких оснований. Странно, как это семь лет – столько минуло со времени их несчастной поездки в горы! – мог он спокойно спать, не думая о том, что рядом, в дебрях подсознания жены, существует другой, враждебный ему мир, начавший теперь всплывать на поверхность и становиться между ними.
– Жиличка, говоришь? Квартирантка? – Мысль Алоизаса перескакивает на другую, тоже опасную тему. – Все равно тебе придется заглядывать. Так или иначе…
Квартирантка – новые недоразумения, ссоры. Не говоря уже о моральном пятне: есть дочь, зять. Впрочем, это забота Лионгины – отталкивает он от себя опасения вместе с ее участившимся дыханием. Она в таких вещах разбирается лучше, наконец и мать-то ее – не моя.
– Не был бы ты самим собой, если бы не напомнил. Не собираюсь целиком отдать больную на откуп квартирантке.
– Что, снова не так сказал?
– Наоборот. Я горжусь тобою, Алоизас. Тобою, твоей порядочностью, твоей работой!
– Кончай. – Ему неприятно, словно его хвалят за краденые вещи. Еще неприятнее, будто он грязный, жарко прильнувшее, предлагающее себя тело жены. Никогда прежде не пришло бы такое в голову – грязный.
Зита появилась тут же, словно пряталась в почтовом ящике, куда Лионгина опустила творение робота – адресованное в «Вечерку» объявление. Конечно, не Зитой ее звали, но Лионгина еще не скоро подружится с ней, лишь спустя много лет начнет звать по имени. «Вы», за глаза – «квартирантка», хотя платы за комнату с нее брать не станет. Не была похожа жиличка и на воображаемую девицу между шестнадцатью и сорока шестью. Ни костлявого лица, ни маленьких, ничем не гнушающихся глазок – синеокая, с белым фарфоровым личиком. Была бы красива, если бы не криво стиснутые губы. Рот будто говорил о том, что она раз и навсегда раскусила что-то.
– Мне двадцать три! – представилась будущая квартирантка, не ожидая допроса, без труда могла бы сбросить пару годочков – выглядела моложе. – Пеку торты, пирожные, бисквиты.
– Да? – удивилась Лионгина. Кондитерия окутывала будущую сделку смягчающим запахом ванили.
– Не верите? – бойко тараторила девушка. – Можете навести справки. Судимостей не имею. В венерологическом диспансере на учете не состою. Не алкоголичка, хотя и не трезвенница.
– Что-нибудь окончили?
– Восемь классов и двухлетние курсы кондитеров. После смерти отца мать привела отчима. Начал приставать ко мне, пришлось уйти. – Ее зубки мстительно щелкнули и перекусили складное повествование. – Пьяница. Не человек, а помойная яма. Я ему показала!
Ваниль смешалась с удушливым запахом крепких духов.
– Вас, я вижу, удивляет мой рот. – Девушка улыбнулась и коснулась рукой шрама, стягивающего уголок губ. – Поскользнулась на пролитом белке. Ударилась об угол противня. Оперировал не самый лучший хирург.
– Шрам вас не безобразит. – Лионгина чуть ли не вину испытывала за ее кривоватый рот.
– Сама знаю, что не красавица. Теперь о деле.
– Каком деле?
– Объявление, ваше объявление!
– Видите ли, я еще не окончательно…
– Ладно, ладно. Все по-людски, все понятно. Выкладывайте свой товар. Посмотрим.
– Как вы сказали? Товар?
– Вы продавец, я покупатель. Не за красивые же глазки жить принимаете?
– Не знаю, с чего и начать.
– Не стесняйтесь! Придется выводить собаку? Согласна. Кормить ондатровую ферму? Согласна. Ночую на складе пекарни, среди мешков и ящиков.
– Придется ухаживать, ну, присматривать за моей матерью.
– Ясно, ясно. – Поблуждав, на губы вернулась удовлетворенная, обеих их уравнивающая улыбка. – Когда вселяться?
– Посмотрим, подумаем. – Лионгина тянула, будто ожидала помощи.
– Мне надо сразу же! – Ротик кондитерши плотно сомкнулся.
– Она, знаете ли, делает под себя.
– Ясно.
– И парализована, имейте в виду.
– Другого и не ожидала. Сегодня же перееду.
– Раскладушку не везите, есть тахта. – Упавший голос Лионгины свидетельствовал: она загнана в угол. Никто не толкал – сама влезла.
– Тем лучше. Моя раскладушка разваливается.
– Присядьте, сбегаю, попрошу разрешения. Уйти с работы среди дня…
– Я вижу, вы слишком добросовестны, – искривился ротик девушки.
Лионгина никуда не пошла, закрылась в туалете. В зеркале прыгала гипсовая маска, безумные глаза вылезли из орбит. Что я делаю?! Позвонить Алоизасу, посоветоваться?.. Нельзя Алоизаса в это впутывать. Руки у него должны быть чистыми. Ведь он пишет книгу о красоте. На его шее наше завтра. Надо же опираться на какую-нибудь надежду! Что, если один дым из трубки и ничего больше? Если жертвы напрасны? Если он никогда не закончит книгу, не думает кончать, лишь прикрывает глубокомысленной позой свой эгоизм и лень? Лучше на себя посмотри, чем Алоизаса упрекать. Вижу… Отвратительная морда. Буду скатываться все ниже и ниже. Ротик квартирантки, захлопывающийся, как металлический замок, замкнет и меня… Не для себя, не для своего удобства! Я должна облегчить жизнь Алоизасу. Ему. Во имя его!
– Не комната – танцзал! – радостно воскликнула будущая квартирантка, когда Лионгина открыла дверь в материнскую обитель. Увидела она, конечно, и смятую постель, и оцепеневшую, страшного вида женщину, но эту картину не прокомментировала.
Бесформенное тело задрожало, когда раздался пронзительный голосок, и эта дрожь – словно на минуту разорвались стягивавшие больную цепи! – не прекращалась все то время, пока происходило знакомство будущей квартирантки с мебелью, утварью, удобствами, самим воздухом, которым придется дышать. Но как ни странно, в комнате с высоченным потолком и узкими церковными окнами воздух, от которого перехватывало дыхание, сразу же стал меняться, сначала чуть-чуть, будто в густой, застоявшейся массе растворились ароматы миндаля и ванили, потом все сильнее запахло свежестью, словно постель опрыскали забивающим вонь дезодорантом. Никто, конечно, ничем не брызгал, даже окон не распахнули, разве что рука Лионгины пошире открыла форточку. Острую, все пронизывающую свежесть несла деловитость квартирантки, ее крашеные соломенные волосы, неровно спадавшие на белый нейлоновый воротничок, ее фотографии в деревянных рамочках, наспех развешанные на стене рядом с карточками хозяев – матери, отца, маленькой и немного подросшей Лионгины.
– Красиво, а? – Квартирантка гордилась своими грубо отретушированными портретами, изготовленными фотографами городского ателье, один был цветной, пятно губ занимало на нем половину лица, другую половину – упавшая со лба прядь.
То, что она могла быть еще и такой – выглядывающей из-под пышной прически, – немного пугало, словно, кроме нее, пустили жить еще одну девицу сомнительного свойства, но Лионгина старалась не обращать внимания на ее реквизит. Даже на электропроигрыватель, вытащенный из сумки и установленный на табуретку. Волновала и тревожила непривычная деловитость, властно вторгшаяся в комнату и перечеркнувшая не только тошнотворный запах матери, но и ее, Лионгины, бесконечное самопожертвование, словно стерли влажной тряпкой с грифельной доски неудачное решение задачки, над которой она безуспешно билась, и вписали правильное.
– Ее придется кормить. Мыть. Подставлять судно. – Лионгина спешила перечислить все ожидающие девушку неприятности. – Покупать продукты. Кое-что варить. Платить за комнату не будете. Сама согласна приплачивать. – Подумала, что квартирантка испугается, сбежит, и хотелось немного успокоить совесть. В конце концов, она ведь будет платить, ее обязаны слушаться!
– Зря время ведете. – Новая жиличка насквозь видела усилия Лионгины отодвинуть мгновение, когда ей придется оставить мать на попечение незнакомки, на самом же деле – на ее милость. – Договорились, сторговались, что еще? Ага, пирожные задаром будет есть, свежую сметану, яйца, масло покупать не придется. Кстати, может, вам надо корицы, миндаля, орехов?
– Спасибо, у меня все есть.
– Мамаша небось не откажется?
– Имейте в виду, я буду заходить.
– Не утруждайтесь.
– Ежедневно буду навещать!
– Как угодно. На вашем месте я бы немного отдохнула. Выглядите вы неважно.
– Обо мне не беспокойтесь!
Лионгина приближалась к постели матери, все громче и раздраженнее отвечая будущей квартирантке, та не отставала – шаркала следом, будто каждым своим шагом – успела уже влезть в сношенные материнские шлепанцы – подчеркивая, что отныне она тут хозяйка. Чужое сопение, чужой распространившийся и все забивший дух мешали Лионгине сосредоточиться, сказать матери что-то очень важное, хотя она сама не знала, что теперь важно после того, как отказалась от нее, – разве не отказалась, отдав квартирантке? Быть может, что-то нежное, забытое произнесла бы после долгих лет отчуждения, развеявших хорошие воспоминания, – ведь должны же быть и хорошие, возвышенные, еще тлеющие! Может, об отце, как он говорил в скверике, что любит ее. Все нежные слова опередил деловой вопрос девицы:
– У нее что, и речь отнялась?
– Нет, нет! Иногда сыплет, как горох.
– Значит, упрямая?
– Больная, тяжело больная. Кстати, не удивляйтесь, – к Лионгине вернулся здравый смысл, любое проявление слабости на глазах у этой пройды было бы гибельным, – иногда она жалуется на мышей. Наверно, есть мыши, как не быть в старом доме. Но ей мерещится, что они шмыгают по всем углам, залазят на кровать, гадят.
– Чему уж тут удивляться! У нас в деревне одна такая баба гнила. Так она жаловалась, что свиньи в избу забираются и рвут ей бок.
– Гнила?
– Не пугайтесь. Гнила, а хозяйничавшую мужнину сестру пережила! – расхохоталась девушка.
– Оставьте нас на минутку.
В Лионгине закипела злоба, девушка осмотрительно юркнула в кухню. Никто больше не мешал, однако говорить было не о чем.
– Не сердись, мама, – заставила она себя произнести. – По-другому я не могла. Тересе едва ли выберется из больницы. Я совершенно измучена. Не успеваю на лекции, а если успеваю – сплю там. Алоизас забросил книгу, на работе неприятности. Мы от тебя не отказываемся, не бойся. Я буду приходить! Слышишь, мама? Часто буду навещать, очень часто. Поняла? Тебе не придется стучать молотком, как тогда, когда ты звала отца. Если она тебя будет обижать…
Подбородок матери не шелохнулся в жирных складках.
– Больная устала, – строго перебила возникшая за спиной квартирантка. Она говорила так, словно в кровати лежала ее мать. – Ей надо отдохнуть.
– Все должники здесь?
Никто не ответил. Наверное, все. Собравшихся, за исключением одного-двух, он не знал. Студенты из группы умирающего в больнице М. Учета посещаемости, как другие преподаватели, Алоизас не вел. Галочки в журнале подрывали бы авторитет. Не шел он и на сближение после лекций – романчики со студентками, выпивки со студентами. Как можно дальше от них, приятных и неприятных, чтобы не обдавало кислым из чужих ртов, запахом пота ног и подмышек. Когда сокращается дистанция, невозможно избежать личных отношений. Как вышло с Алмоне. Теперь он отчетливо понимал, что нарушил существенное свое правило.
– Скажите, чтобы поторопились. Я должен отчитаться в деканате.
Среди собравшихся выделялись Аудроне И. и Алдона И. – самые красивые, в самой модной одежде. Яркие пятна на сером фоне. А вот Алмоне – ни слуху ни духу. Выклянчила свою четверку – что ей тут делать? Больше не увижу? Было в их встрече что-то доброе, несмотря на комичность знакомства. Внимание привлек студент-недоросток в свитере морковного цвета, устроившийся под боком у Аудроне. Маленькая острая головка и широченные плечи – будто кто-то влез на них и трамбовал его туловище, чтобы не росло вверх. Инвалид, а я сержусь, ничего о нем не зная. Один ложный шажок в сторону предопределяет другой. Войдя в положение спортсменки – между прочим, не такое уж скверное! – я должен бы посочувствовать и этому несчастному. Но зачем тогда учить? Выдать невеждам дипломы – и конец!
– Все? – Алоизас поднял глаза, вглядываясь в группу студентов.
Ждать некогда. Не потому, что кафедра заставляет кончать с зачетом. Тревожит поведение Лионгины – решилась отдать мать в чужие руки. Прежде всего, это означает, что она окончательно выдохлась. Пока была в состоянии, сама везла воз. Во-вторых, это свидетельствовало о ее скрытности. Пугающей, напоминающей о самых черных днях их совместной жизни. Как глубинная рыба, терлась плавниками о донный ил, прежде чем вынырнуть и нарушить водную гладь. Брызги полетели далеко, окатили его с ног до головы. Не посоветовалась, хотя последствия и его коснутся, когда протухнет взбаламученная вода. Впрочем, это ее дело, пытался он успокоить себя. Никто не заставлял Лионгину поступать так или иначе, сама прикрывалась им, как щитом. Конечно, ворчал, когда являлась за полночь едва живая, но разве упрекал, что лампочка перегорела, не очинены карандаши? Тем более не намекал даже, чтобы отказалась от матери. Последствия будут, их не может не быть, и надо освободить себе руки, чтобы отразить грозящий удар. Лионгина одна сумела выносить и осуществить рискованную идею, именуемую квартирантка. Значит, не такой уж он безумец, когда пытается проникнуть в ее сны, встать между нею и преследующими ее призраками…
– Холодно. Чуть нос не отморозил. – Алоизас ткнул себя пальцем в кончик носа. – Надеюсь, студенческие носы закаленнее?
Никто не прыснул, не улыбнулся. Уместнее был бы анекдотик. Не завязывался контакт, который облегчил бы его задачу. В аудитории росло напряжение, как перед экзекуцией, хотя он был полон самых добрых намерений и снисходительности. Сколько раз ждали его завалившиеся, но не сосало под ложечкой, будто не им, а ему предстояло пересдавать. Чем дольше тянул Алоизас, тем тягостнее становилась атмосфера. Медлил, предчувствуя неудачу, и его непонятное ожидание сковывало студентов. Вон какие у всех застывшие лица! Не случилось ничего особенного, их положение не стало драматичнее – Алмоне сдала, другие тоже скоро сдадут, – но нет взаимного доверия. Алдоне И. надоело сидеть прямо, вытаскивает маникюрную пилку. С никелированной полоской стали и кольцами начинает играть солнечный луч. Белый, зимний. На ухо ей что-то шепчет Аудроне И., на лоб и плечи свисают блестящие, только что вымытые волосы. Обсуждают мою внешность, смеются над покрасневшим носом? – гадает Алоизас.
– А где Алмоне? Алмоне И. отсутствует. – По прыткому, деловому голоску он узнает Аудроне И., чьи родители владеют в Паланге маленьким-маленьким домиком.
– Ей и не надо, сдала, – говорит он, улыбаясь, ясно намекая, что скоро сдадут все.
– Интересно, когда же?
– Вчера вечером. – Алоизас не собирался скрывать.
– Можно узнать – где? – Это уже пропела Алдоне И., чей отец охотится с Эугениюсом Э.
– У меня дома. Разве так важно где? – Алоизас почувствовал, что краснеет, и рассердился. – Больше вопросов не будет?
Блеснула пилка в пальцах, Алдоне И. и Аудроне И. скрестили взгляды. Чуть дрожащими пальцами Алоизас открыл портфель, вытащил стопку бумаг.
– Вот билеты. Самые общие вопросы программы. Я не собираюсь вас мучить, не думайте, что Алоизас Губертавичюс – людоед. Меня интересует ваша способность мыслить. Как ориентируетесь, анализируете, оцениваете и так далее. Разумеется, в самых общих чертах. Недавно услышал я об одном педагогическом эксперименте. – Алоизас не сказал, что это его собственная идея. – Преподаватель приходит с билетами, как я, раскладывает их на столе. – Он встряхнул стопку билетов, словно карточную колоду, и широко раскидал по столу. – Не пугайтесь. Билеты открыты. Прочитываете вопрос, если нравится – берете. Если нет – выбираете другой.
– Сколько раз можно тащить? – спросил басом недоросток в свитере морковного цвета.
– Не тащите ни одного. Билеты лежат открыто. Читаете и выбираете.
– А потом? – мрачно пробасил студент, толкая в бок Аудроне.
– Потом беседуем, дискутируем, если желаете. В глубины не забираемся. Вежливо, как коллеги, беседуем, и я ставлю зачет.
Задолжники подавленно молчали. Они не были готовы к экспериментам. Даже к таким, которые потребовали бы знаний за восьмилетку. Они пришли потеть и торговаться, надеясь на студенческое счастье, а не экспериментировать. От озабоченных лиц веяло недоверием, враждебностью.
– Не бойтесь, коллеги. – Не уловив радости и даже одобрения, Алоизас смутился. – Вам предлагается гуманная, демократическая система. Вопросы простые, хорошо вам известные. Например, значение мифологии для возникновения художественной культуры. Или воздействие искусства на формирование мировоззрения. Или художественный образ как форма отражения действительности. Наконец, еще более широкий, всем понятный вопрос: эстетические элементы во взаимоотношениях людей. Кто рискнет первым?
Наступила тишина, словно в ожидании падения сосульки на весенней, полной людей улице. Хрустнув пальцами в кольцах, поднялась Алдона И.
– Прошу, прошу вас, коллега! – Алоизас дружественно улыбнулся.
– Я не морская свинка, не гожусь для опытов. Всего хорошего, преподаватель.
– Я тоже не морская свинка, хотя родилась у моря! – блеснула юмором Аудроне, догоняя бойко застучавшую каблучками Алдону.
В дверях обе остановились. Следом катился на коротких ножках недоросток. Он волочил портфель немногим меньше себя, звякали бутылки, коньки.
– Интересно, какой эксперимент провели вы с Алмоне И.! – пропела Аудроне. Ее волосы, вымытые хорошим шампунем, скрывали глаза.
– Не думаю, что ваш эксперимент одобрит завкафедрой! – Алдона И. гордо вскинула холеную змеиную головку. Демонстративно взяв недоростка под руки, девушки хлопнули дверями.
В аудитории осталось четыре студентки. Они сообразили, что эксперимент им по зубам.
– Хотелось бы знать, что это означает? – повысил голос Алоизас.
Никто не ответил.
Поставив хорошие оценки – эксперимент, по его мнению, удался, – Алоизас вышел из аудитории. Если бы не мысль об ушедшей троице, из-за которой не избежать мелких неприятностей – испортил процент успеваемости курса, факультета и в целом всего института! – он был бы вполне доволен собою. С продолжающимся скандалом косвенно были связаны и дружеское предупреждение коллеги Ч., и озлобленные подзуживания коллеги Д. Алоизас, правда, надеялся, что нахальные студентки одумались и, виновато опустив глазки, трутся возле дверей. В коридоре пусто – ни Аудроне, ни Алдоне. Студента-недоростка и того не видать. Отказавшись от пересдачи, они сами себе выставили двойки! Там-тарарам, тарарам-там-там!
В вестибюле его встретили лужицы тающего снега, блеклые, будто ногами вытоптанные, пятна солнца и… коллега Н. У Алоизаса дрогнуло в груди, сразу даже не сообразил, хорошее чувство возникло или плохое. Поскольку шляпу нес еще в руке, было довольно сложно продемонстрировать, как он не уважает бывшего коллегу. Проскользнув мимо, кивнул, однако так незаметно, что в любой момент мог отречься от приветствия. В душе я вас и не приветствую, нет! Но Н. ухватился и за этот невнятный жест – несколько раз ответно поклонился, покачивая угрюмой, озабоченной, забитой множеством проектов головой. Он и теперь был не один – с какими-то мужчиной и женщиной, которые что-то горячо ему объясняли, глядя с надеждой, как на судью. Алоизас не сомневался: бывший коллега притащился в институт ради него, ждет лишь знака, чтобы подскочить, схватить за грудки. Даже знака не нужно, хватило бы взгляда. Стоило замедлить шаг, и не отделался бы от его нечистого дыхания, назойливости, от его странным образом порабощающей энергии. Хорошо было бы переложить на кого-то часть забот, проверить свои догадки относительно мотивов, движущих коллегами Ч. и Д., наконец, не помешало бы узнать побольше про Аудроне И. и Алдону И. Вызов, брошенный ими в аудитории, свидетельствовал не только об их спеси, но и о крепком тыле и в институте, и за его стенами.
Именно потому, что безотчетно этого жаждал – перевалить на другого свои неприятности! – Алоизас шмыгнул мимо Н., не поздоровавшись, но и не отвернувшись. Не вполне вырвался он из притяжения Н. и тогда, когда их разделяло уже порядочное расстояние. Словно попала в волосы искра от тлеющей в пальцах бывшего коллеги сигареты, которой тот размахивал, поворачиваясь то к мужчине, то к женщине. Алоизас повел рукой, как бы отгоняя муху, смешно бояться какого-то неопрятного субъекта! Плечи расправились и уже гордо понесли не совсем спокойную, еще полную противоречивых мыслей голову. Никто не пыхтел за спиной, не раздражало прочесноченное дыхание – разве он, Алоизас Губертавичюс, может связаться с таким прощелыгой? Н., который охотно вцепился бы в отвороты его пальто, на расстоянии чует это и потому не посмел кинуться следом. А все-таки Алоизасу почудилось, будто неосторожно захлопнул он дверь, в которую очень хотелось войти. Обшарпанную дверь с торчащими из обивки клочьями пакли. Ясно увидел на дерматине дыры, прожженные спичками, – дети развлекаются. Сюда и стучаться не надо, от одного дыхания заскрипели бы петли, едва держащиеся на дверной коробке с отбитой штукатуркой. За дверью, в душном тепле, так почему-то представляется Алоизасу, печь с разверстой топкой, набитой углем и мусором, здесь можно сбросить шляпу и пальто, а также высокомерное выражение лица, выругаться и выпустить на свободу постоянно укрощаемых чертей. Разве не такие черти, не эти силы противоборствовали в нем в горах, когда Лионгине дурь ударила в голову? В два счета сломил ее, но, к сожалению, не был до конца последователен, и она выскользнула из рук, устремилась к своим вершинам. Пришлось потом везти домой полуживую, свалившуюся с кручи. Правильно ли вел он себя с ней в самом начале? Было кое-что, о чем не хотелось вспоминать! Но в то время он мог голой рукой камни дробить, такая сила в нем играла. Если бы тот вертопрах, тот нахальный актеришка не отступился от упавшей, пришлось бы говорить с ним иначе – грудь в грудь, кулак против кулака, как в стародавние времена. И не дрогнул бы, ей-богу, не дрогнул! Алоизас остановился, прислушался, будто кто-то другой шептал ему это на ухо. Действительно вломился бы в чужие двери, грохал по-мужицки кулаком об стол, заставляя подпрыгивать недопитую бутылку, и рассказывал бы Н., как там все было? Хорошенькое дельце, неужели воспылал я нежной любовью к тем же горам, что и бедняжка Лионгина, которую не перестаю упрекать за грехи молодости? Я? Тот, кого эти горы с ног сбили, лишили зрения, слуха, вместо настоящей цели мнимую подсунули? Не хватало еще, чтобы мы на пару с Лионгиной эти горы во сне видели – мертвые, несуществующие горы, – где мы оба – ха-ха! – были счастливы, разумеется, каждый по-своему! Мне, например, достался такой кусочек счастья, что не проглотишь… Хорошо было или плохо, но совсем не так, как теперь. Воздух я там взахлеб пил, прикасался руками к камням, хлебу, незабываемому телу Лионгины, не желавшему принадлежать мне, – вот как оно было!







