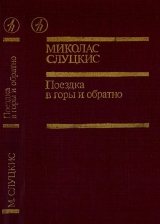
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
Алоизаса послали на научную конференцию в Ленинград. Лионгину из больницы забирала Гертруда. Важно и терпеливо ходила она по этажам, стучалась в двери кабинетов. Сравнительно быстро получила выписку из истории болезни, бюллетень, рецепты и, наконец, одежду больной. Так же уладила бы она все, если бы я умерла, пришло в голову Лионгине. В служебной машине щеку Гертруды свела судорога.
– Такие учреждения действуют на меня отрицательно. – Канцелярское выражение выправило ее лицо, она сидела прямо и наблюдала за дорогой. Напрасно старалась – шофер по ее собственному распоряжению ехал медленно, словно Лионгина все еще была раковиной, заключающей в себе жемчужину рода.
– Уже зима. – Лионгина испуганно смотрела по сторонам. Пока валялась она в постели, слиняли одни и заговорили другие краски. Мусорные урны цвели на утоптанной пашне тротуаров пышными белыми цветами.
– Что сделаешь с Вегеле?
Фамилия доктора Йокимаса была Вегеле.
– Кто? Я?
– Ты, конечно, ты.
– Ничего.
– Он – убийца! – Верхняя губа Гертруды побагровела. – Мне его не жалко.
– Несчастный человек.
– Алкоголик. Все алкоголики несчастны.
– Он не был пьяным. Прекрасно оперировал. Сестра Казимира мне рассказывала. Все из-за неверности любимой женщины: и взятки, и выпивки.
И я неверная женщина, кольнуло Лионгину, хотя и не любимая. Испортила жизнь Алоизасу. Изменить в душе еще хуже, чем на самом деле.
– Пьяный хирург, скотина, – брезгливо сморщилась Гертруда.
– Его песенка и так спета. Зачем заталкивать человека в тюрьму?
– Я бы не простила.
Не простила, это ясно по ее холодным глазам, но почему прощает мне? Мы с Йокимасом Вегеле виноваты в равной мере. Нет, моя вина больше. Я не хотела ребенка. Он был мне чужим – не горячая мечта, не радость. Нежданный, нелюбимый, жалко не его – Алоизаса.
Лионгина не понимает, почему Гертруда вместо шофера наблюдает за дорогой, когда они проезжают по улицам города. Ее проницательный взгляд буравит серую пелену зимы, стараясь разглядеть что-то впереди. Как знать, может, не все потеряно? Молодая, крепкая плоть преодолела сепсис. Может, еще будут дети, зачатые в более нормальных условиях? Уроки дорого стоят, они неизбежны, если нет прирожденного, привитого воспитанием чувства ответственности, которое часто заменяет более высокую, сияющую над повседневностью цель. Мало кому дано ощущать неосязаемую связь между поколениями, между предками и потомками. Не ощущает ее, увы, и невестка. Девочка. Измученная, полуживая девочка.
Чай они сели пить в гостиной. С двух кресел Гертруда сняла чехлы. Третье осталось под серым холстом.
– Я ем в кухне, – призналась Гертруда. – Сколько одной надо?
У Лионгины сдавило горло – будто на наковальне истончили ее нервы. И этой сильной женщине бывает тоскливо?
– Твои волосы отдают больницей, – заботливо сказала Гертруда. – Хочешь помыть голову? Я тебе помогу.
Распространился аромат шампуня, брызгала вода, пар проник в комнаты. Они снова пили чай.
– Ты много настрадалась, – сказала Гертруда, – но я не меньше намучилась. С детства так: другим плохо – спасать приходится мне. Пустая видимость, что у меня своя жизнь: служба, квартира, дорогие вещи. Я не упрекаю. Понимаешь, что я хочу сказать.
Лионгина кивнула, спазм снова сдавил горло.
– Не обижайся, Лионгина. Я знала, что так будет. Так или похоже. Не догадываешься, кто меня предупредил?
– Алоизас?
– Откуда ему знать? Кактус! Видала в кухне!
– Ах, кактус? – Лионгина чуть не прибавила противный кактус, и затеплившаяся было нежность к Гертруде погасла.
– Спасибо, Гертруда. Пойду-ка я домой.
Светятся лоскуты снега, светится белая махина кафедрального собора, в темноте видно хорошо. По краю большой площади семенят две женщины. Одна – крупная, высокая, в шубе, другая – хрупкая, дрожит под развеваемым ветром легким пальтецом.
– Чудеса! То по месяцам не видимся, а тут второй вечер подряд сталкиваемся! – Под круглой шляпой Гертруды ничему не удивляющиеся глаза.
Следит за мной, приходит в голову Лионгине. Проверяет, как провожу время, правда ли за матерью ухаживаю.
– Не сердитесь, Гертруда, очень спешу! – Голос у Лионгины нетерпеливый, тон прохладный. Неужто в самом деле шпионит? По собственной охоте или по просьбе Алоизаса? Нет, Алоизас не станет унижаться ни перед чужим, ни перед своим.
– На лекции, детка?
На танцы! Куда же еще, как не на танцы? – с удовольствием парировала бы Лионгина. Ни минуты времени для священной мести. Уже половина лекций прошла, и староста не предупреждена, чтобы отметить. Да и просить ее Лионгина об этом не будет – старостой избрана Аницета Л. Почему не летают деревья? Вангуте. Нет, не было и не будет никакой Вангуте!
– Как мама? Ее соседка выздоровела?
– Соседку положили в больницу.
В плоской груди Тересе клокотали хрипы, щечки алели, как на неумело реставрированной старинной картине. Ее белая узкая комнатка со старым комодом была похожа на гроб с откинутой крышкой.
– Я обещала кормить ее голубей.
Лионгину обжигает неприятное воспоминание: когда носилки «скорой» стукались о лестничные перила, она больше убивалась из-за своего положения, которое станет еще более тяжким, чем из-за благородной, преданной матери старушки. Беззвучно, едва шевеля губами, молилась Тересе своему богу, которого не спугнули удары носилок о перила. Хорошо было бы улыбаться, как она, уставившись глазами в небо или в пустоту – не важно, что там! – сложив усталые, натруженные руки.
– Голубей кормить? – похлопывает Гертруда снятой перчаткой о ладонь. – Они разносят болезни и гадят. Не следовало обещать. Мало у тебя забот, помимо ее голубей?
– Как-нибудь… Побегу я.
– Я бы могла твоей маме иногда…
– Мама впала в детство. Ей трудно угодить. – В словах – лед. – Простите, Гертруда, бегу.
– Беги, детка, беги. – Гертруда взмахивает рукой, как подчиненному в своем управлении, однако нелегко выскользнуть из-под ее власти. – Скажи, Алоизас… помогает?
Крупное деревянное лицо на мгновение как бы выныривает из тени шляпы, теплеет. Алоизас. Невидимое солнце Гертрудиной жизни. Одинокой, невеселой, быть может, не веселее, чем моя, думает Лионгина. Ждет, что раскисну, разболтаюсь. Все равно не поверит ни одному слову. Сочувствие испаряется.
– Помощи не прошу. Просиживает вечера в библиотеке, когда не пишет. Учит итальянский.
Собирался учить итальянский, накупил словарей, но учит ли, сама не знает.
– Итальянский язык – хорошо, но…
– Мужчине женских дел не переделать. Пусть со своими справится! – не может сдержаться Лионгина.
– Говоришь, неважно у него идут дела? – Гертруда сжимает ее локоть, чтобы не убежали пронзаемые прямым взглядом глаза.
– Не жалуюсь. Все хорошо, – высвобождается Лионгина.
– Алоизас овладеет итальянским, если захочет. – Гертруда продолжает идти рядом, но за руку больше не хватает. – Все же… никаких новых публикаций. Не слыхать и о книге.
– Я же сказала, учит итальянский…
– Ты, детка, что-то от меня скрываешь. Он угнетен, подавлен, да?
– Выдумываете вы все, Гертруда. Нельзя все время выдумывать! – Лионгина смягчает резкость улыбкой, но в ней – ни малейшего тепла. Вчера она на такое не решилась бы. Я твердая, как жук в панцире. – Мелких забот, конечно, хватает. Какие-то недоразумения с экзаменами. И не выдумывайте разных страхов.
– Что случилось? Скажи, что? – Гертруда не обращает внимания на неуважительный тон Лионгины, хотя и не привыкла, чтобы ей грубили. Подтверждаются ее опасения, это самое главное.
– Говорю же – мелочи…
– И тебе не рассказывает?
Лионгина отрицательно трясет головой.
– Сильно переживает?
– Не обращайте внимания. Он здоров, работоспособен. А мелочи…
– Мелочи у него вырастают, как вон та башня! – Гертруда взмахивает рукой в тяжелое ночное небо.
– Не так страшно. Ошибаетесь.

Вчера она бы пожалела ее, сегодня – нет. Невыносимо это желание Гертруды добраться до подноготной Алоизаса. Каркает, как ворона перед бедой. Приятно было бы выложить прямо в глаза: не каркай, старая ворона! Лионгина представляет себе удовольствие, которое испытала бы, брякнув это. Еще не теперь. Не могу. Нет сил. Еще помню, как бывало жалко ее. Еще себя жалко.
– Очень хотелось бы ошибаться. – Длинное лицо снова выезжает из-под шляпы. Смятое, будто побывало под колесами, неприятно на такое смотреть. – Я ведь чувствую, не думай!
Опять кактус? Все еще торчит на подоконнике? Сверкает буфет, синеет окно без единого пятнышка, а он, отвратительный, колючий, пропыленный, облипший паутиной и мухами, предсказывает несчастья? Выросшая из земли голова, почти шарообразная, с отростком – угрюмый старик, а не растение. И днем-то смотреть на него противно. Вдруг начинает чернеть, гнить. Впрочем, не вдруг – когда над их с Алоизасом головами собираются тучи. Сам по себе чернеет, сам снова зеленеет, хотя зеленым подолгу не бывает. Из-за одного только этого кактуса я могла бы возненавидеть золовку, думает Лионгина.
– Простите, мне надо идти!
– Я провожу. – Гертруда не отстает. Разбередила свою рану. Алоизас. Хочется говорить о нем. Подышать его воздухом. Пусть и выдыхает его неполноценное существо, с которым он волею судеб связался. – Все уже давно в зимнем. – Гертруда, не надеясь на легкий успех, делает заход с другой стороны. – Не хватает тебе только воспаление легких схватить.
– Бегаю – не схвачу! Некогда медленно ходить.
– Чья лекция, что так торопишься?
– Профессора П.
– Что ж сразу-то не сказала? Позвоню ему, и он будет с тобой мягче пуха! – Гертруда поправляет сползшую на лоб шляпу, необычайно веселая, с потрескавшимися от улыбки щеками.
– Не получится. Профессор принципиальный.
– Наивная душа, нетрудно понять, почему Алоизас так любит тебя! – Это немая уступка, большой реверанс, так как Гертруда не считает, что Алоизас сильно влюблен в жену, – держится за нее из-за гипертрофированного чувства ответственности, из-за гордости! – а если и правда влюблен, то трудно сочувствовать его слабости. – Ладно, я не такая скрытница, как ты. Профессор когда-то был в меня влюблен. Трудно поверить, а?
Лионгина смущена, будто видит Гертруду не в шубе – в мини-юбочке и с сигаретой в зубах.
– Влюблен? И вы – в него?
– Много будешь знать, скоро… – Гертруда заталкивает остатки веселья туда, где, наверно, и сама до них не доберется. Все-таки что-то еще витает вокруг полей ее сползшей шляпы, увлажняет суховатый голос. Сама удивлена – как невестка жадно схватила наживку. Значит, можно приманить, склонить ее нежность? – Давно вас обоих не видала. Заглянули бы как-нибудь. Праздничный обед приготовлю.
– В воскресенье. Если вам, Гертруда, удобно. – Голос Лионгины тоже мягчает.
Не сознается, что Алоизаса придется ей упрашивать, заранее настраивать на долгий, нудный день. Гертруда любила? Каменная Гертруда? Любила и… пожертвовала собою ради братца, ради Алоизаса?
– Мой дом открыт для вас не только по воскресеньям. Ладно, пускай будет воскресенье!
С таким лицом и голосом двери захлопывают. Если бы не ошеломляющее признание Гертруды, Лионгина бы вежливо отказалась.
Профессор П. не обращает внимания на опаздывающих. Продиктовав тему контрольной работы, он усаживается в полумягкое кресло. Может, подремлет. П. – пожилой, но разум у него ясный. Знает, что после дня работы и стояния в очередях много не вобьешь в отупевшие головы вечерников. Не менее стоически относится, он и к тому, что в огромной аудитории торчат считанные студенты, и к тому, что, отвечая, порют несусветную чушь, а на задних скамьях занимаются посторонними делами, как-то: жуют, вяжут, всхрапывают, флиртуют, даже в карты режутся. Хорошо еще, студентки грудняшек не приносят! В свою очередь слушатели терпимо относятся к нему, к его скучной премудрости, мужчины выкуривают с ним по сигарете во время перемены, девушки, глядишь, поставят на стол цветок. Я никогда не приносила ему цветочка, сожалеет Лионгина, сегодня профессор его заслужил. Воображаемый цветок – подрагивающая желтая хризантема – вспыхивает свечкой и освещает морщины. Глубоко въелись, годы сжимают это лицо своей сетью, делая его серым и сухим. Лысеет клочьями, словно ощипанный, воротничок рубашки мятый, на отворотах пиджака – пятна от пепла. Только губы свежие – разомлели от вялой дремоты, все ниже оттягивающей будто приклеенную бородку и большой, с горбинкой нос. Он – возлюбленный Гертруды? А что, ведь П. был молодым и, судя по носу, достаточно впечатляющим. И она, Гертруда, была молодой. Конечно, намного моложе его. Ее лицо – словно деревянная маска – отучилось смеяться… У него худая рука, якобы подпирающая мыслящий лоб, а на деле прикрывающая слипающиеся веки… Что остается от любви двух человек? Стоит ли тогда жалеть себя, тосковать по парящим где-то птицам любви, если высыхают деревья, на которые по неосмотрительности эти птицы садятся? Так будут смотреть когда-нибудь молодые и на мое увядшее лицо. Уже теперь худеют и западают щеки, хотя женщины завистливо говорят, что я становлюсь красивее. Выдумка – птицы любви? Подкрасться и шепнуть профессору в дряблое ухо…
Лионгина ловит себя на том, что уже встает и хватается за столик. Писать, что-нибудь делать, ведь все трудятся! От тепла и усталости она расслабляется, ручки в пальцах не удержать. Лучше подремлю. Нет, лучше работать!
И она пишет цифры, перечеркивает подсмотренную у соседей таблицу. Вдруг цифры рассыпаются и звенящей вереницей устремляются к проходу. Двери вздрагивают, тихо, беззвучно отворяются. Стайки цифр словно и не бывало. Врывается свежий воздух, кто-то хочет войти, но не решается. Смелее, П. спит! Завеса плотного воздуха на пороге расступается, и, не обращая внимания на мертвую тишину, входит женщина – высокая, стройная, в шляпе. Таких шляпок в форме слоеного пирожка уже давно не носят, мелькает у Лионгины. И вуалеток тоже. Она оглядывается по сторонам. Самое странное, что никто эту женщину не замечает. Ее приход – тайна их двоих, лишь они чувствуют одна другую. Женщина идет в глубь аудитории. Не идет, а парит. В воздухе ее держит колышущаяся, приспущенная на глаза сетка вуали. Шагов тоже не слышно, хотя она обута в черные узконосые туфли – ах, туфельки Марлен Дитрих или Греты Гарбо! Элегантная дама останавливается, не доплыв до столика, за которым, подперев голову рукой, дремлет профессор П. с взъерошенной бородкой. Его ритмичное дыхание слегка колышет женщину, ее ноги не касаются пола. Вот она наклонилась, тянется губами, намереваясь коснуться ими склоненного лба П., однако дыхание спящего не позволяет ей сделать это. Грациозным жестом дама откидывает вуаль. Светловолосая красавица – иначе не назовешь. Глаза прозрачны, как вода родника, лицо с правильными нордическими чертами, может, только верхняя губка великовата, но это почти незаметно. Тело спящего в объятиях кресла начинает изменяться. Сплющивается толстый живот, длиннеют скрещенные под столом ноги – скажите на милость, какие стройные и сильные! – нос выпрямляется, на нем – красивая горбинка, с лица стекает сеть морщин. Мгновение, и помолодевший П. проснется.
Женщина, печально усмехнувшись, отшатывается и начинает удаляться, все так же на сантиметр не достигая пола. Остановись! Зачем покидаешь его? Остановись! Лионгина слышит голос, похожий на свой, видит устремленные на нее глаза. Вскрик прерывает грациозное парение. Разлетается в клочья вуаль, обнажается лицо – удлиненное, лошадиное, вспухает необъятная, в темных волосках верхняя губа. Никакое это не таинственное существо, это Гертруда! Бросила его? Бросила? Ради Алоизаса.
– Что с тобой? – Костлявыми руками ее держит Аницета. Обе окружены студентами, к ним ковыляет славно поспавший профессор П.
– Коллега устала. Проводите-ка ее домой. Бич нашего века – нервное перенапряжение.
– Пусти! – Лионгина хватает свои вещи и выскакивает в коридор. Не позволит костлявой Аницете помогать себе. – Не смей идти за мной!
– Что я тебе плохого сделала?
– Не желаю!
От фигуры Аницеты, как от обгоревшего полена, несет гарью. От темного, с запавшими глазами и торчащим тонким носом лица веет утратой. Трауром. Разверстой, ничем не прикрытой совестью, в которой утонула она сама и в которой может утонуть Лионгина.
– Чего тебе надо? Надоела ты мне!
– Мне тоже никакой радости с тобой возиться. – Аницета тащится вслед за ней еще шаг-другой и останавливается, ждет.
Можно было бы возвратиться, уткнуться в костлявое лицо Аницеты. Выкричаться из-за Вангуте, из-за всех несправедливостей жизни, из-за того, чего не сделала, как положено было, для других людей. Вернуться? Почему вода не зеленая, если трава зеленая? Бесцветная или зеленая, какая разница. Мир не становится лучше от детей. Все мы были детьми, а кем стали? Это из-за нее, из-за чернявой Аницеты, вновь началась чертовщина после страшной, выхолостившей тело и душу больницы, после умерщвляющего равнодушия к жизни и смерти. Этот тихий смех из-за чужой девочки! Это проклятое желание жить, надеяться, верить… Возрождение и – новая пропасть, новое падение. Не хватит ли?
Аницета все еще стоит.
– Я на тебя не сержусь, Лина. Что ты бегаешь от меня, как от зачумленной?
– Надоело мне все! Надоело! Разве не видишь, Аницета? Меня больше нет, есть корыстная, оборотистая бабенка, которая станет кем угодно, только не сентиментальной дурочкой. Скоро ты ее не узнаешь!
В коридоре темно, экономят электричество. Обе – и Лионгина, и Аницета – видят мелькающие в темном углу белые ножки. Они мчатся в неоглядные дали, они спешат в бесконечность.
– Это я, товарищ преподаватель!
Та самая, завернутая в шарф крутобедрая, грудастая студентка. Спортивная сумка в одной руке, раскрытая зачетка – в другой. Глаза – как вдавленные в пластилин крашеные камешки. Такая, как была, однако чего-то, характерного для нее – или его воображением пририсованного – не хватает.
– Так поздно? – Алоизас опустил загородившую дверь негнущуюся руку. Не остановишь рвущуюся в дом, если бы и захотел. Он не знал, хочет ли. Отступил, недовольный собой и ею. – Как вы догадались, коллега, что я дома? Может, меня в это время здесь нет! – напряженным голосом пошутил он и поморщился. – Впрочем, коль скоро…
Студентка, о более любезном приеме и не мечтавшая, юркнула в прихожую. Задела плечом, обдала облачком духов. Алоизас сообразил, чего ему не хватало – крепкого, отталкивающего и влекущего запаха ее тела.
– Я на улице сторожила. Пронеслись мимо, как ракета. Небось женушку ждете? Вперед, сказала я себе…
Алоизас исподлобья глянул на гостью: растреплет по всему институту, как я жену жду, – смешков и заноз не оберешься. Потом это вперед. Что оно значит?
Гостья не поняла его сердитого взгляда.
– Я – Алмоне. Алмоне И. Не узнаете?
Вторглась нагло, готовая ко многому, а тут малость растерялась. Не узнает? В тот раз пожирал глазами.
– Ну, если вы та самая Алмоне… – Алоизас заставил себя сдержанно улыбнуться. Голос не сел, хотя, когда она ворвалась в двери, горло у него перехватило.
– Мы с вами хорошо знакомы. Очень хорошо! – Потрескавшиеся губы девушки расплылись, обнажив крупные ровные зубы, – такими легко щелкать орехи. Улыбалась радостно, будто встретились они на площади возле института, в парке или в лесу, хотя вторглась в чужую квартиру поздним вечером.
– Не сказал бы, что очень хорошо. – Он помахал в воздухе рукой, отгоняя запах ее духов. Вместе с запахом тела исчезла привлекательность. Обезобразила себя, желая ему понравиться. Из-под просторного полупальто неопределенного цвета выглядывала юбка. Ядовито-желтая, грубая, будто из кусков жести склепанная. Сверкали носы туфель, подходящих скорее для театра, чем для уличной слякоти.
– Не моя вина, товарищ преподаватель. Ваша! – возразила Алмоне, намекая на то, что между ними произошло или могло произойти.
– О чем вы?
– Так, ни о чем. Раздеться можно?
– Думаю, ваш визит не затянется.
Собственная решимость подбодрила его. Равнодушно наблюдал, как Алмоне сматывает с головы длинный шарф. Обнажились полноватая, по-девичьи нежная шея, секущиеся и все-таки красивые волосы. Она расстегнулась и ждала приглашения снять пальто, чтобы блеснуть розовой блузкой. Боже, розовое с желтым! Алоизас чуть не застонал в голос.
– Садитесь, раз уж пришли. – Он повесил пальто и рукой указал на кресло возле письменного стола. Не сомневался: девица, красующаяся ядовито-желтой юбкой и розовой блузкой, опять плюхнется на тахту.
Не ошибся. Под крупным телом скрипнули пружины. Покачавшись, пестрая гостья выставила вперед колени – круглые, розовеющие сквозь капрон. От фривольного движения задралась юбка, шею обвивало ожерелье из крупного янтаря, никак не соответствующее ее одежде, а больше всего – его собственному собачьему настроению. Заметив гримасу хозяина, Алмоне одернула юбочку, еще сильнее оголив колени. На мгновение пахнуло ее натуральным запахом, заглушившим раздражающие дешевые духи. Запах крепкого тела, крутых комков под блузкой. Алоизаса брезгливо передернуло, но именно этого запаха ему не хватало. Хорошо было бы в аудитории. Ряды столиков, кафедра с облупленной фанерой, засаленные подоконники мигом охладили бы. Разгоряченная Алмоне обмахивалась рукой, снова повеяло дешевыми рижскими духами, но запах тела – не запах, а крик – они не заглушили.
– Я после контрольных соревнований! Еле дождалась очереди в душ. – Она собиралась разоткровенничаться, и это было невыносимо.
– Что вам? Говорите быстрее… Поздно…
Алоизас стиснул челюсти, обхватил рукой подбородок, чтобы не дрожал. Колючий? Этого еще не хватало. Он знал, что не сможет забыть своей небрежности, и обрадовался: щетина станет демаркационной линией между ним и этой бесцеремонной девахой. Точный международный термин взбодрил, подвиг на какое-то действие. Развернул кресло и уселся перед гостьей. Вспомнилось: в тот раз был в пузырящихся на коленях спортивных штанах. Откинулся на спинку, чтобы увеличилось расстояние между ним и Алмоне. По тому первому впечатлению она была привлекательнее, нежели теперешняя, вульгарно вырядившаяся и бесстыдно развалившаяся, но к этой можно было прикоснуться, если бы ты был не ты – не Алоизас Губертавичюс.
– Ноги горят, как на угольях. Не рассердитесь, товарищ преподаватель, если разуюсь на минутку?
Он промычал что-то, не одобряя и не возражая. Она встала, сбросила туфли, одна отлетела под стол.
Не у подружки ли одолжила? Трудно поверить, что в этих лодочках умещаются красные, мозолистые лопаты. Ими занято все пространство между тахтою и столом. Ходить босиком и уминать сено в стогу – вот для чего созданы эти ступни. Основа силы и здоровья, ощущение земли и собственного тела. Большие ступни нисколько не нарушали ее сущности, как дешевые духи, как дикое сочетание желтого и розового в одежде. Походив, снова села с просветленным выражением лица. Алоизас наклонился за отлетевшей туфлей. Если до сих пор не был смешон, то теперь явно достоин шутовских бубенчиков.
– Или говорите, зачем явились, или немедленно убирайтесь! – Он сердито сунул ей туфлю, словно это был непослушный щенок.
Алмоне, уставившись на него тусклыми глазами, выложила на колени зачетку.
– Сами знаете, товарищ преподаватель.
Алоизас вскочил, разъяренный и пристыженный. Разве не понимал, что ее приход и кривлянье корыстны? Ни в чем постыдном упрекнуть себя не мог и сейчас, но позволил задурить себе голову какой-то мутью, даже возмечтал о чем-то. Фу, мерзость…
– Хорошо, хорошо… – Она не шелохнулась. Надо и себя взять в руки. Снова сел. – Если ответите на пару вопросов.
– Не будете придираться?
– Не такой я страшный. Главное, как студент мыслит! – Алоизас говорил громко, будто призывал свидетелей. – Например, субъективная и объективная сторона эстетической оценки. Как достигается их единство? Какая роль отводится художественному вкусу оценивающего? Можно своими словами, коллега. Давайте пофилософствуем.
– Да ладно уж! – Алмоне замахала широкими, отхлестанными мячом ладонями. – Ставьте не пятерку, не четверку – тройку.
– Не проверив знания – тройку?
Слабые у меня знания, если честно. – Под розовой блузкой вздыбились комья грудей, вырвался глубокий вздох. – Я ведь не студентка.
– Может быть, и я – не преподаватель? – Алоизас спохватился, что пошутил неудачно. Вскочил, опять уселся.
– Я – волейболистка, ведь говорила уже. Наша институтская команда – прошлогодний чемпион республики. Еще я играю за сборную Литвы. Когда мне зубрить? Откуда, думаете, пришла я к вам в разгар сессии? С контрольных соревнований. Много раз видели меня в аудитории? Спортлагеря, тренировки, чемпионаты.
– Не помню, – искренне признался Алоизас. – Надеюсь, коллеге М. вы показывались чаще?
– Он и в глаза меня не видел, этот зануда М. Не обижайтесь, я и ваших лекций не посещала, хотя иногда у меня бывает время. Честно скажу, искусство – не для меня. Не по зубам! – Алмоне засмеялась – грудь выпирала из блузки, казалось, та вот-вот лопнет. Запах ее тела, окончательно одолев духи, плескался между ними густой волной.
Алоизас сцепил пальцы на подбородке. Забыл, что не брит. Влекли пышущее жаром тело, не сдерживаемая никакими условностями наивность. Даже от ее хитростей веяло чистосердечностью. Безотчетно подвинулся вместе с креслом – ближе к розовым коленям.
– Не любите искусства? Как же так… Искусство не обязательно в музеях. – Говорил об искусстве, хотя в этот момент оно вовсе не интересовало его, и чувствовал себя мелким мерзавцем. – Искусство, если хорошо оглядеться по сторонам, всюду. Его невозможно не заметить, даже если очень захотеть. Природа, жилища, одежда – все это – искусство или… не искусство. Например – ваш шарф. Сами вязали? Прекрасно, я бы сказал, художественно сочетаются тона.
– Смеетесь над бедным человеком! Я зеваю в выставочных залах, засыпаю на симфоническом концерте. Кто-то спорит, кому-то нравится или не нравится, мне – ни тепло ни холодно.
– Я не собираюсь делать из вас художественного критика, коллега. – Алоизас почувствовал себя отброшенным к хрупкой – пальцем ткни – прорвется – демаркационной линии, которую построил было вначале. – Требую минимум.
– Минимум?
Алмоне, незряче улыбнувшись, качнулась всем телом, прилегла, опершись на локоть. Алоизас продолжал сидеть прямо, расправив плечи, в глазах билось пламенем розовое и желтое. Цвета кромсали друг друга, нестерпимо хотелось коснуться этого огня. Увидел свои руки, дрожащие, со вздувшимися жилами. Руки грабителя и вора. Ты ли это, Алоизас Губертавичюс? Ведь перед тобою не та, что необходима больше жизни, а случайно оказавшаяся здесь, зависящая от твоей милости растяпа студентка, пусть и пышет от нее, как от горящего костра. Бросишься в этот огонь, и Лионгина испарится, навеки исчезнет в своих мертвых, перекрашенных в черный цвет горах. Очухайся, Алоизас Губертавичюс, пока не поздно!
С трудом оторвал взгляд от уютно устроившейся девушки – от огня, в котором пылала какая-то часть его существа – неуправляемые чувства, вырвавшиеся из-под контроля воли. Сам не мог понять, что с ним творится. Сунул руки в карманы, пересек комнату вдоль, потом поперек. Не сразу решился взглянуть на присмиревшую, прикрывающуюся робкой и одновременно бесстыдной улыбочкой Алмоне.
– Вот что, Алмоне, – он снова сел, продолжая ощущать не преодоленное еще влечение к ней и осуждая свою слабость, – я никогда – прошу учесть – никогда так не поступаю.
– Значит, правду про вас болтали. А я, дурочка, не верила. – Алмоне огорчилась, сникла. Снова повеяло ее дешевыми духами, снова глаза резало безвкусное сочетание – желтое и розовое. – Зря наряжалась, если вы не такой, как все.
– Не такой? – Алоизас чуть не погладил ее горящих коленей. Сбитая с толку, искренне огорченная неудачей, она была по-своему привлекательна.
– У всех не пришлось побывать. Не знаю. Но многие не стесняются!
Мафия, скрипнул в ушах голос бывшего коллеги Н., мафия.
– Не знаю, коллега, что с вами делать. – Слова были двусмысленны, но он уже не думал о ее теле. Она поняла: пора кончать расстроившуюся игру.
– Ставьте трояк, и не будем больше ссориться! Очень огорчится папа, если срежусь на таком пустяке, как зачет. – Отца называла папой, как Лионгина. – Он даже телевизор выключает, когда наши матчи показывают. Хочет, чтобы у меня был диплом, чтоб была я как все. Еще в школе стала заядлой спортсменкой. Благодаря спорту и в институт приняли, куда иные пятерочники с трудом пробиваются. Я разрядница. Бегала, плавала, играла в баскетбол. Хватай, бросай, рви из рук! Ничего другого знать не знала. Вот и вкалываю. Все смотрят, как на осла, который вывезет…
– Кто ваш отец?
– Был токарем. Тебеце у него, пенсию по инвалидности получает.
– Чахотка?
– Нет. Туберкулез. – Она не знала бытового названия болезни. – Каверны. Кровохарканье.
Отец большегрудой, пышущей здоровьем девушки – чахоточный? Трудно поверить, ощущая ее здоровый запах. Его, Алоизаса, отец был классическим чахоточником-интеллигентом. Худые, запавшие щеки, нездоровый блеск в глазах. Он гордился своей болезнью. Особенно во время войны, когда со смерти сорвали флер тайны и святости, а над кладбищем надругались. Мелькнула рука отца, беззвучно шлепнувшая Гертруду по щеке. Алоизас зажмурился – так ясно увидел по прошествии многих лет эту костлявую руку. На сей раз отец ударил его.
– Честное слово, могу поклясться. – Грудь Алмоне заколыхалась, она попыталась схватить его руку. – Могу справку представить.
– Не надо. Давайте зачетку.
Черкнул, не глядя, не думая, какую оценку ставит.
– Идите. – Совершил недопустимое, нарушил свой принцип. И в то же время чувствовал облегчение, свершив что-то пьяняще доброе в память отца.
Алмоне широко улыбалась, некрасивая и красивая от неожиданной радости.
– Четверку? Четверку поставили?
– Тройка или четверка за незнание – один черт, – поморщился Алоизас.
– Не сердитесь на меня! – Исполненная благодарности, она схватила его локоть и пожала. Не больно, как делают верные собаки, знающие силу своих челюстей.
Алоизас отвернулся к столу, ничего не видя, начал рыться в своих бумагах. Ему мешала стоящая, не собирающаяся исчезать, чего-то ожидающая девушка.
– Я занят. Видите, что занят?
Она не шевельнулась.
– Уходите же наконец! Уходите! – Он закричал, не сдерживая досады.
– Продайте мне вашу раковину, товарищ преподаватель. – Она не верила, что он сердится.
– Что?
– Продайте. Я видела ее во сне, вашу раковину.
– Раковину? Еще что придумаете?
– Продайте. Вы такой серьезный, зачем вам игрушки?
Прекрасная возможность отделаться от лишнего хлама, от ненужных воспоминаний. Сам никогда не заставит себя выбросить раковину.
– Продаете? Какой же бы симпатяга!
– Некто заплатил за эту раковину двадцать пять рублей. Не слишком дорого для вас?
Алмоне бросилась к столу, схватила раковину, послушала, сунула, не выпуская из рук, ему к уху. Камешки ее глаз сверкали, будто начищенные, в них мерцали золотистые точки. Обо всем, даже о своей четверке, позабыв, слушала она гул далеких морей, таинственную беседу просторов и глубин. Почему бы не будить так художественный вкус – шоком красоты? Педагогическая искорка Алоизаса угасла, как только зашуршали рубли.







