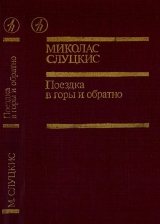
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 40 страниц)
– Разыгрывает алкогольную эйфорию. Эстрадник шантажирует, а серьезные люди…
– Кем бы он ни был, этот Игерман… Человек на подоконнике шестого этажа стоит, понимаешь?
– Все для тебя люди. Только одного человека не замечаешь.
– Постыдился бы, Алоизас. – Лионгина прильнула к нему, преисполненная жалости. Держится за меня, как испуганное дитя за материнский подол. – Ты дома, в своей кровати, а там человек, потерпевший фиаско, утративший равновесие. Задремать не успеешь, как я снова буду дома.
Алоизас опустил ноги на коврик, штанина пижамы задралась, обнажив увядшую икру.
– А если у меня случится приступ? – процедил он сквозь зубы – открыто умолять, чтобы не оставляла одного, не решался.
Как это страшно, когда она ускользает, забирается неизвестно куда и балансирует на тоненьком канате, не видя того, что делается внизу, не предполагая даже, что там зреет крик, который разбудит ее, – внезапно лопнет до звона натянутый канат, и она рухнет вниз, тяжелея и увеличиваясь, из мерцающей точки превращаясь в хрупкую женщину. Еще страшнее, когда, оглядевшись, не видишь толпы, ни одного разинутого для крика рта – только себя, и понимаешь, что крик зреет в самом тебе, рвет твои легкие и мозг…
– Не пугай меня, Алоизас. – Она присела возле него, хотя мысленно уже бежала к машине.
– Пощупай, пощупай пульс. – Он сунул ей руку, Лионгина сжала его запястье, но сначала уловила толчки собственной крови и тиканье его часов.
– Все в порядке, – сказала, хотя пульс действительно скакал неровной рысью.
– Уверен, стоит тебе закрыть дверь…
– Аня в соседней комнате. Крикнешь ей. Я должна ехать, Алоизас.
– Не нужна мне эта твоя… Не нужна! – Алоизас изо всех сил оборонялся от невидимой Ани.
– Не поднимай шума. Чем тебе Аня не угодила?
– Она мне отвратительна, отвратительна! Как она с этим боровом… с преподавателем?
– На вкус, на цвет… Я спешу. Вот-вот за мной приедут.
Лионгина одевалась, бодро стуча ящиками шкафа. Натянула новую комбинашку, будто там, где она скоро окажется, придется раздеваться. Не забыла и про косметику. Алоизас наблюдал, как теплая, только что уютно посапывавшая под боком Лина превращается в Лионгину Губертавичене – коммерческого директора Гастрольбюро, удивительно походящую на другую женщину, которую он когда-то хорошо знал, касался ее и любил, – на восхитительную Р. Для полного сходства достаточно Лионгине улыбнуться накрашенными губами и заученно пролепетать:
– I love you!
Такой станет она в краткий миг, пока будет поправлять прическу и одергивать новый твидовый костюмчик перед зеркалом, а в следующую вспышку вечности, повернувшись к нему спиной и откинув приглаженную головку, превратится уже в не помнящую себя воздушную гимнастку, и свойственные только ей черты и формы исчезнут, растворяясь в сверкающем металлическом трепете мотылька. Пусть такая, лихорадочно думает Алоизас, пусть такая, хотя и веет от нее ледяным холодом.
– В полночь я должна выглядеть, как в полдень. Ох уж эта моя работенка! – Она чуть виновато улыбнулась, Алоизас стоял за спиной, подозрительно рассматривая в зеркале ее меняющийся облик.
– Да, да. Встречать гостей, развлекать их. Постельку согреть, если какому-нибудь проходимцу станет холодно. Не доводилось? Ничего, привыкай.
– Алоизас, – голос ее дрогнул, – глянь на себя в зеркало. Глянь!
– Зачем? Я и так себя знаю: лысый, жирный, старый. Размазня, лентяй, захребетник, не так ли? Нет таких отвратительных эпитетов, которых бы я не стоил. – От пота блестели его облысевший лоб, голая грудь. – Даже теперь, когда выкладываю правду о себе, достоин презрения. Презирай же меня, презирай!
– Самокритика – действенное лекарство. Только не слишком ли поздно надумал лечиться? – Лионгина огляделась в поисках сумочки. Я должна выглядеть прилично, нисколько не испуганной угрозами Игермана. Впрочем, разве он угрожал? Уже забыла, что угрожал.
– А почему я такой? Ты думала? – Алоизас резко повернул Лионгину к себе, хрустнул плечевой сустав, он, испугавшись, отпустил, но тут же снова притянул. – Как флюгер, вертелся вслед за изменчивым ветром. Ты была этим ветром! Твой непостоянный характер, несерьезные занятия, бренчащая пустопорожность! Долго ли выдержишь, если все время будут толкать и дергать?
– Еще что выдумаешь? Приходилось останавливать, чтобы не влип, сделав шаг в сторону. Да, останавливать. Ты слышал? Человек на подоконнике… Давай отложим разговор до завтра.
– Ради тебя… Мне ничего не надо… для тебя… только для тебя… Какая ты есть… была бы… только для тебя… не уходи, Лина!
Бормотанием, дрожащими руками, прерывистым, несвежим дыханием он пытался удержать ее, хотя понимал, что поступает не по-мужски, некрасиво и неблагородно. Она обязана поехать на место происшествия. Ведь его Лина – единственная теплая пылинка во Вселенной – еще и административное лицо, ответственность с нее, пусть рабочий день и окончен, не снимается.
– Пусти, Алоизас, синяки останутся, – произнесла она спокойно, словно видела себя и его со стороны, и ее равнодушие прорвало последнюю запруду.
– Хочешь понравиться ему… ему! – истерически взвизгнул Алоизас, тряся ее, как огромную куклу с приклеенной улыбкой. – Я не слепой. Сразу узнал… этого бродягу… соблазнителя… прощелыгу этого проклятого, чтоб его черт побрал… К нему бежишь, к Ра-фа-э-лу!..
Он разбил на слоги ненавистное имя, будто поймал жену на бессовестной лжи, хотя прекрасно понимал, что имя ничего не решает, ни теперешнее – Ральф, ни бывшее, что не этот скверный, сам себя развенчавший чтец – виновник его несчастья, а горы, жуткие горы, которые умерли и снова воскресли, а скорее всего даже и не умирали, только ждали случая вырваться из густого, окутавшего их вершины тумана и снова похитить ее.
– Возьми себя в руки, Алоизас. Ведь ты же хорошо знаешь: никогда ничего между им и мною не было. – Ошеломленная страданием мужа, Лионгина позволила обвинять себя.
Алоизас сообразил, что зашел слишком далеко, но успокоиться уже не мог. Будто кто-то подсказывал ему злые слова, стоял рядом и засовывал их в горло. Уж не тот ли отвратительный черный тип, который преследует его, как злая собака? Но он же запретил ему находиться, нашептывать, дышать там, где есть она, Лионгина!
– Бродяги, мистификаторы, златоусты… Стишка по-человечески прочесть не могут, а туда же, на Парнас, к кормушке… Люди искусства, властители дум… Приветствую и поздравляю с необыкновенной победой!
– Тебя-то ни с какой победой не поздравишь. – Она отстранилась, поправила волосы, словно главное для нее – прилично выглядеть.
– Знаю, каков я, – уже говорил! – но прошу не забывать, – Алоизас поднял палец, как делала это входившая в раж Гертруда, – совести я не продавал. Ни грамма!
– Хочешь сказать, что я свою килограммами продавала? Что ж, муженек, ты прав. За счет моей совести мы живем уже десять лет. Только почему раньше не возражал?
На ее накрашенных губах змеилась заученная, ничего не говорящая улыбка. Теперь она обретается в таких высотах, где коченеют и чувства, и речи. Разве могла бы она так до ужаса спокойно разговаривать, если бы слова причиняли ей боль?
– Объяснились? Можно идти? – Лионгина укладывает в сумку складной зонтик. – Не люблю сцен. Тем более – среди ночи. Меня и так ждет малоприятная сцена в гостинице.
– Я всегда уступал тебе, но сейчас говорю: нет! Никуда ты не пойдешь. Знаю, что потом буду жалеть, но говорю: нет!
– Не сомневаюсь, Алоизас, что будешь жалеть.
– Я обязан удержать тебя, пока не поздно! Чувствую, еще одна такая ночь, еще одни подобные гастроли, и ты решишь, что я тебе абсолютно не нужен. Мне без тебя нет жизни, Лина, но и ты сильно ошиблась бы. Не хуже меня знаешь, что я тебе нужен. Пусть, как балласт, как цепи на ногах… Ха-ха!
– Ты сошел с ума и хочешь, чтобы я последовала твоему примеру! Возьми себя в руки, Алоизас. Если есть в моей жизни что-то настоящее, чистое, так это наши с тобой отношения. Ох, уже машина приехала! – Лионгина услышала сигнал «Волги». Больше не думала об Алоизасе.
Ее зовет Рафаэл, неосторожно ступивший на край пропасти и сверзившийся вниз. Он должен увидеть огонек надежды, пока не раздавили его мрак и одиночество.
Бредила струсившая, но отчаянная девчонка, ободравшая бока о камни. Она нетерпеливо дышала в затылок Лионгины Губертавичене, которая и не собиралась панически мчаться на помощь. Закрыла и вновь открыла сумочку – проверила, есть ли там расческа. Не просто как-нибудь, она должна выглядеть шикарно, несмотря на позднее время. Девочка, не дождавшись ее, простонала и бросилась вперед.
– Стой, Лина, если хочешь, чтобы я поверил твоим словам! Какое отвратительное слово – отношения. Было другое. Не помнишь, Лина, забыла?
Он вновь схватил ее за плечи; высвобождаясь, Лионгина задела локтем его лицо.
– Значит, так, так? – зашипел Алоизас, прикрыв лицо ладонями, а рядом трясся от злорадства маленький горластый человечек.
Долго сопел Алоизас, утирая рукавом пижамы нос. Крови не было, однако лицо горело. Его лицо, пусть одутловатое и постаревшее, обросшее клочьями седеющей бороды, однако неповторимое своей индивидуальностью, гордое и непримиримое каждой своей черточкой, не терпящее ни малейшего, тайного или явного, насилия. Один, один, как никогда! – простонал он, но в комнате был еще кто-то. Рядом ошивался тот тип.
– Ударила и убежала, ну и ну! – жаловался Алоизас, а тип, жавшийся около, всем своим ехидным видом доказывал, что произойдет, если Алоизас разрешит ему заорать, – стены рухнут, небосвод расколется, вселенная хрустнет, как скорлупа выеденного яйца!
Откуда ты взялся, противный и подлый? В тишине Алоизас наткнулся на свою тень. Наткнулся и забыл о ней, ожидая неизбежного, которое приближалось огромными шагами. Ясно понял, что был бы недоволен, ели бы не мог так яростно и радостно ждать, забыв все остальное, даже убийственную обиду. Ему уже не хотелось, чтобы Лионгина одумалась и вернулась с виноватым видом. Лишь мгновение, частицу мгновения ждала опустевшая квартира ее возвращения, а он жаловался кому-то и прощал ей все грехи. Потом зло хохотнул и разжал стиснутые кулаки. Мерзкий человечек, все время находившийся рядом, недоуменно разинул рот…
– Что с тобой, Сын Земли?
На потолке засветился экран телевизора, послышался мелодичный голос Берклианы.
– Ничего, кошка царапнула, – пробормотал Алоизас.
Она услышала, хотя дрейфовала в другой галактике.
– Что такое кошка? Почему ты не выстрелил в нее из атомного пистолета, который я подарила тебе ко дню рождения?
– Царапнула и удрала, шельма.
– Ты ранен, Сын Земли? Жди меня! – Грудь Берклианы заколыхалась. – Я вижу, ты страдаешь. Траектория моего полета задела вашу Солнечную систему. Внимание, катапультируюсь на сверхсветовом модуле!
Слились время и пространство, приблизился и растаял сверхсветовой модуль. Алоизас уставился на мерцающий овал, из которого лились мелодичные звуки, напоминающие испанский или португальский язык. Шея Берклианы вытягивалась, становилась похожей на шею земной женщины – на белую бархатную шею Ани, и не где-то там, за тысячи световых лет, а тут, рядом. Гладкая и теплая, все плотнее прижималась к нему женщина, замирая в его объятиях вместе с шорохом цветастого халата. Не бесполая богиня, а худое, крепкое женское тело, каждое ребро которого можно ощупать, сосчитать.
И неизбежное внезапно свершилось. Аня то вскрикивала, то смеялась, он же не издал ни единого звука, однако слышал непрекращающийся крик, раздирающий рот страшного, скрючившегося в нем человека, видел, как где-то в пространстве металась, падая и увеличиваясь, точка – раненый жестяной мотылек…
– Что ты натворила, Аня? – отстранил он ее от себя.
– Что ты натворил, проклятый? – Алоизас лихорадочно искал коварного подстрекателя, сообщника.
Пегасика она едва узнала – шляпчонка съехала на ухо, в глазках чертики, в зубах сигара. Машину, как мяч, швыряло с одной стороны улицы на другую. К счастью, не было встречных.
– С каких это пор пристрастились к сигарам? – не удержалась – съязвила Лионгина.
– Игерман! Чертов сын Игерман! Хочешь не хочешь, всем сует эту дрянь.
Лионгина не боялась, что они могут врезаться в троллейбусный столб или в ночующий на улице автомобиль. Там, где пролетает сейчас «Волга», колышется земля и все, что пустило в нее корни за семнадцать лет. Никому не нужных, пустых лет. Достойных сожаления и абсурдных, как и ее нынешняя поездка, над которой будет потешаться все бюро. Вдруг вспомнила, как неловко задела Алоизаса локтем. Неужели могла бы ударить его? Нет, никогда!
– Иго-го! – по-жеребячьи хохотнул Пегасик, проскакивая мимо сотрясающей асфальт пасти грузовика.
Ее отбросило к дверце. Вслед за страшной пастью полз не менее впечатляющий, груженный железобетонными блоками прицеп. Рассмеялась и Лионгина – громче, чем следовало в такой малосмешной ситуации. И я пьяна, не пивши пьяна. Нет, ты просто спятила! Этой ночью все сошли с ума.
– Больше я в вашу машину не сяду, – процедила она строго, а это значило: в Мажейкяй возьму, но еще куда-нибудь – вон из кожи лезь – ни за что!
Неожиданно Пегасик возмутился:
– Не я эти ралли выдумал. Чертов сын Игерман. Все претензии – к нему!
Парадные двери гостиницы широко распахнулись, хотя они не успели даже ручки коснуться. Швейцар пошатывался и икал.
– К мистеру… мистеру Игер… Егер… Егерману?
Из кармана его форменной куртки торчала бутылка коньяка.
Из-за стеклянной перегородки дружески приветствовала их наманикюренная ручка администраторши.
– Гости товарища Иг-гер-ма-на? Про-о-сим, про-о-сим!
Дежурная по этажу дремала на диване, укрывшись газетами. Из-под них торчали толстые, как бревна, ноги и веник крашеных волос соломенного цвета.
– Игерман всех напоил?
– Ага, набит деньжищами! – с боязливым уважением подтвердил Пегасик. – Космические человечки ему сыпанули – не иначе.
В квадрате окна, словно намереваясь выломать раму и прыгнуть вниз вместе с нею, стоял Ральф Игерман. Казалось, стоило ему чуть-чуть откинуться назад или сделать какое-нибудь другое неосторожное движение, и рухнет в темноту, в ночь, лишь кое-где прорезанную робкими огоньками. Его глаза, вперившиеся в дверь, горели, лицо блестело, как вспаханное и славным дождиком политое паровое поле. От него несло потом и гневом. В ногу Игермана судорожно вцепилась Аудроне, мертвенно бледная от шампанского и переживаний.
– Слава богу, директор! – Увидев Лионгину, Аудроне расплакалась, выпустила лакированную туфлю и бессильно осела на пол.
– Вставай, корова! – подскочил к ней, подняв кулаки, великан с путаной рыжей гривой.
Лионгина узнала ее сожителя Еронимаса С. Когда-то сыграл Пятраса или Топилиса[13]13
Персонажи из рассказов классика литовской литературы Жемайте.
[Закрыть] – никто точно не помнит, кого и где – и теперь изображал из себя непризнанного гения и жил за счет таких, как Аудроне. Невысокий плотный мужчина в модном бархатном пиджаке – математик и любитель конного спорта – оттер ругательски ругавшегося Еронимаса в угол.
– Дайте выпить, а то умру от страха, – жалобно пискнула Аудроне, и услужливый мужчина в бархатном пиджаке опрокинул в нее стакан.
– Спи, бедняжка, намучилась, бедняжка, – прочитал он молитву над ее блаженно сомкнутыми глазками.
В обеих комнатах люкса висел дым, как над подожженной свалкой. Беспорядочно и бессвязно выныривали из сигарного дыма какие-то вещи, музыкальные инструменты, знакомые и незнакомые лица, стянутые могучим магнитом в общую кучу. В этом муравейнике – кроме математика-жокея и экс-артиста Еронимаса – Лионгина увидела и с важным видом разглагольствующего профессора физики, пожалуй, единственного физика в Восточной Европе, все еще носящего галоши. С визгом крутилось в комнатах несколько девиц из ресторана – светловолосых граций неопределенного возраста, затащенных сюда вместе с оркестрантами и их инструментами.
– Прошу вас, маэстро, начинайте. Я прибыла на ваш королевский фокус! – Лионгина присела и подсунула под голову Аудроне чей-то свернутый пиджак. – Публики достаточно? Чего же вы медлите?
– Нашли дурака! Нет уж, теперь вы меня, как загнанную клячу, в бассейн с крокодилами за узду не затащите! Чего я там не видел? А здесь все-таки шестой этаж. – Лицо Ральфа Игермана сияло, будто освещенное прожектором. – Но вы тут, Лон-гина, Лонгина Тадовна, и снова небо горит звездами, и снова на душе весна! Эй, все сюда! – Он тщетно пытался собрать в кучу разбредшихся участников пира. – Предлагаю поднять бокалы за прекрасную гостью!
– Браво! Ура! Валё![14]14
Ура (лит.).
[Закрыть] – раздался нестройный хор – кричали и за столом и из-под стола, даже из ванной, за открытой дверью которой кто-то плескался.
– Прекратить! – рявкнул Игерман. – Блеете, как стадо баранов!
– Не их, себя ругайте. И перестаньте валять дурака, Ральф Игерман! Ведете себя, как мальчишка. Простите, хуже – как экстравагантный халтурщик. Понятно, оргии устраивать легче… чем по-настоящему читать поэзию.
Лионгина заставила себя выпалить эти злые слова, произнесла внятно и громко, чтобы все слышали, а главное, чтобы самой поверить в них. Вошла в номер смело, говорила еще смелее, однако чувствовала себя, словно упала в грязь. И не столько оскорбила ее компания и пьяный шум, сколько поза Игермана и банальные его славословия, будто половой тряпкой мазанувшие по ее глубоко похороненным, однако не умершим воспоминаниям, которые неизвестно зачем многие годы таила она от Алоизаса, да и от самой себя. Суть не в том, что я, ты или он уже не такие, какими были некогда или какими считали себя. Лионгина не знала, какова эта суть, лишь догадывалась, что есть нечто более важное, чего жаль сильнее, чем изменившихся черт лица или характера, чем жизней двоих или троих катящихся под гору людей.
– Хотите, прогоню их к черту? Всех до единого, хотите? – Игерман растопыренными пальцами ерошил свою поредевшую гриву и топтался на месте, не зная, как ублажить гостью.
– Лучше меня – к черту.
Ради этой дымящейся помойной свалки, ради сомнительного счастья лицезреть опустившегося типа она бросила Алоизасу оскорбительные слова? Более того – чуть не ударила его по лицу. А может, и ударила? Ведь не помнит, как вылетела из дома.
Повернулась, чтобы уйти. Игерман силой усадил в кресло, услужливо кем-то подставленное.
Дура ты, дурочка, усмехнулась она жалобно, благодари бога, что не пустился ныть и жаловаться на судьбу. Сам о том не подозревая, он придает тебе смелости своим поведением. Да, да – вселяет веру в собственные силы, взбадривает. Пронзенная его жалобами, пусть и клоунскими, неизвестно, что могла бы выкинуть. И все-таки разочарование царапало горло.
– Приглашать женщину на такое непотребное застолье? Не по-рыцарски, низко.
– Требуете хороших манер? Вы? – С лица Игермана, старя его, сползло сияние, вокруг глаз собрались многочисленные морщины. – А как вы поступили со мной? Швырнули хищникам, словно падаль… И они рвали меня на куски!
– Преувеличиваете, маэстро.
– Не называйте меня маэстро! – Он скрипнул зубами.
– Опомнитесь, вы же получили лучший зал города!
– Словно выметенный, хоть танцы устраивай! Нефтяники, если хотите знать, на руках меня носили.
– Значит, и нам следовало?
– Хватит колкостей, товарищ Лон-гина! Знаете, где это было? У нефтяных вышек, в глухой тундре, на вечной мерзлоте, где и вороны не садятся. Там – ведомо ли вам это? – металл крошится от мороза, а человеческое сердце – от одиночества, от тоски. Ведь приехали туда люди из солнечных долин, с зеленых полей, из цветущих садов. Живому нужны не только рубль и протухшие консервы – духовная пища. Я читал им Пушкина, взобравшись на эстакаду буровой. Пушкина и Лермонтова!
– Валяй Лермонтова, дружище! – подскочил к нему бритоголовый парень, с виду – прыткий юноша, на деле – отъявленный наглец. Лицо – как полежавшее дикое яблочко, потому, видимо, и прозвали Валькой Яблочко. – Хочешь, подыграю на гитаре?
– Осел! Не смей своим поганым языком марать даже само имя Лермонтова! – взревел, бледнея от ярости, Игерман, и Валька Яблочко юркнул за широкую спину своего дружка Еронимаса.
– Голосую за Лермонтова без гитары, – заявил физик.
– Кто такой этот Лермонтов? Тексты сочиняет? – пролепетала одна из девиц.
– Дура, написал «Героя нашего времени» и «Как закалялась сталь», – авторитетно пробасил Еронимас.
– Уйметесь наконец, подонки? Или придется глотки вам затыкать? – Игерман медленно поднимал руки, и обожженные, в шрамах и пятнах, кулаки, выползши на свет, заставили присутствующих умолкнуть.
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья…
Игерман начал «Демона». Читал не сплошь, не строфу за строфой, а отламывая по кусочку, карабкаясь по величественной круче поэмы, время от времени останавливаясь и сомневаясь, хватит ли духа добраться до вершины. Голос его не громыхал, как там, в зале, а на ощупь взбирался по опасным тропам, сражался со скользкими каменными завалами, со страхом сорваться вниз, с самой жизнью – суетливой, незадавшейся, успевшей побывать на многих уединенных перевалах и изрядно там намусорить, с жизнью, между прочим, очень похожей на его собственную. И все-таки был он в своих горах, окруженный опасными, мрачными скалами, и ни на мгновение не забывал запаха земли. После глухой, наполненной сомнениями и болью строфы вырывался вдруг и прыгал по циклопическим глыбам лучик насмешки, такой неожиданной, что у Лионгины захватило дух.
И много, много… и всего
Припомнить не имел он силы!
Даже запнувшись перед знаменитым местом, где сияет снегами, как гранью алмаза, Казбек и вьется по Дарьяльскому ущелью ревущий Терек, голос Игермана не загремел, не зарокотал, хотя уже вымел прочь весь мусор и ничто не мешало ему помчаться галопом. Он копил силы для того мига, когда появится Тамара, не догадывающаяся ни о существовании Демона, ни о своей судьбе, которая мелькнет в веках грозным предостережением человеческому роду, попытавшемуся дотянуться до небес.
– Громче! Ничего не слышно! – ворвался в тишину испитой голос Еронимаса.
– Заткнись, подонок, – шепотом одернул его кто-то из оркестрантов.
И дик, и чуден был вокруг
Весь божий мир…
Казалось, видит Игерман этот мир тут, среди дыма и грязной посуды, в шикарно убогом гостиничном люксе с прожженными гардинами. Видит и ее, Лионгину, какой была она давным-давно, когда еще не прикрывалась заученными мертвыми улыбками и словами, видит испуганную мощью своего голоса, его борьбой с накопившимся за десятилетия хламом преходящего и компромиссов.
– Горло пересохло, – внезапно прервал он чтение и оттолкнулся от стены.
Спина фрака была белой от извести. Пегасик подскочил, чтобы почистить.
– Сгинь с глаз! Выпьем, Лон-гина, а? – Прогнав Пегасика, Игерман налил ей и себе. – Ах, Лон-гина, Лон-гина! Вы плачете… раскаиваетесь? В чем, о господи?
– Вам мерещится, Игерман! – Она сердито провела по влажным глазам, пытаясь стряхнуть странный завораживающий голос этого человека. Даже его вульгарность и себялюбие влекли ее. – Сигарный дым глаза выел. Ну зачем такую вонищу курите? Набиваете себе цену? Вы и без того умеете не продешевить.
– Ненавижу сигары, как и вы. Это они! – Игерман ткнул рукой в сторону своих гостей. – Требуют, чтобы я постоянно чем-то дивил их, как Али-Баба из «Тысячи и одной ночи». Через час придется огонь глотать, чтобы компания не разбежалась.
– Придержите фокусы для сцены.
– Разве я фокусы показывал? Пушкина я читал на этой вашей хваленой сцене. Только откуда вам знать? Там же и духу вашего не было.
– У меня есть любимое местечко. Я уже говорила. Вы никого не слушаете, только себя.
– Так почему же тогда я вас не заметил, хотя все время искал? Если бы поймал ваши глаза, Лон-гина… влагу в ваших глазах – пускай от сигар или насморка, ха-ха! – разве я пал бы духом? Но… дорого яичко ко Христову дню… Услышав моего Лермонтова, вы больше не сомневаетесь, что я бы мог и Пушкина по-человечески отбарабанить? Вижу, не сомневаетесь!
– Ваше самомнение бесконечно, Ральф Игерман. Когда вам не удается концерт, вы ничтоже сумняшеся поднимаете на ноги весь город… спаиваете бедную Аудроне, будите среди ночи руководство Гастрольбюро. Все сюда, утешайте несчастного! Между тем за концерты вам платят. Отработайте честно и не мешайте другим отдыхать после трудов праведных.
– Хотите снова загнать меня на подоконник? – хмуро проворчал он.
– Если подоконник нравится вам больше, чем сцена… – пожала она плечами.
– Жало шершня! А я-то, бедный странник, думал – вот женщина, вот очарованная душа! Хоть всеми локаторами ищи, не найдешь. Выпорхнула внезапно, как птица из-под ног, ослепила и снова спряталась – попробуй насыпь ей соли на хвост! О вас, о вас говорю, Лонгина Тадовна! И еще… показалось мне, что похожи вы на одну женщину, которая встретилась мне в юные годы. Имя позабыл – сколько лет пролетело! – имя и голос. Нет, нет! – Он замахал руками, прогоняя видение далеких лет. – Та сегодня не насмехалась бы над несчастным. Может быть, постаревшая, морщинистая, некрасивая, но не такая, нет…
– Не знаю, о ком вы говорите, товарищ Игерман, какие женщины вам нравятся. Надо думать, их было немало. Сравнивая меня с одной из них, вы едва ли оказываете мне честь.
– Бога ради, не читайте морали, словно дряхлая леди!
– Как же еще мне относиться к вам?
Неживой рукой – тело обмякло, будто ее по голове стукнули – Лионгина пыталась разогнать сигарный дым. Тяжелый синий ком не рассеялся, даже не сдвинулся, словно отлитый из металла. Эта металлическая масса давила, давил низкий потолок, полные и пустые бутылки, хихиканье по углам. Не меньше угнетала собственная блестящая скорлупа, прикрывшая всеми забытое, хрупкое существо, которое затрепетало в ней от глупых слов этого дурня и жалобно повизгивало, требуя, чтобы его выпустили наружу. Беспомощное существо следовало затолкать поглубже, туда, куда не доходят призывы и мольбы, безусловно наигранные, а если и есть в его экзальтации искренность, то тем более заткни уши и улыбайся заученной, лукаво-вежливой все понимающей улыбкой.
– То, что вы терпимо читаете «Демона», еще не дает вам права смотреть на людей свысока. Могли бы самокритично и к себе отнестись, признали бы, что мы поступили с вами куда снисходительнее, чем вы того заслужили! – Лионгина говорила обидно, и жалостливое существо внутри нее стенало от обиды и боли – неужели действительно ничего в ней не осталось от прошедшей или выдуманной молодости, настолько ничего, что даже невозможно ее узнать? – Вместо того чтобы расторгнуть договор, когда вы опоздали с приездом, мы предоставили вам зал. Один из лучших залов города. На его акустику не жалуются и зарубежные гастролеры.
– На кой она мне черт, ваша акустика! Вот моя акустика!
Он грохнул себя кулаком по загудевшей груди, столько вульгарности и спеси вложив в этот жест, что у Лионгины побежали по спине мурашки. Ну и тип! Никакой интеллигентности. Комедиант! Впрочем, чего и ждать от дешевого клоуна? Ничего. Я довольна жизнью! И мне ничего не надо. Будь благодарна, что не жалуется на судьбу и не взывает к твоему милосердию, пускаясь в дали воспоминаний, до которых почти докопался. Пафос комедианта – спасибо ему за это! – поможет тебе окончательно справиться с безутешно рыдающим существом, которое никто не хочет узнать и назвать по имени.
– Я и забыла, что вы живете по иным физическим законам, чем мы, простые смертные. Вы ведь прибыли к нам на летающей тарелочке.
– Чем не угодила вам тарелочка? Неопознанный летающий объект? Что, разве плохо, если потрещат малость ваши высохшие мозги, разгадывая загадку? – Игерман понизил голос, выпрямился и глянул на Лионгину с высоты, словно она была муравьем на тропинке. – Мир полон тайн, мечтаний, желаний, неужели вы забыли об этом, Лон-гина?
– Умные люди… – Лионгина пыталась возразить, но поняла, что сделает это тупо, не так, как привыкла, и умолкла. Огорченная собственной нерасторопностью, отхлебнула коньяк.
– Кто эти умные? Покажите мне! Замшелые камни, трусы, у которых вечно дрожат поджилки, обыватели с теплыми улиточными домиками за спиной или слабаки, якобы во всем разочаровавшиеся, потому что не осмелились в свое время помериться силами – нет, не с бурями, где уж там! – со сквознячком в гостиной. Разве человек обречен только на пижаму и шлепанцы, только на одурение от несущего бесконечный вздор телевизора? Было бы чертовски скучно жить, если бы очарование мира исчерпывалось лишь таблицей умножения, кибернетикой и тому подобными, безусловно полезными вещами!
– Все-таки интересно, как вы там летали? Я – практичная женщина, хотелось бы узнать, во сколько вам это обошлось. Наверно, не дешевое удовольствие? – Лионгина пыталась унизить его, но чувствовала, что не удается.
– Обошлось! Ого-го, во сколько обошлось! Но я не жалею! Между прочим, астронавты с Ориона не знают, что такое плата в нашем понимании. Золото, деньги – для них это слишком ничтожная субстанция. Простите, Лон-гина Тадовна, унитаз у них на корабле драгоценными камнями инкрустирован. Выколупал я несколько бриллиантов – Пегасик еще не сообщил вам этого? – и кормлю шайку шакалов, ха-ха!
Ральф Игерман расхохотался, довольный своим ответом, щеки его, посиневшие от щетины, тряслись, тряслась напыженная грудь, вылезающий из-под пояса животик, но перед глазами Лионгины против воли и желания возникал Рафаэл Хуцуев-Намреги – молодой и стройный, с горящими глазами и исполненной нежной силы песней на устах.
Почему же не остались… на той тарелочке? – прошептала Лионгина.
– Вам действительно интересно или хотите взять реванш? – Он мрачно, исподлобья глянул на нее, подозревая подвох. – По одной причине.
– По какой же?
– Я уже говорил вам об этом в милиции или по дороге из милиции, куда обратился, не имея пристанища. Вы забыли, Лон-гина. Человечки с Ориона не знают, что такое любовь.
– Как интересно, хи-хи! – взвизгнула одна из ресторанных блондинок.
– Не такой уж плохой вариант. Значит, их женам и любовницам не угрожают аборты! – прыснула другая.
– Заткнитесь, красотки! – грубо прикрикнул Игерман. Не вам рассказываю. Ешьте, пейте на здоровье, прошу вас, но не суйтесь в наш разговор. Любовь удержала меня на Земле, да, Лон-гина, любовь.
– Вы верите в любовь? Вы, такой потасканный… – чуть не ляпнула «тип».
Испуганно ожидая разгневанной отповеди, Лионгина протянула Пегасику бокал, тот плеснул, облив ей пальцы.
– Ваша правда, Лонгина. Потасканный. Где только я не бушевал, не куролесил, на голове не ходил, в какие чужие двери не стучался! – Игерман трагически окрасил голос, вытянул испещренные шрамами, в огне или химикатах обожженные руки. – Забыл край, где родился. Ведь все мы где-то рождаемся, правда? Приехал однажды и ничего не узнал. Трубы, терриконы, вагонетки… Водопад Намреги сунули в трубу, горцы превратились в горняков. Вот я и напялил на себя псевдоним, словно клоунский колпак для привлечения легковерных, – вроде как зарубежный маэстро, не правда ли? Судьба меня швыряла и ломала, не спорю, но поверьте, Лон-гина, ни единого дня не жил я без тоски по любви, без веры, что в конце концов встречу женщину…







