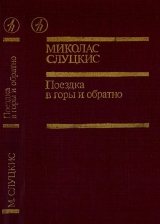
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)

Алоизас собирает в стопочку разбросанные бумажки, покусывает карандаш и поднимается из-за стола. Только бы не броситься, вытаращив глаза, к Лионгине! Явилась наконец! Промокшая, замерзшая… А кто виноват? Давно уже следовало быть дома. Он ждет, пока схлынет порыв радости, успокоятся дрожащие от нетерпения руки. Переставляет захватанную пальцами Алмоне раковину. Кусок мяса! Глупа и несимпатична. Сейчас ему невыносимо ощущать чужой наглый запах. Нет, коллега, со мной у тебя не выгорит! Приободрившись от этой мысли, Алоизас несколько успокаивается. Потягивается, расправляет плечи и, решив, что промедлил уже достаточно, тихонечко отправляется на кухню. Все-таки переусердствовал, не удается застать врасплох. Лицо уже переменилось, стало частью послушной, аморфной массы, такую мни сколько угодно, все равно получишь безликую, со всех сторон обтекаемую форму. Добрая, заботливая, не щадящая себя жена, всегда сознающая свой долг по отношению к мужу и так далее. О чем она в эти мгновения, сдерживая дыхание и внутреннюю дрожь, думает? Что, к примеру, думает обо мне и этой высасываемой из пальца, слепленной из надерганных отовсюду цитат моей книжонке, когда не надо опасаться строгого взгляда, все еще помнящего ее в беспутном бреду меж двумя мужчинами, не знающую, какого выбрать? Вспоминает ли она когда-нибудь свое падение в горах, апокалиптического ящера, оскалившего пасть? Пахло тогда порохом, небытием – во времена Пушкина и Лермонтова прогремели бы пистолеты! Смешно об этом думать, когда вина давно прощена и все быльем поросло. Но вот… вернулась, словно ничего не было… И в тишине что-то зреет… Каким кажусь ей, когда не вынуждена она угождать мне, почитать за седеющие виски и поредевшую макушку? Услышать бы однажды слово правды – не утешения! Его охватывает ощущение, будто он разбил стеклянный сосуд и бредет по осколкам босой.
– Ты, Алоизас? Почему молчишь?
И сама молчит, ее еще нету здесь, хотя первые слова уже произнесены, они почти домашние, подчиняющиеся его опеке и требовательности; однако Лионгина не разделась – странно. Обычно торопится сбросить надоевшую за день одежду – избавиться от чужих взглядов, чужих прикосновений. Опустила на пол тяжелые сумки и стоит над ними, будто собирается вновь выйти из дому – забыла какую-то мелочь или приведет другую, ожидающую за дверью женщину, которая будет за нее двигаться, говорить, что-то делать.
– Раздевайся, что стоишь?
Не услышала? Неприязненно касаясь влажной клейкой синтетики, Алоизас вылущивает Лионгину из болоньи. Ее спина влажна, но совершенно не пахнет потом, не то что крепко сбитое тело Алмоне. Чтобы прогнать ее запах, Алоизас обнимает сзади тонкую талию жены, ладони тянутся под кофточку, пытаясь нащупать маленькие твердые груди.
– Ох, Алоизас! – стонет Лионгина и сгибается пополам.
Едва ли это сопротивление, но он убирает руки, чтобы не возомнила себя победительницей после столь долгого гнетущего ожидания, после всего этого бесплодного, не подарившего ни единой творческой мысли дня.
– Где ж ты так измоталась, Лина? – Это не вопрос и не упрек. Все, что узнал бы сейчас о ее делах и заботах, лишь еще больше расстроило бы. Лучше уж подождать, пока сама решит, что выкопать для него из-под обломков дня. Все равно вылезет то, чего не осилила, что против воли и желания притащила домой, словно грязь на сапожках. Неловко наблюдать, как она пытается заправить выбившуюся из-под юбки блузку. Кулачок свободно входит под пояс, и другой бы уместился. Худеет день ото дня, хотя на здоровье и не жалуется.
– Почему тебе показалось, что я измотана?
Что-то невразумительно бормоча, Алоизас ловит кулачок жены, не может удержаться от соблазна разогнуть у себя на ладони тонкие пальцы. Точно сухие веточки… Лионгина отнимает руку, как если бы кто-то чужой пытался силой проникнуть в ее сокровенное, скрытую от всех суть.
– Нисколечки я не замучилась. Выдумываешь ты все.
И тут же, испугавшись, не выдала ли себя:
– Паршиво выгляжу? Только правду, Алоизас!
– Выглядишь симпатично.
– Почему не говоришь, что я красивая?
– Это само собой. Симпатичность более высокое качество, если хочешь – признак интеллигентности.
– Отговариваться ты умеешь. Лучше бы правду…
– Если правду – немного усталая…
– Где там немного, как загнанная лошадь. Кручусь, словно заведенная.
Отсыревший на улице голос трепыхается, как мокрая тряпка. Ни одной звучной ноты – сиплый, давно расстроенный орган. Лионгина испугана, что потеряла не только голос, ощупывает шею, ерошит волосы – их густая жесткая грива не становится пышной, как обычно; придется восстанавливать всю себя по частям.
– Почему не позвонила? Встретил бы.
И он и она понимают, что это слова, не больше. Если бы похныкала, конечно, выполз бы наружу. Философствуя, мудро морщил бы лоб на дожде – до чего же таинствен и непознаваем мир ночью! – а сам внутренне негодовал. Встретил бы мрачный, недовольно сопя и откашливаясь.
– Думаешь, я боюсь чего-нибудь? Ничегошеньки мне не страшно! – глухо говорит Лионгина. Это ее вызов темной, ветреной, все еще волочащейся следом улице, вызов чему-то, чего она не желает знать, но одновременно и ему, Алоизасу, его мелочным, обезоруживающим заботам.
– Разве я говорю, что ты боишься? – Лучше согласиться, чем вступать в спор; того гляди, из бледных губ, хлебнувших уже немало женской горечи – хотя в лице и фигуре много девичьего, – вырвется стон и потрясет его, как потрясена сейчас она. Что-то случилось, пока клевал он носом над бумажным листом, пока отбивался от бесцеремонной спортсменки. – Знаешь, мне пришла в голову гениальная идея. И как все гениальное – предельно простая: посиди спокойно, отдохни, а я приготовлю чай. Ну, как?
– Господи, ты же ничего не ел! – Испуг не слишком искренен, на нее не произвело особого впечатления, что он голоден.
– Во-первых, я закусил. Во-вторых, ужинать уже поздно. А вот чайку попить – всегда кстати. Англичане пьют его с шести утра и до ночи. Последуем их примеру?
– Чьему примеру? – Лионгина снова куда-то провалилась. На него смотрят невидящие, непонимающие глаза.
– Я собирался заварить чай.
Должна же она понять, что он не шутит, такие вечера – просто кошмар. Сам не может сообразить уже: придумал ли он этот чай, чтобы подразнить ее или действительно из жалости к уставшей и измотанной.
– Ты – заваривать? Не смеши, Алоизас. – Едва промелькнувший осмысленный взгляд вновь уходит куда-то в сторону.
– Для доказательства того, что я не шучу, будь любезна, скажи, где ты держишь чай? – Голос его, натолкнувшийся на пустоту, становится громче, словно собирается наказать – не помочь.
– Посиди со мной, милый. Сейчас приду в себя и все сделаю. – Лионгина не желает вникать в суть его замысла, хотя и не сомневается в праве мужа требовать и выговаривать. Она борется с собою – ей необходимо удостовериться, что уже в силах двинуть руками и ногами, а главное, что ей хочется делать то, что делала ежедневно. – Садись!
Она опускается на табурет, прикосновением руки побуждает Алоизаса устроиться рядом, он отрицательно покачивает головой и высится над ней с торчащим кадыком. Нужно сохранять некую дистанцию, чья-то голова должна мыслить трезво. И так чуть не ввязался в авантюру, жалеючи ее. Заварить чай – авантюра? – мелькает насмешливая мысль, остатки прежних времен, когда с помощью кривой усмешки он побеждал и большие страхи.
– Только прислонюсь к стенке и вскочу. Вот так! – Лионгина пытается приподнять руку с колен и не может. Сидит, безвольно опустив плечи, потрескавшиеся губы вздрагивают, как наколотый на булавку мотылек. Издерганной, полуживой – все-таки приятно шевелить крылышками в тепле. На бледном лице проступает слабый румянец, и Алоизас разрешает себе заговорить более суровым голосом:
– Соображаешь, сколько времени? Час ночи!
– Надо же, час ночи, – сонно удивляется Лионгина, будто не она соблаговолила так поздно притащиться домой, а какая-то другая женщина, присвоившая ее имя.
– Я с тобою серьезно говорю!
Алоизас едва сдерживает себя – так бы и встряхнул это расслабленное тело. Впрочем, хватит трепать себе нервы, довольно загадок и отвратного настроения. Но и в этот момент, добиваясь полной ясности, он не особенно ее жаждет. Ясность может еще сильнее все запутать. Поэтому он сбавляет тон, хотя все еще сверлит жену глазами. – И все-таки, что с тобой стряслось, Лина? Вроде бы имею право знать…
– Со мной? Ничего. Ровным счетом ничего… Может, с тобой?
Это не ответ, скорее отговорка, если не дерзость. Да, с ним кое-что случилось, не успел еще толком разобраться, что именно. Прежде всего, беспокоясь о ней, ни на строку не продвинулся вперед. Во-вторых, какая-то девка лапала его перламутровую раковину – отныне будут раздражать следы чужих пальцев на ней. В-третьих, разнервничавшись, он изменил самому себе, своим принципам: готов был заварить чай! До сих пор ни разу даже газа не зажигал. Не бог весть какая наука, как-нибудь постиг бы, но сегодня – чай, а завтра? Чего еще потребует она завтра? В какой капкан чуть-чуть не сунул голову! Он ощущает себя преступником – перед собой и перед Гертрудой. Ясно видит сестру – стоит в дверном проеме. Лицо каменное, широченная верхняя губа осуждающе вспухла.
– Глупости. Что может случиться дома?
Он не склонен выдавать себя. И Гертруде нечего здесь делать. Все же мысленно представляет ее себе – повернулась, уходит, взгляд провожает напряженную, обиженную спину. А ведь и она человек! Не видимся по целым месяцам, не звоню. Сегодня я, как никогда прежде, – Губертавичюс, преисполненный уважения к своему роду.
– Дома… дома?
Что это? Спит с открытыми глазами, хоть и пытается улыбнуться? Лицо – белое, плоское, твердое. На такое бабочка не сядет. Кажется, выдавит улыбку – и пойдет лицо трещинами. Ей-богу, не видывал у нее такого, нет, вру, видел. Не хочется вспоминать где.
– Ладно. Устраивайся, как тебе угодно, но возвращайся пораньше. Ночные прогулки могут плохо кончиться! – Во что бы то ни стало надо заставить ее очухаться, если, конечно, не притворяется, чтобы побудить его еще дальше отступить от своих принципов, добровольно сойти с домашнего алтаря или пьедестала, который сама – кто же еще, если не она? – соорудила. – Разве не слыхала про студентку? Нашли в овраге за городом… Трое извращенцев, один несовершеннолетний, бежавший из колонии… Неужели не слышала?
– Говорил кто-то еще в прошлом году. – Лионгина явно тянет время – последние мгновения бездеятельности и расслабленности.
– В прошлом? Думаешь, нету новых фактов? – Действительно в прошлом… Вот ведь неудачный пример привел. Уже который раз подводит в этот вечер память! – А про одну пожилую женщину рассказывают…
– Лучше обрати внимание на пожилую женщину рядом с собой! – Лионгина отталкивается от стены и, стараясь держаться прямо, поднимает на мужа неживое лицо, кажется, упади она – зазвенит осколками. – К ней приставал на улице пьяный мальчишка. Веришь?
– К тебе? Пьяный? – Этого следовало ожидать, недаром мерещились ему за окном всякие чудила, пусть виднелись там только голые, облитые дождем деревья, обычные деревья.
– Почему бы и не ко мне, если к старухам пристают? Ведь я достаточно старая! – И, вместо ужаса или возмущения, у нее вырывается смех, хохочет так, что затылком стукается о стену, давится, икает и никак не может остановиться, хотя понимает, что хохот ее непристоен, оскорбителен. И еще понимает, что смеется не над тем, как ошарашен был преследователь, когда она обернулась, а над собою, над своими бессмысленными стараниями противиться тому, что неизбежно. Может, все это заслуживает лишь легкой усмешки, и только?
– Не могла сразу сказать? И тебе смешно?
Алоизас сцепляет пальцы, чтобы руки не сжались в кулаки и не нависли над белым, издевающимся над ним, – безусловно, над ним! – лицом. Когда-то позволил себе нечто подобное, правда, не кулаком, но сам покачнулся от удара, ползал в пыли около упавшей, умолял подняться. Может, выдумала этого мальчишку, если хохочет? А если этим, рвущим ей самой грудь, смехом пытается прикрыть нечто более страшное, ударившее душу куда больнее? Никогда не страдала от выдуманного. Бредила когда-то горами, но они кололи глаза, лезли в окна – тех камней не надо было выдумывать. Все, что происходит сейчас, не в их ли ледяной тени зародилось? Не в глубокой ли бездне?
– Нет, надо что-то делать! Надо!
Он топчется на месте, так как кухонька величиной с карман. Утереть ей злые слезы? Подать воды? Покликать соседей? Она никого и близко не подпустит – ногтями защитит свое право на дурацкий смех. Кажется, в клочки могут разодрать ее дрожащие растопыренные пальцы. Отправить завтра к врачу? Ведь очевидная истерика, нервный шок. Мелькнувший в голове термин – шок – как-то объясняет происходящее и немного успокаивает. Сейчас все пройдет, должно пройти, если трясется. Поторопись – и сделаешь из мухи слона. Выставил бы себя на посмешище! Что-то предпринять нужно, но не наобум, а всесторонне обсудив положение, обдумав возможные последствия.
– Ты переутомляешься. – Он поглаживает воздух, не касаясь ее словно успокаивающегося после побоев тела. – Переутомляешься, а я слишком требователен.
Она не отвечает, напуганная своей истерикой, – с опозданием до сознания ее доходят отзвуки мучительного смеха.
– Нервы – бич нашего века. – Банальная фраза ободряет. Глаза Лионгины, заметившие его не осмеливающуюся дотронуться до нее руку, теплеют от благодарности. – У тебя слишком много забот для одного человека. Давай попробуем перераспределить семейные обязанности, а, Лина? И социологи советуют, – Алоизас пытается заинтересовать приходящую в себя Лионгину предложением, в реальность которого и сам не очень верит. Больше всего жаждет он не дополнительных обязанностей, а спокойствия, которое бы не нарушали взрывы болезненного смеха, уличные происшествия и странные визиты, – вновь ощутил запах Алмоне! – Я бы мог сам приносить из ближайшего магазина хлеб, молоко, а?
Лионгина распрямляет уставшую спину. Смех помог изгнать судорожное напряжение из тела. Теперь из него легко было бы вылепить кое-что другое. Получился бы поскребыш, так мало в ней веса. Голова Алоизаса гудит от пустоты – огромной, необъятной.
– И тебе стало бы чуточку полегче. Слышишь, о чем я толкую?
– Слышу, милый.
– И что скажешь?
– Скажу тебе спасибо. Но помощь мне не нужна. Я живучая, сильная, вот увидишь! – Голос зазвучал бодрее, хотя она все еще не решается подняться с табуретки. – Не позволю, чтобы мой муж топтался в очередях.
– Разве мало мужчин в магазинах толчется? Я же вижу.
– Это не мужчины! Мужское дело покупать вино, конфеты и цветы!
Слова не ее – сестрицы Гертруды, до тех пор долбила, пока не вбила в голову, но не сдобрены ли эти слова иронией? Нет-нет! Лионгина уже возвратилась из странного путешествия, окончательно очнулась, опять стала послушной ему женой. И когда она снова начинает говорить, он узнает уже свои собственные, не кому-то другому принадлежащие слова:
– Когда работаешь над книгой, мысли должны реять в недосягаемых высотах. Кастрюли и тряпки – плохие советчики. Если существует в мире что-то святое, то это прежде всего исписанный лист бумаги. Кстати, я принесла тебе хорошей бумаги.
Фразы его – пошлые, самому ему опостылевшие, но голос ее – неровный, прерывистый. Произносит слова торжественно, выкинув из головы странные свои россказни, и самоуважение Алоизаса постепенно начинает восстанавливаться. Хотел бы почерпнуть еще больше одобрения в ее оттаивающей душе, чтобы начисто забыть мрачный вечер и тверже уверовать в свое призвание, – что это, если не его книга? – однако боится унизиться, умоляя о нежности. Однажды Лионгина уже была свидетельницей его слабости – там, в горах, в тех проклятых горах, когда едва не рухнула только-только начавшаяся совместная их жизнь. Хорошо, что он вовремя взял себя в руки.
– Так или иначе, дорогая, давай договоримся: сегодня ты в последний раз пришла после двенадцати! Слышишь, Лина? Потеряешь здоровье, кто будет виноват? Кого винить?
Тебя – кого же другого! – полоснул он себя по живому и почти понял, почему в этот вечер, как, впрочем, и во многие другие, – не высидел ни строки. Попробуй углубиться в дебри абстракций, поверить в запыленную мудрость цитат, забыв обо всем на свете, если ты вынужден все время, напрягая нервы, следовать мысленно за странным созданием – уже не девочкой, но еще не женщиной, – пока она не закончит свою беготню по нескончаемым муравьиным тропам? Черт знает чем замусориваешь себе душу, ожидая ее. Тиканье часов – никаких иных звуков во всем мире, подергивание секундной стрелки – никакого другого движения. Превращаешься в амебу, унижаешься до ее восприятия мира, и вот уже не существует для тебя Вселенной со всеми великими загадками мироздания, не существует ни бытия, ни эстетики. Еще несколько таких вечерних бдений, и почувствуешь себя одноклеточным.
А Лионгина уже возле плиты: зажигает газ, ставит чайник. Нож в ее руках тонкими ломтиками нарезает хлеб. Нагибается к нижней полке кухонного столика – достать варенье, тянется, встав на цыпочки, к верхней – там в жестяной коробочке чай. Блузка вновь выбивается, поблескивает сильная, совсем не уставшая спина. Вновь крепкая, вновь живучая? Вокруг Лионгины вскипает вихрь движений, запахов, звуков. Ничего не случилось, ничегошеньки, все, чему суждено было произойти, осталось в прошлом. Будущее зависит от их выдержки и его работы, вот именно: от его работы, там-тарарам, тарарам-там-там!
Они пьют чай, успокоенные привычным действом. Алоизас представляет себе, как вскоре обнимет ее, полусонную, отдающуюся ему на застеленном хрустящими свежими простынями ложе. Однако, когда, уже в постели, кладет он ей на живот руку, Лионгина стонет и отворачивается, остро выпирают ребра.
– Завтра, хорошо? Я так устала…
Поскольку он не сразу убирает руку, она добавляет:
– Смертельно.
Утро мрачное и тяжелое, мало чем отличающееся от ночи, вероятно, лишь тем, что бледного пятна луны в небе не видно. Разноцветные автомобили – куча заляпанного грязью металла, которую то сбивает в груду, то вновь раскидывает слепая сила. Рассматривая в тусклом зеркале свое отражение и представляя себе, что творится на улице, Алоизас, поеживаясь, заученными движениями вывязывает галстук. Скоро уличная слякоть поглотит его целиком, а пока лишнюю минутку можно понежиться в сухом тепле, ощущая во рту вкус утреннего черного кофе. Постепенно набухает красно-синий узел галстука – не большой и не маленький, такой, как ему нравится, – и это умеряет недовольство и собой, и утром. Сам не может понять, что больше тяготит: отказ Лионгины от ласки или потерянный в ожидании ее вечер. Ладно. Хочешь не хочешь, а предстоящие шесть часов, когда придется внедрять премудрость эстетики в молодых олухов – их черепные коробки забиты чем угодно: баскетболом, выпивкой, сексом, может, даже кое-какими более возвышенными мыслями, только не тем предметом, который он читает, – развеют гнетущее утреннее настроение.
Еще один, завершающий взгляд в зеркало, словно придется ему вышагивать в сухом солнечном просторе, а не по грязному тротуару. Темно-серый в полоску костюм с модными широченными лацканами, белейшая рубашка – острые уголки воротничка, красно-синий узел. Все сидит точно влитое. А рубашка еще хранит тепло Лионгининого утюга, и в тепле этом некоторый укор. Пока он потягивался, делая зарядку, и курил, она пылесосила, накрывала на стол, успевая в промежутках гладить. Впрочем, отогнал он укор, так и должно быть: кому большая ответственность, а кому мелкие бытовые заботы. Вчера, расстроенный ее отсутствием, он едва не допустил ошибки, вызвавшись заварить чай, чуть не разрушил заведенный в их семье рациональный порядок. Именно рациональный. Точное определение, возникнув в мозгу, убеждает в правильности его поведения, он прогоняет укор совести, тщательно поправляя манжеты, – не слишком ли высовываются из рукавов? С самого утра в него вонзятся несколько десятков глаз. Перхоть на воротнике, потрепанные брюки, несвежая рубашка – и авторитет подорван. Поэтому не такое простое дело – причесать волосы, особенно когда макушка внезапно оголяется. Почему внезапно? Прекрасно помнит тот вечер, когда почувствовал, что пробилась лысина. Это было в театре, во время действия распахнулись двери балкона, сквозняк растрепал ему прическу – хвать за покрывшуюся гусиной кожей макушку, а там уже не чаща – просека.
– Ничего, еще не развалина. – Алоизас заставляет себя улыбнуться, его ворчание – повседневный ритуал, как и любующийся им, нечаянно пойманный взгляд Лионгины. Утренний – гладко выбритый, расфранченный, с высоко вскинутой головой! – он кажется себе выше ростом, излучает бодрость и уверенность.
Лионгина, словно вынырнув из таинственных глубин, отражается в зеркале рядом с ним.
– Не сердись, милый. Я была такая измученная.
– Разве я палач? – гордо вскидывает он подбородок – никакого намека на обрюзглость, на складки жира.
– Ты ведь знаешь, я всегда послушна. Вот карандаши тебе очинила.
В горсти зажаты остро отточенные карандаши. И когда только успела?
– Разве я утверждал, что ты непослушна?
Она шмыгает в комнату, слышно, как шуршат бумаги на столе, стучат вставляемые в стакан карандаши. Смотри раковины не трогай! – хотел было предупредить, но тогда пришлось бы признаваться, что вчера тут была одна неприятная особа, – ухватила ракушку, как охотник – зайца-подранка. Неприятна, однако и привлекательна чем-то. Сам не знает чем. Привлекательна – не тот эпитет. Может, и обмолвился бы невзначай, не вдаваясь в подробности, – ведь ничего между ними не произошло, выставил нахалку, и делу конец, – но покорность Лионгины, не высказываемая словами, заставляет быть настороже. Хорошо хоть, силой не добивался ласк, как некогда там, в горах – в этих страшных горах! – дорого заплатил за свою горячность и, что греха таить, до сих пор расплачивается. Когда-то требовал послушания, полного самоотречения, а теперь куда нужнее и милее ее доверие.
– Извини, Алоизас, утаила я от тебя вчера… – Она делает глубокий вздох, израсходовав на одну фразу весь воздух легких.
– Брось, Лина. Вбила себе в голову какую-то чушь. Смешно! – негромким, деланным смешком Алоизас пытается отгородиться от подкрадывающегося страха. Не удастся ему войти в аудиторию свежим, чувствуя покалывание иголочек одеколона на выбритых щеках. Новый костюм цвета маренго повиснет, как на гвозде, бодрость духа улетучится, и сосредоточиться не удастся. – Надеюсь, не укокошила своего преследователя? Жив, наверное, подлец?
– Мальчишка, понимаешь, сопливый мальчишка. Струсил, когда я обернулась… Но то, что я тебе хочу сказать, куда страшнее… Ты…
Ей снова не хватает воздуха, и он поспешно перебивает:
– Знаю, знаю – мать. Ты всегда возвращаешься от нее будто чокнутая. Что, голодовку объявила, не полакомившись любимыми наполеонами?
Большая уступка с его стороны, что вспомнил о матери. Деньги дает, расходов не проверяет, но терпеть тещу не может: ни болезни ее, ни разговоров о ней.
– Нет, Алоизас. Вчера она вела себя пристойно. Никаких капризов. Хотя имела законный повод: заявилась к ней только в одиннадцать.
– Недра моей фантазии исчерпаны, дорогая. Неудача в институте? Вроде не жаловалась. – Алоизас видит, что жена все глубже погружается в какую-то горестную пучину. Необходимо выбраться на твердый берег, пока не унес мутный поток. Усталой, измученной мерещится то, чего еще не было?
– Институт ни при чем. Отсиживаем свои часы, кто позевывает, кто похрапывает. Не то, милый.
Оторопь берет от ее намерения опрокинуть все возводимые им преграды. Этак сразу ухнешь в трясину, где не за что ухватиться, а в голове пусто, разве придраться к грубоватому словцу «похрапывает»?.. Она явно злоупотребляет своим правом портить ему настроение. И Алоизас взрывается, шипит злобно:
– Скажешь наконец, что случилось?
– Со мной, как видишь, ничего. На куски не разрубили. – Она искоса поглядывает на него, глаза белесые, как у несвежей рыбы. – С Аницетой. С Аницетой Л.
– С какой еще Аницетой? Господи, до чего же мы чувствительны! – вскрикивает Алоизас, и легкий ветерок облегчения трогает разгоряченный лоб. Из большой тучи да одна капелька?
– Будешь кричать, ни слова больше не скажу. А дело жуткое.
– Даже жуткое? Ну и ну! – Алоизас, направившийся было в прихожую, возвращается, чеканя шаг. – И что же произошло?
– То, что с Аницетой случилось.
– Уже слышал, что с Аницетой. Не с тобой? С тобой-то ничего?
– На куски не разрубили, – повторяет она одну из своих сегодняшних грубостей.
Алоизас расхохотался бы от души, чего, правда, делать не любит, если бы не эта ее безумная серьезность. Вцепилась и не отпускает, хоть и не держит, двери в день для тебя открыты – до следующего, может быть, еще более неприятного приступа истерики.
– Постой, а я знаю эту Аницету?
– Забегала как-то за конспектами. Однокурсница. Худенькая такая, брови черные. Язва у нее двенадцатиперстной.
– Это которая беспрерывно фыркала? – дать Лионгине время, чтобы пришла в себя, взвесила в руке камень, прежде чем размахнуться и бросить.
– Просто посмеивалась. Очень уж ты педагогично с ней беседовал. Смешит ее все напускное. Допытывалась у меня потом, не дворянских ли ты кровей.
– В самом деле? – Алоизасу льстит проницательность Аницеты, но губы невольно кривятся – он весь полон ожидания того, что сейчас выплеснется и понесет неведомо куда.
– Только, пожалуйста, не перебивай меня, – Лионгина отвечает ему, упрекает его, но полной уверенности, что разговаривает она с ним, у него нет. Впрочем, кто другой согласился бы выслушивать ее дурацкую болтовню? Усмешечка отскакивает, не производя на Лионгину никакого впечатления. Только теперь Алоизас замечает, что этим утром и Лионгина приоделась, точно не на службу собралась.
– Так только во сне бывает, в кошмарном сне… Представь себе, идет у нас семинар по политэкономии, доцент, как обычно, цепляется к Аницете из-за какой-то мелочи, не тот термин употребил.
– Термины – не мелочь.
– Ты же обещал не перебивать?
Не обещал, но ради покоя – смолчит.
– Короче, заспорили они, Аницета тоже не лыком шита, спорят и не видят, что в аудиторию прошмыгнула женщина с телеграммой в руках. Продавщица, вместе с Аницетой работает. Поглядывает на нас, какие-то знаки делает, а от Аницеты вроде прячется. Передали мы бумажку Аницете, развернула да как закричит! Пронзительно, страшно. В жизни такого вопля не слыхала…
– В аудитории? При всех? – публичных излияний чувств Алоизас не одобряет, но удивление его наигранное – как-нибудь отсрочить, отдалить то, что надвигается, угрожает душевному равновесию. Пропустить страшную новость мимо ушей не удастся; хоть бы втиснуть ее в подходящие для обсуждения рамки. Восприятие особенностей формы – отличительная черта развитой личности. Лионгина никогда не ценила условностей и формы. Кидается из хаоса в еще больший ужас.
– Что она еще могла сделать, что? Ведь ее Вангуте… машина сшибла… ее Вангуте!
– Девочку?
Понятное дело – не кошку. Алоизас не желает вникать. Избегает больниц, похорон, памятников – ведь и они для покойников.
– Вангуте… Вангуте…
Нечего спрашивать – насмерть или только ранена. В оцепеневших глазах Лионгины – единственный ответ, хотя неясно – почему, зачем, кому нужна вся эта жуткая бессмыслица? До такой степени охвачена паникой, что от нее самой веет ужасом смерти, когда, словно ища спасения, прижимается к нему. Он всегда был здоровым, с малых лет окружал его крепостной вал обильной еды и неусыпной опеки Гертруды, но именно в годы детства его постоянно преследовал ужас этой бессмыслицы – смерти. Между белеющими наличниками и заборчиком из штакетника, окрашенным в зеленый цвет, у Губертавичюсов росло несколько яблонь, акация и кусты сирени. Но прохожие не осмеливались ломать веток, как в соседних палисадниках. Хозяевам не надо было ничего охранять – посторонние остерегались и их самих, и их цветов и плодов – боялись заразиться. На всю улицу светились белейшие кружевные занавески, внутри сверкали чистотой выкрашенные в красное полы, однако, словно кувалдой по наковальне бухал, постоянно кашлял отец, а братец Таутвидас вторил ему, будто молоточком постукивал. Перед самым концом он уже не кашлял – в узкой цыплячьей грудке что-то клокотало и скрипело, точно Таутвидас проглотил велосипедную цепь и теперь внутри позвякивают ее звенья. Боже тебя упаси, не ешь из тарелки брата, Алоизас, – Гертруда никогда не называла его, как мать: Алюс, Алюкас, – и его игрушками не играй! А главное – не думай о нем. Ты ведь в рубашке родился, не забывай этого, едва годик исполнился – уже щебетал, как птенчик, а в два с половиной – одернул соседскую тетушку, пришедшую занять соды, зачем, мол, взяла чужие спички! Он любил братишку, а должен был любить только себя, любить и всегда помнить, что родился в рубашке для долгой и счастливой жизни, что его ждет неповторимая, а может, и необычайная судьба, что перед ним неизвестно какая, но великая цель. Когда сестры близко не было, мать выгоняла во двор – этакого малоподвижного увальня, со слабыми ногами, укутанного в теплые одежки. Чтобы увидел мир своими собственными, а не Гертрудиными глазами? На ветвях и на земле под ними гнили яблоки – задаром и то не возьмут. Гудели пчелы, в траве копошились черненькие муравьишки, смотри-ка, улепетывают от нас. Тоже боятся? А как заставишь людей поверить, что ты им нужен, что родился в рубашке не только ради осуществления надежд сестры, но и их собственных? Следуя указаниям дочери, мать часто мыла полы, проветривала постельное белье, ошпаривала кипятком посуду, однако даже выскобленный и начисто вымытый стол своим тусклым блеском опровергал возвышенные пророчества Гертруды.
– Говоришь, Вангуте?
Лучше незнакомая Вангуте, чем братец Таутвидас, лежащий в гробике. Четки на исхудавшей руке напоминали велосипедную цепь; я тогда радовался: наконец-то зароют эту цепь, не будет слышно, как она звякает и скрипит в груди брата, в человеческой груди, пусть и похожей на цыплячью.
– Не притворяйся, Алоизас, будто ничего не знаешь! Я же тебе рассказывала. Аницета нам все уши прожужжала своей Вангуте, – голос прижавшейся к нему Лионгины теплеет, словно, пока будет она говорить, девочка согреется и оживет. – У нас ее все любили. Кто это гудит? Пчелка. А какая у пчелки фамилия? Шмель? А у комара есть фамилия? Во время переменок до слез над Аницетиными историями смеялись.
– Дочка?
– Не ее. Брата. Единственная дочь. Брат инвалид, жена у него молодая, слабенькая, выкидыш за выкидышем. Заболела Вангуте паратифом, так Аницета с ней в больницу легла. Представляешь, как надо любить чужого ребенка, чтобы лечь с ним в инфекционную больницу? Я думала, сердце Аницеты разорвется, так она кричала, головой об стенку билась.







