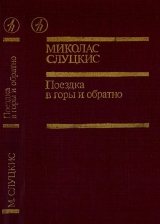
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 40 страниц)
– Что вы, товарищ директор. Утро, мне кажется, прекрасное! Чуточку романтики, и увидите то же, что и я… – Не бог весть что видит и она – несуществующий снег с рукава несуществующей шубки слизнул серый день. – Превосходная графика ветвей!
За окном гадость – не графика, несколько слезящихся, с ревматическими шишками деревьев, но художественный руководитель с удовольствием слушает модуляции ее голоса, а лицо главбуха уже не красное – синее.
– Крепко заняты, милая Лионгина? – Ее имя ему тоже приятно произносить. – Вообще-то спешки нет, подожду. Полюбуюсь вашей графикой. Жаль, без вас.
– Если очень нужно… Сегодня наш день в банке, товарищ директор. Зарплата и так далее! – Лионгина бросает заговорщицкий взгляд на женщину, опустившую вздрагивающие веки. Если бы могла, заткнула бы уши, чтобы не слышать, как флиртует во время работы, не стесняясь посторонних!
– Не утруждайтесь, пожалуйста. Звонил этот, как его? Игерман. Рафаэл Игерман.
Рафаэл? Почему Рафаэл? Был когда-то один Рафаэл – в другой жизни, в незапамятные времена, лет сто, а то и тысячу назад.
– Ральф, товарищ директор, – поправляет Лионгина, будто ей не все равно. – Ральф Игерман.
Ральф и Рафаэл – не одно и то же. Огромное расстояние, как между землей и луной, хотя… родственное созвучие, родственные планеты. Рафаэл, повторяет она неслышно, как будто боится забыть. Ральф – словно какой-то тоскливо звякнувший осколок имени.
– Извиняюсь, Ральф. Было плохо слышно. Шипело, трещало. Из Тюмени звонил.
– Не с луны?
– Простите, Лионгина, может, и спутал. – Не какого-то Игермана – его самого покоробило. – Он очень волновался, сообщил, что в Тюмени – да, в Тюмени! – ему присвоили звание почетного нефтяника.
– Обмывал титул и прозевал самолет?
– Вы злая, Лионгина. Вас обидели? Что случилось?
– Все нормально. Не прибыл на гастроли Рафаэл, простите, Ральф Игерман. Сбежала курьерша. Сорвался шефский концерт в районе.
Лионгина вслушивается в утихшее звучание имени. Ральф! Ральф Игерман. Никакого Рафаэла нет и не было.
– Сорвался? Почему сорвался? – Директор, художественный руководитель и композитор Ляонас Б. сожалеет, что нарушено его спокойствие.
– Постараюсь выяснить, товарищ директор. – Голос Лионгины сдержанно-деловой, как и положено в служебное время. И немножко сердитый за то, что он оговорился, произнося имя гастролера. Сочетание Рафаэл Игерман звучит дико.
– Действуйте от моего имени, Лионгина. Как всегда. Не знаю, что бы я делал без вас!
Жалобный вздох Ляонаса Б., сотрясши мембрану, поднимается к старинным деревянным сводам кабинета, ударяется о зеленые изразцы камина, украшенного игривыми амурчиками, и рикошетом – о крупную, пылающую от негодования фигуру главбуха. Как усердная свидетельница в суде, стоит она, не обращая внимания на ноющие венозные узлы. Темное платье, красная в белый горошек косынка, призванная скрыть толстую шею. Подражает какой-нибудь франтихе-эстраднице? Фантазии на грош, однако прекрасно представляет себе, как валяемся мы с директором в окружении ампирной мебели и канделябров. Широкий, мягкий кожаный диван у стены – для чего же он еще, если не для греха? Одно ей, вероятно, не ясно: где прячем подушку?
– Этот и вот этот чеки я не подпишу.
Летит в сторону один, вслед за ним другой зеленоватый бланк, прежде чем бухгалтерша приходит в себя.
– Не шутите, директор! Сверьте, копейка в копейку!
– В добросовестности вашей я не сомневаюсь. Но на что, скажите, это похоже? Поля черные, грязные…
– Из-за двух-то пятнышек? – Главбуха сотрясает обида, теперь она похожа на неподъемный мешок, перевязанный цветной тряпицей. – Копирка скверная. Не мы ее делаем.
– Меня не интересует, кто делает.
– Банк примет. Знакомый контролер. Только подпишите, товарищ директор! – умоляет она.
– Примет или не примет – извольте переписать. Мы несем массам красоту. У нас всюду должна господствовать эстетика. В наших залах, документах, на лицах.
– Что?..
Грудь бухгалтерши вздымается, не в силах вобрать воздух.
– Да, да, и на лицах! Остатки яичницы, право же, не украшают вашего лица. Разумеется, и нашего бюро.
– Простите. Я так спешила… спешила!
– Вот вам зеркальце, если своего нет.
Главбух косится в зеркальце, мощно втягиваемый воздух застревает в легких, потом порывисто вырывается наружу, будто кто-то швыряет изнутри камешки. Хлынул дождь слез, струйки размывают неумело подкрашенные веки, текут по щекам. Держась за сердце, пошатываясь, выкатывается она из кабинета, сквозь двери проникает запах обильно нацеженного валокордина.
Упражнения воли не менее полезны, чем гимнастика. Особенно женщине-руководителю. Это шутка, что женщины нежнее мужчин. Если же действительно нежнее – советую: держите свои сердечки в металлических сейфах или холодильниках. Лионгина закусывает сигарету, пускает дым в потолок. Маленький, совсем крохотный реванш. Не за выпавший и растаявший первый снег. И не за легкомысленно привидевшуюся во сне шубку, которая пока ничья… Сама не знаю, за что. Немножко неприятно смотреть на эту тушу, но… С самого начала ненавидела она меня. Еще тогда, когда мы с Ляонасом Б. и двумя словами не перебросились. Изводила гарантийными письмами, отчетами. Теперь, побежденная, униженная, все равно не желает сдаваться. Самое смешное, что ревнует не к ускользнувшей из рук власти – ведь была тут полной хозяйкой, пока я не стала коммерческим директором! – к благосклонности Ляонаса Б. ревнует. Можно предположить, что влюблена в него. Все в него влюбляются. В его голос, в этакое легкое пренебрежительное превосходство, в его музыку. Глупая штука – сердце женщины. Даже у такой, похожей на мешок зерна, на свинью, на что хотите! Без сердца жить невозможно, тем более – процветать. Позволю ей процветать вместе со мной, ха-ха! Злой, рвущий рот смех не развеселил. Едва ли доказала она что-то своей резкостью. На смену тяжелому и нервному – не из опыта – по наитию! – знанию, мол, достаточно ей взглянуть на тень человека, чтобы насквозь понять его, – пришли администраторские навыки, безапелляционность, резвость практического ума. Исчезла утомлявшая и пугавшая ее прежде проницательность, когда и зажмурившись видела тропу. Чем крепче сожмешь веки, тем яснее видно. Теперь и открыв глаза только себя вижу – свою выгоду, капризы. Исхлестала беспомощную, не умеющую защищаться женщину, подстраховавшись неизменной благосклонностью художественного руководителя, – жалуйтесь не жалуйтесь ему на меня, ничего не добьетесь! Гадкие и злые у тебя нынче мысли, колет себя Губертавичене, чтобы еще сильнее не обнаглеть. Этакий сдобренный интеллектуальностью дешевый конферанс для широкой публики. Словно намерена, воспользовавшись служебным положением, выскочить на освещенную прожекторами сцену. Заигралась до тошноты – цветочком в целлофане меня не накормите. Лисьей шубкой – возможно! Еще разочек полюбуемся ею, пока не затянули дела. Хотя Лионгина и очень старается, чудо больше не сверкает снежными звездочками, не нарушает чинной строгости города. Мелькает простая шуба на вешалке, и все. Любоваться мечтой мешает соринка в глазу. Что бы это могло быть? Уж не цветочек ли в целлофане, так и не врученный Игерману? Надо велеть глупенькой Аудроне – сама ведь не додумается, – чтобы выбросила увядшую гвоздику прочь… прочь!
…Шефы, сорванный концерт, предстоящая декада в Мажейкяй. Стоп! Таким запашком может потянуть от этого несостоявшегося концерта!.. Особенно если пронюхает пресса. Коммерческий директор Губертавичене накручивает левой рукой телефонный диск, точнее – мизинцем левой руки, это означает, что ей ничего не приходит в голову. Набрав номер, мизинец повисает в воздухе, позволяет рассматривать себя против света. Лак облупился, слишком ядовитая краснота. Немедленно сделать маникюр! Решимость не связана с гастролером – никуда он не денется, явится! – но загадочное его имя – Ральф, – по ошибке соприкоснувшееся с другим именем – Рафаэл, – тоже побуждает заняться своей внешностью.
Закуривает, встает, под ногами поскрипывает новый ковер. Мизинец снова тычется в диск. Что скажешь обиженным шефам? Невзирая на грязь, притащились из поселка работяги с женами в вечерних платьях и с завернутыми в газеты туфлями, а типчики с гитарами загуляли, видите ли, в придорожной корчме! Сломался и не завелся автобус. Принадлежащий бюро «рафик» бегает уже второй миллион, чему же тут удивляться? А гитаристы, вместо того чтобы добраться рейсовым, перепились. Ух, я им! Ты – им, а они – тебе, когда надо будет посылать бригады на агитпункты. Так что попридержи свои громы и молнии. Если шефы прижмут, пообещаю кого угодно: Саулюса Сондецкиса, Вацловаса Даунораса, Гедре Каукайте! Тузы, конечно, отобьются, тогда подсуну ансамбль «Пасагеле» и какого-нибудь гастролера.
Надо успокоить директора. Набирает номер Ляонаса Б.
– Простите, потревожила вас. – Теперь она изучает свой средний палец, от лака остались крохи. С удивлением понимает, что не шефы ее волнуют. – Хочу уточнить о Ральфе Игермане.
– Разве вы не зайдете? – В голосе Ляонаса затухают нотки радости.
– Непременно. Но после того, как задобрю шефов. – Его меланхолия неприятна, и она сыплет, как вызубренный урок: – Рассердятся и не отремонтируют нам машину!
– Вот ведь заварили мы кашу. Что будем делать?
– Не волнуйтесь, товарищ директор. Моя забота. Отремонтируют как миленькие. Так чего хотел этот Игерман, если не секрет?
– Чтобы в афише было указано его новое звание. Почетный нефтяник.
– Прекрасно.
– Что? Неужто и вам, Лионгина, придется объяснять, что нашу публику и более впечатляющими титулами не всегда привлечешь?
– В одном месте это звание сработает! У наших шефов.
– Поступайте, как знаете. Это ваша компетенция.
– Не беспокойтесь. Все будет тип-топ!
Врывается главбух:
– Банк! Если не успеем, люди останутся без зарплаты, артисты – без гонораров! – Отреставрированное с помощью пудры и краски лицо похоже на затоптанное и посыпанное сверху песочком кострище.
Коммерческий директор и не смотрит на бумаги. Чеки не грязные, но и не чистые. Старая лиса и не думала переписывать их. Лионгина садится, не вникая, четко выводит свою фамилию. Руководитель не должен быть мелочным. Нельзя убивать в сердце подчиненного последние крохи доверия. Ей нравится собственная подпись. Ждет, пока высохнут чернила, и подписывает следующий чек. Красиво, графически безупречно ложатся буквы.
– Все?
Бухгалтерша подбирает бумажки, молча кивает головой.
– Теперь порядочек. Эстетика и тому подобное. – И Лионгина хвалит идиотскую одежду бухгалтерши: – Кто вам так изящно шьет?
Женщина пятится к двери, потрясенная комплиментом. Но ее сопение, дрожащие плечи, пляшущая под мышкой папка говорят о том же самом, о чем раньше вопило лицо: уж я-то знаю, и ты знаешь, и все вокруг знают! Подстилка ты. Валяешься с худруком. Месила бы на улице грязь, как бедняжка Аудроне, если бы не белое личико да тонкая талия. Райской птичкой щебетала, пока торчала в инспекторской. Ласковая, приветливая, от всех болезней, что твой пенициллин. Смотри, не очень-то важничай – лопнешь, как та лягушка, что вознамерилась колодец вылакать. Я троих директоров, троих замов пережила, а вот все еще есть и буду. И когда ты лопнешь – буду!
Ух, мерзкая баба! Мерзкая. Лионгина захлопывает за ней двери, проверяет, плотно ли сошлись обе половинки. Нет, пора с этим кончать! Сминает пустую пачку из-под сигарет, не бросает ее, от стиснутого в кулаке комка становится спокойнее. Переспать раз-другой? Так ведь это же сущий пустяк по сравнению с тем, что ты знаешь про себя и про него… Все равно мерзкая баба. На пенсию, на пенсию!
Вслух не выкрикивает, пусть и хотелось бы. Другого, умеющего так беречь государственную копейку, цербера сразу не сыщешь. На покойницу Гертруду похожа. Сравнение поражает неожиданностью. Увидела и отпрянула словно от живой, молча за ней наблюдающей. Все не могу думать о Гертруде, как об умершей? Еще больше угнетает, когда нет мелочной слежки, плохо скрываемого заглядывания в кастрюли и под подол – не беременна ли, а если да, то от Алоизаса или от кого-то постороннего? Внушительна Гертруда, будто статуя, особенно ее мощная верхняя губа, потрескавшаяся от времени, как бывает у долго простоявших под дождем скульптур. Лицо стало пористым уже при жизни – и ее годы безжалостно обтесывали! мертвая она выскользнула из объятий времени и не меняется. Ну что же, смотри, мне скрывать нечего. По-прежнему не нравлюсь тебе? Сама себе не нравлюсь. Чего же тебе еще, если сама честно признаюсь?
Гертруда не отвечает; ничего не сказала она и тогда, когда еще могла говорить. Происходило это в клинике, после операции, продолжавшейся целую вечность, хирурги были уставшими и злыми: Гертруда, перебинтованная, на себя не похожая, проснулась с точностью заведенного будильника. От ее оскверненного аварией тела ничего подобного и ждать было невозможно, поэтому затеплилась надежда, что, несмотря на перемолотые внутренности, переломанные конечности и разбитую голову, она выкарабкается. Так вот, когда Гертруда пришла в себя и могла простонать, что ей нужно, что будет необходимо всегда, не важно, выживет она или нет, то спросила Лионгину лишь об одном: какой нынче день недели.
Что угодно ожидала услышать Лионгина из спекшихся, как рана, губ: трагический стон, свидетельствовавший о невыносимой боли, лихорадочную мольбу – пить! – жалобу на нее, не оправдавшую надежд девочку, – только не деловой вопрос, которым Гертруда надеялась восстановить пошатнувшееся равновесие мира. Изувеченную и смятую потрясли не столько боль и провал во тьму, сколько неперекинутый листок календаря на ее столе. Вдруг да никто больше не следит за ходом времени и вздыбившаяся мостовая, на которую упала она, никогда уже не станет ровной, если она, Гертруда, не свяжет концов выхваченной из ее руки и порванной нити? Ошеломленная этим вопросом, Лионгина забыла, какой сегодня день, и, вместо того чтобы дать точный ответ, принялась что-то лепетать об удачной операции, преданных своему делу, опытных хирургах, об их с Алоизасом надежде, что все обойдется. Гертруда ждала ответа на свой дурацкий, неизвестно, в полном ли сознании заданный вопрос, а у Лионгины отшибло память – как ни старалась, не могла вспомнить, какое там число в кружочке на настольном календаре. Пока она кусала губы, сестра послеоперационной палаты с маской безразличия на лице отстранила ее от больной – лекарство лилось из шприца в капельницу, как в лужу. Когда Лионгина вновь склонилась к Гертруде с точным ответом: сегодня 15 марта, пятница, все несутся, спешат и калечатся из-за этой безумной спешки, словно не будет следующего дня! – глаза Гертруды стали уже, подернулись мутной пеленой. Опять посмеялась она над Лионгиной, как любила с издевкой ухмыльнуться над молоденькой и глупой, проявив внезапное равнодушие к тому, что больше всего ценила – к гармонии и порядку в мире, а также к любым разумным ответам, которые прикрывали бы ложь, как и вопрос, призванный замаскировать ее единственную заботу. Единственную боль. Единственный страх. Заботу, боль и страх, имя которым – Алоизас. Гертруда оставила их вместо себя.
Лионгина передернула плечами, села, зашуршала бумажками. Только Гертруды на работе не хватало. Мало ее ледяного дыхания дома? Не над кем поизгиляться – мигом бы исправилось настроение. Думай о чем-нибудь приятном, приказывает она себе, ну, скажем, как сунешь свои грабли маникюрше Аугуте. Девочка не поступила в институт, потому что завлекли ее ароматы парикмахерской, родители-педагоги руки ломали, а она, сложив губки бантиком, тоненькими розовыми пальчиками наводит лоск на закаленные в огне и воде когти слабого пола. Вот вам еще один цветок, выросший на нашем свинском навозе! Сядешь в ее кресло – и на минутку посветлеет в глазах, словно не руки свои ей доверяешь – грехи. Что еще могло бы поднять настроение? Разумеется, шубка. Пускай не припорошенная легким снежком видение, пусть шуба на вешалке. Готова голову прозакладывать: не из обрезков, из целых шкурок! Чудеса из отходов – высший пилотаж перестраховщиков. Лучшие материалы превращаются на бумаге в брак, брак – в образцовые изделия. Ничем не рискуешь, к тому же так удобнее сбыть жене какого-нибудь влиятельного лица. Доволен и муж нарядной жены – ведь почти даром. О шедевре подозрительно молчал эфир, ничего не сообщал бюллетень Дома моделей. Экспериментальная шубка, выставочная и т. д. и т. п., но придет время – и будет в ней красоваться некая двуногая лисонька. Хотя кое-кому, к примеру вовсе не дурной собою коммерческой директрисе Гастрольбюро, шубка эта куда нужнее! Эстетика должна властвовать всюду – в наших залах, бумагах, на лицах, – да, да, на лицах, как справедливо было нынче указано главбуху. Тем более должна быть эстетична наша одежда. У нас ведь иностранцы бывают, возвратись в свои парижы и римы, кое-кто из них рассказывает корреспондентам всякие были и небылицы о наших женщинах. К сожалению, были тоже – о косметике, о модах. А нашим гастролерам – что, не следует оказывать уважение своим внешним видом? Вот явится этот Ральф Игерман, артист и, как предупредил худрук, почетный нефтяник. Разве не обязаны мы принять его не хуже, чем иностранца, – красиво одевшись, приведя себя в порядок? В любую минуту может он войти, о чем-то попросить, даже потребовать чего-то. Посмотрит, как мы одеты, подумает, что провинциалы, и потребует! Разумеется, мы ничего не боимся, однако… Лионгина предчувствует неприятности, хотя капризного гостя опекать придется Аудроне, – пожалуйста, к ней со всеми претензиями! Нет, Лионгина не боится, скорее нетерпеливо ждет, и словно от ожидания в окне светлеет.
Давно умчалась Лионгина, в памяти – лишь ее поспешные шаги, поцелуй – едва ощутимое прикосновение губ – острый запах импортной косметики, несколько скороговоркой брошенных, ничего не значащих слов. А вдруг что-то все же значащих, быть может, даже многое? Бесконечность умещается в шелесте ее губ, в паузе перед и в паузе после ежедневного – смотри, муженек! – когда даже от неприятной липкости кармина веет самым главным, невысказанным ее упреком и не выставляемой напоказ, от других и от себя скрываемой горечью преданности. Действительно ли соприкоснулись они, когда на какую-то долю секунды Лионгина выпала из своей блестящей, отполированной для внешнего обозрения оболочки, а он – из колючей шкуры недоверия? Были едины, как когда-то, как никогда, или ему только померещилось? Слишком быстро, молниеносно склонилась, словно испугавшись, что он присвоит больше ее сущности, чем в другие утра, а потом неизвестно почему замерла. Между нею и Алоизасом, между слоем ее краски и его морщинистой скулой, которой коснулись ее губы, лежало словно волоконце ваты, что-то постороннее – что бы это могло быть, если и впрямь оно было, а не выдумано им, обиженным, что миг нежности сгорел и неизвестно, повторится ли когда-нибудь? Хотел дернуть щекой, смахнуть волоконце – не осмелился, чтобы не задеть ее губы, а неповторимое, единственное в мире дыхание, смешанное с химией косметики, уже отдалялось, уже рассеивалось. Ее нет, давно нет, а раздражающее волоконце все еще липнет к деснам, путается в зубах, и не выплюнешь. Приблизившись, отмерив то, что безусловно ему принадлежит – ничего более не смеет он от нее требовать! – Лионгина была озабочена не им, а каким-то гастролером, так озабочена, что, пожалуй, не коснулась щеки. Так ему теперь кажется: потянулась губами, не думая, что делает, не чувствуя, как он истосковался. Приедет гастролер или нет – неизвестно, однако ожиданием его дышал ее рот, поспешное и затянувшееся ее прощание. Акерман – этот набивающий себе цену коммивояжер, из-за которого Лина так невнимательна и безжалостна? Зигерман? Егерман? Алоизас нарочно коверкает услышанное имя. Какой-то Ральф Игерман! Обсосанное конфетное прозвище, идиотская, наверно, искаженная, ничего не значащая фамилия. Но в нераскрытом ее шифре таится загадка, вызывающая недоверие. Из-за Йонайтиса или Петрайтиса не звонили бы, не убивались бы по ночам, бюро не гудело бы, как разворошенный улей, и сама Лионгина не нарушила бы ежедневного их обычая, может, и сковывавшего ее, как детская игра – взрослых людей, а в него вселявшего надежду, что не все кончено, – кое-что не имеет не только конца, но и начала, например, эта тоска по ней, вобравшая в себя самые счастливые дни их жизни.
Только ли служебное усердие Лионгины похитило самое лучшее, лишь ему принадлежащее мгновение дня, которое, оставшись один, он бы обсасывал, как в детстве тайком от всех – отломанную сосульку? Сосулька холодила губы и руку, было так хорошо от желанной влажной свежести, хотя это ему строго запрещалось, особенно Гертрудой. Только ли долг увел Лионгину из дому раньше, чем в другие утра, – не женское ли любопытство, не тоска ли по новым впечатлениям, от него уже не получаемым, ибо больше всего ценил Алоизас постоянство, сохранить которое можно лишь съежившись, крепко сжав в кулаке текучий песок времени? Он видит себя со стороны – затаился, словно брошенный матерью ребенок. Больше никогда не станем мы слепо доверять ей, не отпустим, не расспросив, не предупредив об опасности и ответственности! Это «мы» успокаивает, будто он не один, будто у него есть друзья и приятели. Уйти легко, это все знают, не так просто вернуться. К тому же не знаешь, что найдешь по приходе, даже если все вещи останутся на своих местах, а воздух по-прежнему будет пахнуть постелью и пролившимися духами. Смешно, как люди могут, не задумываясь, выскакивать из дому. Покидать его очень страшно и опасно, не потому ли кое-кто, в частности он, носу из дому не высовывает, пока нет крайней необходимости.
Из прихожей доносится, стук захлопнувшейся двери – утопала на свои курсы Аня. По утрам она посеревшая, как убранная со сцены декорация. Даже шея кажется короче: ни на жирафью не похожа, ни на гибкую змею. Мстя Лионгине, Алоизас думает об Ане несколько дольше, чем в прошлые утра. Улыбка у нее такая, будто она все-все знает, а ты ничего. Улыбка или сверкание длинной шеи – трудно отделить одно от другого. Интересно, всех ли мужчин одаривает она такой улыбкой? Алоизасу кажется, что мысли об Ане протискиваются в ту щелочку, что осталась меж губами Лионгины и его скулой. Слава богу, Аня ушла: можно выпить кофе, не ежась под ее двусмысленными взглядами. Лионгина перекусит в городе. Аня – надо же! – обернула кофейник полотенцем. Я не просил. Все равно кофе превратится в прохладное пойло, пока выползу из постели. Золотой денек, когда не надо ехать читать лекцию. На улице дождь, грязь, а ты себе не спеша завтракаешь, положив на колени римского поэта:
…Выше все правит свой путь. Соседство палящего Солнца
Крыльев скрепленье – воск благовонный – огнем размягчило;
Воск, растопившись, потек; и голыми машет руками
Юноша, крыльев лишен, не может захватывать воздух[11]11
Овидий. Метаморфозы. Перевод С. Шервинского. М., «Художественная литература», 1977, с. 201.
[Закрыть].
Превосходно, удивительно сказано, тема исчерпана – и все же… Воздуха не захватываю, однако дышу. Падаю, однако не проваливаюсь. Такой метаморфозы великий поэт не предусмотрел – вот так! А Лионгина не завтракает – худеет. Ведь должна нравиться всем: начальству, актерской братии, игерманам-зигерманам. Когда-то весила сорок девять килограммов и была несчастна, теперь, вернувшись к прежней форме, с ума сошла бы от радости, хотя и так худенькая словно девочка. Я – сам себе голова, никому не обязан угождать, могу делать, что считаю необходимым, и больше ничего. Алоизас выставил вперед подбородок, хотя некому было на него смотреть. Однако же кто-то пытался с ним спорить, прибегая к нечестным аргументам – ни с того ни с сего упомянув про Гертруду. Не долбите мне, что Гертруде нужен памятник, сам знаю. Да все никак не встречусь со знакомыми архитекторами – вот и тяну! Гертруде лишь бы какой не поставишь. Бытовой комбинат отливает корыта. Это было бы осквернением ее памяти – цементное корыто! Она сама как памятник.
Стараясь избавиться от мыслей о покойной сестре, Алоизас прислушивается. Кто-то хрипит, будто его душат. Что это? Хрипит и свистит в его собственной груди. Не так ли сипели дырявые легкие у отца и брата Таутвидаса? Когда начнется последняя стадия, зазвякает велосипедная цепь. Вон и потом всего прошибло, даже между лопаток течет. Нервы. Покрывается испариной лоб, влажнеет под теплой рубахой грудь, пощипывает от пота в паху. Хронический бронхит, заверил врач. Ужасного слова ТБЦ доктор не произнес. Прижатый к стене прямым вопросом, отрицательно замотал похожей на череп головой. Сегодня тебе еще поют об общем ослаблении организма, об обострении бронхита, а завтра услышишь о палочках Коха. Нет ничего страшнее, несмотря на все стрептомицины, тубациды и т. п. Велели не переутомляться, питаться как следует… Что ж, начнем с питания. Лионгина вчера огромную сумку приволокла.
Алоизас шаркает в кухню, не умывшись, усаживается есть.
Жует долго, так долго, что устают челюсти. Вдруг у самого уха что-то громко щелкает, словно с силой выдернули пилу из трухлявого полена. Испуганно пялит глаза на накренившийся стол, покосившийся подоконник и ноги, как бы погрузившиеся в туман. Его ли это ноги? Он ли, Алоизас Губертавичюс, похрапывает после сытного завтрака, вместо того, чтобы пробиваться через нехоженые джунгли науки, которые он намеревался преодолеть, невзирая ни на какие соблазны и препятствия, верный одному лишь холодному свету сверкающей истины? Вопрошает не он – Гертруда, но она умерла – это всем известно, – что она сказала бы, тоже известно, равно как и то, что чуть ли не нарочно устранившись из числа живых, она утратила право требовать и судить. Ответа ей не дождаться, даже если бы стояла рядом, – храпит комната, храпит город и весь мир.
Телефонный звонок. Ну и пусть разрывается! Мир – светлый, мир – живой и деятельный, только он, Алоизас, словно очумелый. Не от тяжелого сна – от сидения с закрытыми глазами, укутавшись в уютную дремоту, чувствуя одновременно и нежное ее тепло, и бесцеремонную суровость улицы, захлестывающую лица куда-то спешащих прохожих, лица, среди которых могло быть и его лицо. Толкаются, обгоняют друг друга, тщетно пытаясь уберечься от чужого сопения, от злых локтей и угрюмых взглядов. Одному все мало – вырвется из общей массы и не знает, что делать впереди, другой бегает по кругу в полной уверенности, что двигается вперед, третий барахтается на одном месте, увязши по грудь, делает вид, что взбирается все выше. Равнодушный к азарту состязания, не осуждая соревнующихся, скорее сочувствуя им, Алоизас снова погружается в блаженный покой.
Не встану, обойдутся без меня. Он пытается поудобнее вписаться в уютную вмятину. Истошный визг – уже визг! – сверлит затылок. Это упорство Лионгины. Вынужден потянуться к трубке, даже не накряхтевшись вдоволь!
– Дрыхнешь средь бела дня? Как тебе не стыдно! А лекция? Такого сюрприза я от тебя не ожидала!
В голосе победные нотки, словно она выиграла сражение, хотя скорее всего прижучила какую-нибудь безответную курьершу или вогнала в слезы своего главбуха.
– Во-первых, я не сплю. Лежу, размышляю. Во-вторых, изменилось расписание. Сегодня у меня окно.
– Не слишком ли много окон? А размышлять… Не боишься, что все мысли будут горизонтальными?
– Кто доказал, что вертикальные предпочтительнее?
– Софистика! Ну, ладно. А брошюра? Ее, муженек, лежа не закончишь.
Алоизас раз-другой покашливает.
– Что с тобой, Алоизас? Простужен?
– Что-то горло немножко… Брошюры не будет. Я же говорил.
– Прекрасно! А письмо бедняге А.?
Лионгина маневрирует с быстротой полководца, и застигнутый врасплох Алоизас откашливается еще усерднее, извлекая защитные аргументы из бронхов и плевр. Достав носовой платок, сплевывает. Мокрота.
– Правда, не болен?
Алоизасу видится отец, прижимающий ко рту платок. Красные пятна. Словно давил белым батистом землянику. Если не болен, то заболею, тоскливо раздумывает он. Разве это не одно и то же?
– Ничего серьезного. А этому А. сейчас черкану. Надоели его послания.
– Когда напишешь, выползи погулять, – повелевает трубка. – Проветришься. Аня не появлялась?
– Я ее не пасу.
– Не забывай, она гостья.
– Неизвестно, кто у кого гости: она у нас или мы у нее.
– Видела, какой ты несчастненький, когда глазками ее ощупываешь!
– Лина, как ты смеешь, Лина!.. – Алоизас задыхается от возмущения. Понадобилось отделаться от утреннего, прилипшего к губам волоконца, – вот и вяжется. Предательством от тебя веяло утром – этого не выплюнешь, не сотрешь. Будь осторожен, не выдай себя, пусть и хочется спросить прямо, чтобы, растерявшись, призналась.
– Шучу, – Лионгина звонко смеется. – Мне что, запрещается ревновать? Только тебе можно, котик?
– Так ты меня еще… любишь? – шутя и одновременно всерьез выдавливает Алоизас.
– А ты как думаешь?
Он погружается в ожидание, будто перед приговором, хотя не сомневается: они разминутся, не встретившись, волоконце останется во рту, будто развязывал зубами узел на веревке.
– Хорошо, скажу, если тебе чуть ли не письменное свидетельство необходимо… Эй, ты еще не уснул там? I love you!
Из повлажневшей ладони Алоизаса выскальзывает трубка. Вздымаются не могущие ухватить воздух легкие. I love you? Восстала из пепла забвения восхитительная Р.? Не может быть! Шутка, рикошетом ударившая ассоциация из его же неосторожных рассказов-признаний. Лина подобрала брошенную соперницей палку, чтобы стукнуть побольнее. Уже давно уши вянут от ее деятельности, От телефонного жаргона. Иногда ему странно, что в красивом рту, к дыханию которого он так жадно прислушивается, не мелькает щербинка. Она – Р.? Механическая кукла, время от времени заговаривающая по-английски, прекрасно объясняющаяся по-русски, по-немецки и по-польски? А куда делась маленькая дикарка, пожиравшая глазами горы, бредившая о вершинах и далях? Очухайся, захотел вернуть ту, которая погубила тебя, растоптала в пыль, превратила в гнилушку?! Не надо ни той, ни другой. Верните мне Лину, Лионгину, не забывающую по утрам прикоснуться губами ко лбу, скуле или подбородку! Иногда, как, например, сегодня, она необыкновенно внимательна – даже извиняется за небрежный утренний поцелуй…
Алоизас плетется к письменному столу. Я действительно слишком инертен, необходимо что-то делать. Терпение Лионгины не бесконечно. Уже не может заставить себя буркнуть, что любит, по-литовски. Пошутила, наверно. Не легко серьезно разговаривать с таким – вечно ноющим, разболтанным, хватающим за полы. А если – не шутила? Докажу! Сделаю! Что? Как? Горы старых книг, журналов и рукописей. Семь потов сойдет, пока разберешься. На словаре португальского языка – корзинка со спицами. Когда началась революция красных гвоздик, надумал изучить. Бросил. Анино вязанье. Снова эта Аня? Лина бралась за спицы, когда была бедной серенькой мышкой. Тогда свитер ему связала, чтобы не мерз по вечерам. Теперь на такое у нее не хватит духу. Ведь она деятельница. Эмансипированная, современная женщина. Может любого мужика за пояс заткнуть, сверкая при этом, оставаясь по-женски очаровательной и привлекательной. Разве может позволить она себе истертые нитками, исколотые иголками пальцы? Впрячь такую в домашнее хозяйство то же самое, что потребовать от эфемерного существа, созданного для того, чтобы ходить под куполом цирка по канату, выжимать гири. Блеснуло в глазах, посыпались светлые точки, одна из них, искрясь, взлетает вверх, и Алоизас видит Лионгину, обтянутую трико. Не простым – сверкающим, усеянным звездами. В руках тонкая тросточка – для равновесия? – и она уже не похожа на жительницу земли. Легкая, освобожденная не только от земных одеяний, но и от земного притяжения, пританцовывая, прохаживается по канату, высоко подпрыгивает, кувыркается, вьется вьюном, но удерживается, хотя под ее стройными, похожими на два луча ногами ходуном ходит и скрипит витая тонкая проволока. Вот выполняет головокружительное двойное сальто, даже сама ахает, из недостижимых высей проливается чистый, как у медного колокольчика, звон. Кажется, не она по своей воле, а вошедший в раж канат сам подбрасывает ее: давно не трепетал под такими ножками! Невесомая и бестелесная – мерцающее сияние и больше ничего, – она в то же время крепче и пружинистей стальной спирали, так как отлита из трех взаимопроникающих стихий: смеха той, некогда растроганной девочки, сверкания восхитительной Р., гибкости ловкой администраторши Лионгины Губертавичене. Позабыв обо всем – о бедах, о прошлом, – эта летунья счастлива настоящим мгновением на глазах у восхищенных зрителей, и только одному, очень проницательному, насквозь ее видящему человеку, затерявшемуся в замершей от восторга толпе, все больше начинает казаться, что она сомнамбула, что свои умопомрачительные вольты совершает она во сне. Достаточно кому-то громче вскрикнуть, она проснется и упадет на утрамбованные желтые опилки арены, позорно звякнув шутовскими бубенчиками трико. Распадется на три части – три кучки мусора. Проницательный человек неподалеку, рядом с ним, Алоизасом. Они соприкасаются телами, одеждой, дыханием. Да и не сам ли он – этот кто-то, больше всего боящийся возможного крика и больше всех жаждущий вспороть им тишину, которая растет и ширится, в то время как шустрая металлическая бабочка продолжает порхать, а толпа – восхищаться? Он сам? Он, кто, после того как она умчалась на работу, согревается привычным, ничего не значащим прикосновением ее губ? Кто безличное, заглушающее все своеобразие дуновение косметики отождествляет с робким языком чувств? Сам бы и крикнул? Бабочка из хромированной жести – вот ты кто, кха-кха! В смех врывается покашливание, чтобы звучал он поязвительнее. Бесстыдная циркачка – разве это прилично кувыркаться на виду у толпы? – смогла бы услышать лишь первые звуки его хохота… и конец. От этой мысли у Алоизаса сжимается сердце, что-то бурчит в желудке, он в ужасе крепко зажмуривает глаза, но, когда снова становится зрячим, светлая точка все еще трепещет в пространстве. Никакой арены, никакой циркачки и никакого озлобленного человека, только и ждущего случая сыграть коварную шутку. Нет, озлобленный существует, заключен в нем самом, растворился в каплях его крови, в его дыхании, и Алоизас не уверен, что в решающий момент сможет остановить руку злодея. Ах, все это чепуха! Ничего, абсолютно ничего нет – будничный, неудачно начавшийся день, раньше, чем обычно, выманивший Лионгину из дому. Болезненно обжигающее, пусть и несколько пригасшее чувство одиночества. Раздражающее ощущение – конопляное волоконце на губах…







