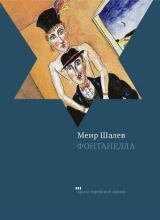
Текст книги "Фонтанелла"
Автор книги: Меир Шалев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
Повзрослев, я уже не повторял этой глупости, но каждый раз, глядя на эти четыре фотографии – после его исчезновения мама очистила их дом от всего, что напоминало бы о нем, и сегодня эти фотографии у меня, – я испытываю чувство неловкости. Парень с двумя руками, запечатленный на них, слишком похож на других людей. Не только из-за двух рук. Его глаза и губы тоже не похожи на те, что смотрели на меня, и целовали меня, и высасывали весь ум из моей фонтанеллы, и его улыбка не излучает радость и не радует, как у моего отца.
Парень с двумя руками не родился в Долине, но, несмотря на это, любил говорить, что его «городские Йофы» больше земледельцы, чем мамины «Йофы из Долины», которые, как он объяснял, держали поле и коровник «для видимости» и «чтобы занять Апупу и дать ему чувство собственной важности», а жили за счет технических изобретений Жениха. А его семейство Йофов хоть и обитало в городе, но имело небольшое и деятельное вспомогательное хозяйство из нескольких цитрусовых и нескольких лиственных деревьев, а также «птичник, и козу, и огород».
Его отец был специалист-штукатур и маляр, а мать домашняя хозяйка, вносившая свой вклад в семейные доходы тем, что пекла пироги и вакцинировала кур, и оба они покинули сей мир еще до того, как я в него пришел. У него была еще сестра, намного старше него, которая уехала в Америку, когда брат был младенцем. Один раз она приехала в гости, а иногда присылала нам подарки, но расстояние и среда уже сделали свое дело: несмотря на свои насмешки и отчужденность, мой отец стал настоящим Йофом. Кстати, когда он умер, его сестра послала нам книгу стихов, и моя мать сказала тогда, что ее золовка – единственный человек в мире, способный послать подарок на похороны.
Только два воспоминания связывали моего отца с кварталом его детства в Нетании. Одно относится к самым прекрасным из дней в жизни каждого города, дням детства, когда молодой городок прорастает то тут, то там, запуская в землю корешки своих жилищ и протягивая осторожные усики улиц меж холмов и дюн. Я, конечно, не имею в виду Хеврон, или Иерусалим, или Тверию, или Цфат. У этих нет ни песка, ни детства. Они родились, как есть, сразу старые и спесивые, и пришли на свет единственно для того, чтобы основать и заселить свои кладбища и святые места. Я имею в виду города, над которыми мы все посмеиваемся с добродушной язвительностью: Холон, Нетанию, Бат-Ям, Крайот [95]95
Крайот – общее название всех северных пригородов Хайфы.
[Закрыть], а также тот, что постарше, Тель-Авив, – все эти города, которые возникли из песков на глазах своих жителей и кварталы которых, точно дикие арбузы, выросли вдоль заброшенных живых изгородей, на обочинах слепяще-желтых и пылающе красных троп. Днем здесь уже можно увидеть автомашины и первые декоративные палисадники, но по ночам тишину все еще нарушают цитрусовые деревья и шакалы – одни своим ароматом, вторые – своими рыданиями.
А другое воспоминание – та девушка, которая однажды, в жаркий день, поцеловала его в темной прохладной тени кипариса. Им было тогда пятнадцать лет, и они вдвоем возвращались из школы, босиком, как обычно, держа в руках сандалии и наслаждаясь тем, как скользит песок под босыми ногами. Они остановились под тем кипарисом, потому что в тот день краснозем раскалился больше обычного и девушка решила снова надеть сандалии. Она застегивала их одной рукой, а другой держалась за его руку и, выпрямившись, на мгновенье потеряла равновесие и вдруг оперлась на него, неловко охватив обеими руками, – внезапно прижавшееся, округлое, прильнувшее, гладкое и неожиданное приближение губ, влекущих за собой все тело.
Он помнил ее рот, лишь слегка приоткрывшийся, «как будто ее губы раздвинуло любопытство, а не желание», и мы оба, я в своем воображении, а он в своем воспоминании, подумали о прохладной, трепещущей рыбешке ее языка, «еще моложе ее самой», и ощутили свежий, липкий запах кипариса, и почуяли жар красного суглинка меж пальцев ног, и почувствовали приятный холод девичьей щеки, которая после мимолетного поцелуя на мгновенье коснулась его щеки и тут же отпрянула и отвернулась.
Почему он говорил со мной так откровенно? Может быть, боялся, что из-за матери я буду сторониться женщин, и хотел показать мне их с другой, хорошей стороны? А может, хотел сохраниться не на дне одежного шкафа, не в ящике для носков, а среди шелковых платков моей памяти? Или потому, что я был единственным сыном, первым и последним порождением его мужской силы? А может, просто распознал, что я, совсем как он, люблю в любви ее маленькие детали?
И не только я. Спустя годы, когда я рассказывал Габриэлю, что делала со мной Аделаид, дочь Батии, он не сказал, как Рахель: «Как ты мог, Михаэль, ведь это твоя двоюродная сестра…» – а начал расспрашивать меня о мельчайших деталях произошедшего: «Что значит – „и тогда мы поцеловались?“ Как именно? Вы оба стояли? С какой стороны? А что раньше? А какой рукой она обняла тебя сначала? А ты? Ты сделал ей то же самое, что она тебе? Или стоял, как жена Лота {41} ? А ее тело? Только прижалось или двигалось тоже?» – пока я не сказал: «Но, Габриэль, Габриэль… Я не думал, что это тебя интересует…» – и он с дружелюбием костолома похлопал меня по плечу и засмеялся.
Но отца я не расспрашивал, потому что, поверх любопытства, между нами существовала молчаливая круговая порука грешников. Мои трапезы у Ани по возвращении из школы стали регулярными, почти ежедневными, а его обеды у Убивицы стали роскошными, и их запах уже поднимался во «Двор Йофе», стекал по склону холма в деревню и накрывал ее облаком догадок и зависти. И мы оба выходили к ним через тот же самый проход и шли по одной и той же тропке до точки ее разветвления, и, как это всегда бывает в деревне, оба мы были в конце концов замечены, и слухи достигли матери в облике трех женщин, назначивших себя провозвестницами.
Что касается меня, то я тут же был вызван на скорый суд и даже допрошен в присутствии троих, но был спрошен лишь об одном: «Чем она тебя там кормит, я требую знать».
«Ничем», – ответил я без промедления, и мать снова закляла меня не «питаться» у чужих, тем более у чужих, не соблюдающих правила вегетарианства.
Что касается отца, то она не скрыла от своих гостий тех глубоких подозрений, которые питала по его поводу.
– Я прекрасно знаю, что там происходит, – сказала она.
– Что? – наивно спросили три вестницы.
– Происходит самое ужасное. Он ест там мясо. Я чувствую этот запах в его теле. К его запаху апельсинов, что нормально, добавился запах жаркого.
Три женщины усмехнулись, сдвинули лбы, пошептались, и цветок их голов снова раскрылся.
– Это спорно, Хана, что такое нормальный запах, а что нет, – сказали они, – но главное, что мы тебе сказали.
Только один раз поцеловались мой отец с той девушкой, и с тех пор она опять не обращала на него внимания. Иногда он видел ее на улице – сумеречное солнце вычерчивало ее тело на экране платья [заходящее солнце рисовало ее силуэт] [на тонкой ткани ее платья], непокорный, дикий запах исходил от ее тела.
Его ночи вылиняли до белизны, кожа раскрыла все поры, губы потрескались. Она больше не приближалась к нему, а он – в темноте, наедине с собой – всё говорил, и говорил, и повторял ей слова, которые боялся произнести в ее свете. Но пока он набирался смелости, прошел год, и их маленький городок заволновался: девушка забеременела от одного грубого парня, сына пекаря из соседнего квартала, старше ее на год; его принудили на ней жениться и устроили им унылую свадьбу, свадьбу двух подростков, которые не любили друг друга, но рады были хоть немного повеселиться – он с приглашенными друзьями, она – с приглашенными подругами.
Молодой муж был из тех парней, что грезят о войне и своем в ней участии. Он был низкорослый, широкоплечий, с торчащими ушами и выращивал угри и собак. Он выдавливал одни, дрессировал других и тренировался в кружке рукопашного боя.
Я смотрел на отца сквозь полуприкрытые веки, не зная, что вот таким буду видеть его и сейчас, в покинутой им цитрусовой роще в Галилее, где он впервые рассказал мне эту историю. Солнце спускалось у него за спиной, затеняя его лицо и окружая густые волосы серебристо-золотым сиянием.
Через несколько недель после свадьбы подросток-муж убежал из дома и от своей жены и вступил в Хагану. Девочка-жена покинула комнату, выделенную им его родителями на задах пекарни, и вернулась в дом своих родителей. В школу она пришла с огромными недоумевающими глазами, с пузом, которое росло со дня на день, и с грудями, которые только-только начали расти: еще не выпустили бутоны, еще не узнали друг друга, а беременность уже вынудила их подняться и набухнуть.
Учителя не решались проверять ее уроки, дети держались от нее подальше. Мордехай Йофе не обходил ее и не боялся, лишь опускал глаза, когда проходил рядом. При виде ее худых, исцарапанных девчоночьих ног, подымавшихся из высоких коричневых ботинок и исчезавших под платьем для встречи в низу живота, у него теснило сердце. Ее широко расставленные серые глаза смотрели на него, высвобождая и снова загоняя внутрь его сердечные терзания: уходи, останься, здесь, там, далеко, близко, сейчас, всегда, никогда, потом.
– Почему? Потому что бывает, что важные решения принимаются за долю секунды. Достаточно правильного поворота головы, когда какая-то определенная песня звучит по радио или в памяти. Иди знай. Иногда достаточно, чтобы пахнуло жимолостью от светло-желтого платья. А иногда, ты еще увидишь, Михаэль, женщина, что отталкивает тебя в Тель-Авиве, притягивает тебя в Зихрон-Яакове.
Однажды, когда, сокращая путь, отец пересекал рощу по проселочной дороге, он вдруг столкнулся с ней. Они были одни. Он застыл, как вкопанный. Она стояла перед ним – дыни грудей, пшеничный холм живота {42} , тонкий стебелек белой шеи.
Она сказала:
– Ты больше не хочешь со мной говорить?
– Я не могу. – И он убежал.
Через три месяца отец сдал экзамены на аттестат зрелости по программе мандатных властей и пошел в Пальмах. Тут обнаружился его скрытый талант разведчика и способность ориентироваться на местности. К его природной основательности прибавилась обостренная интуиция и таинственный дар, отличающий подлинных разведчиков от простых читателей топографических карт: угадывать продолжение изгиба оврага, знать, как выглядит вторая сторона холма, представлять себе скрытые впадины и выступы – вещи, которые обычно требуют открытой фонтанеллы.
Но судьба не дала отвлечь себя всем этим и продолжала свои козни. Возбужденная множеством новых возможностей, она начала действовать по всем направлениям и фронтам сразу: на восьмом месяце беременности девочка родила мертвого младенца, ее ненависть к мужу стала еще сильней, и, когда мой отец – никто бы не мог предположить связи между этими событиями – потерял руку и вернулся домой на поправку, она появилась снова.
– Я слышала, какая беда с тобой случилась, – сказала она, – и подумала, что тебе нужна помощь.
Но ее муж всё еще был в армии, и время было слишком поздним, чтобы оправдать ее слова, и серп луны – слишком узким, чтобы осветить правду, и оба они были уже слишком взрослыми и печальными – он из-за потери руки, она из-за потери ребенка, – чтобы поверить тому, что она сказала.
Есть такие женщины, объяснил мне отец, которые возвращаются снова и снова. Некоторые выбирают себе для этого одного мужчину, другие живут с одним, а возвращаются к другому, а есть такие, что возвращаются к трем или четырем, «как пастух проверяет стадо свое» {43} . А может быть, есть мужчины, что пробуждают во многих женщинах такое влечение и удостаиваются повторяющихся посещений более чем одной паломницы.
– Все, что нам нужно, это сидеть дома и ждать, – усмехнулся он, и я не спросил, кто эти «мы», к которым эти женщины возвращаются. Знакомы ли они друг с другом? Обмениваются ли они своими женщинами и историями?
Как бы то ни было, раз в год, или раз в три года, или раз в полгода – «Или каждые два часа», – добавляет Айелет – они появляются вновь с точностью и пылом малиновки – «наконец-то у тебя получилась красивая фраза», – что каждый год возвращается в тот же сад на ту же ветку и щебечет: «Это мое».
Некоторые не говорят ни слова. Входят и ведут себя так, как будто только вчера ушли, знают где-тонкие-стаканы-для-чая и на-том-же-месте-что-всегда чашки для кофе, и где-сахарница, и в-каком-ящике-ложечки. А некоторые стучат в дверь и говорят: «Не знаю, что со мной случилось», или: «Я должна была», или просто входят, как победительницы, хотя никому не известно, в какой именно войне. И тогда они помахивают старыми документами на владение, принюхиваются к уже постиранным простыням, спрашивают: «Ну, что нового?» – и ищут ими же оставленные следы [афикоман [96]96
Афикоман – кусочек мацы, который глава семейства отламывает в ходе пасхального седера и отыскать который должен младший за столом, за что получает подарок.
[Закрыть], который сами же запрятали]. Они нюхают кончики пальцев, и проверяют морщины, и расшифровывают насечки иероглифов на ладонях и клинописные знаки на шее. Стирают с кожи залежи запаха чужих женщин. Распахивают дверцы грудной клетки и заглядывают под диафрагму – проверить, что там всё по-прежнему горячее и работает, что переключатели соединяют и разъединяют нужные цепи, что язык не забыт и то памятное дыхание все еще прерывается во время разговора и заходится во время любви.
Они набирают еще несколько летных часов и обновляют права, как будто это не они сами, а их Бог – вот кто послал их вернуться и копнуть старую землю: потучнела она или отощала; и ее хозяин – что с ним? в шатре он живет или в укреплении? {44} – ибо это Бог свел нас в первый раз, – а отец продолжает свое.
– Почему бы вам не взвесить снова мое предложение, – гнусавит он, в совершенстве подражая Богу, этому дряхлому, разочарованному своднику, который уже забросил однажды все свои дела ради организации первой встречи, и сейчас вот снова представляет былых партнеров друг другу с той же хитростью, с которой правит их воспоминаниями: стоит оказаться в том же месте – в кафетерии ли, в мчащемся поезде, на пылающем пшеничном поле, на тротуаре, исчерченном полосами света и тени, на красноватой жаркой тропе или возле кипариса у памятника, – и глазам открывается та первая памятная картина.
Эти двое были уже не те мальчик и девочка, что шли когда-то из школы домой, – теперь это была настрадавшаяся женщина и вернувшийся с войны, потерявший руку солдат, и у обоих у них собралась в душе горечь, и оба жаждали утешения и любви. Вначале они встречались тайком, в расщелинах известняка, под прикрытием дюн, в вечерней тени цитрусовых рощ, а потом в тайнике сеновала у товарища отца в близлежащем мошаве, парня, лежавшего рядом с отцом в госпитале после того, как обоим ампутировали руки, – отцу правую, его товарищу – левую.
Но тайна, как это обычно бывает с тайнами, раскрылась. Птица небесная, крылья слухов – и муж был вызван, явился, швырнул жену на пол и вернулся в свою часть. Спустя неделю он был убит, и по завершении семи дней траура его родители и родители вдовы пришли к Мордехаю Йофе. Двое отцов сказали ему, что, будь у него две руки, они сломали бы ему обе, а две матери добавили: «А также обе ноги», но, не желая бить парня, раненного в бою, они потребовали от него покинуть город.
Он, по его словам, просил ее уйти с ним, бежать вместе, но она вдруг отстранилась, и замкнулась в себе, и начала с тоской вспоминать о муже.
– Такие вещи случаются, Михаэль, – сказал он мне. – Пока муж был жив, она была моей, а когда он умер, решила быть верной ему.
Тут же появились товарищи отца из Пальмаха, вмешались в дело и вскорости нашлось решение: Мордехай Йофе был отправлен в нашу деревню, но ту девушку он так и не забыл. Он больше не пытался встретиться с ней, не подавал ей сигналов на расстоянии – разве что считать тоску тоже разновидностью сигнала – и, в отличие от многих других женщин и мужчин, которые не оставляют своих бывших любимых в покое, не выспрашивал сведений о ней и не искал ее следов. Будучи наделен совершенным душевным здоровьем, которое он частично передал и мне, он изгнал ее за пределы своей жизни в область мечтаний.
Но не за пределы своей смерти. Спустя много лет она появилась вновь – на его похоронах. Там я видел ее в первый и единственный раз и тем не менее сразу узнал: у нее одной не было прозвища и от нее одной не исходил запах апельсинов.
* * *
С момента рождения ребенка Пнина совершенно обессилела.
– Когда он был внутри и я его ненавидела, у меня были силы, – сказала она матери и сестрам, пришедшим навестить ее в больницу, – но роды и любовь превратили меня в половую тряпку.
Хана наказала ей есть побольше миндаля, Рахель погладила ей лоб, Амума сказала:
– После родов с женщинами могут произойти самые странные вещи.
Пнина улыбнулась слабой бледной улыбкой, заметной только йофианскому глазу.
– Не после этих родов. Ненависть укрепляла меня, а любовь ослабляет.
Амума торопила ее дать ребенку имя, но Пнина отказалась и начала рыдать, роняя обрывки фраз: «Кто знает, выживет ли он вообще… Недоноскам не дают имен…»– а потом, невзирая на запреты врачей, поднялась с кровати, принялась ходить по палате и причитать:
– Зачем ему имя… Что за жизнь может быть у него? И у меня? И у бедняги Арона, который ни в чем не виноват?.. Пусть лучше умрет… Пусть лучше и я умру…
Но Амума, которая знала, как важны имена, и как они успокаивают, и как весь мир с его обитателями может рассыпаться без них, не отступилась. Как Адам Кадмон [97]97
Адам Кадмон (дословно «предшествующий Адаму») – каббалистический термин, означающий духовный прообраз первого человека; в строении этою прообраза символически отражается все строение Вселенной.
[Закрыть], как Бог и как Апупа, отмечавший границы и воздвигавший стены, знала и она: только так можно установить порядок и вступить во владение. Она вернула дочь на кровать и продолжала настаивать, пока Пнина не согласилась дать сыну имя, которое предложила Рахель: «Ури».
Гирш и Сара тоже пришли в больницу. Ребенка они не хотели видеть, но посидели у Пнины, улыбались кривой улыбкой и молчали, а на четвертую ночь пришла и Батия-Юбер-аллес. Она долго сидела у постели спящей сестры, они говорили тихими сдавленными голосами, гладили и вытирали друг у друга пот со лба, пока с больничного двора не послышался глухой рев осла, и Батия встала и сказала, что должна идти. Она поцеловала сестру в губы и погладила по голове, а утром, когда Пнина проснулась и увидела отца, отбрасывающего тень на ее кровать, она решила продолжать жить.
– Арон ждет тебя снаружи, – сказал Апупа. – Вставай и поезжай с ним домой, начинайте готовить свадьбу.
Пнина встала, не говоря ни слова. Слабая и испуганная, она вышла из палаты и пошла, пошатываясь и ударяясь о стены больничного коридора.
– Она поднялась, как будто она падала, – рассказывала Амума, желая передать грядущим йофианским поколениям не только новое выражение, но и свою ненависть к мужу.
Заждавшийся Арон в конце концов, встревожился, пошел разыскивать Пнину в больничном дворе и увидел, как она бредет по обочине главной дороги. Она села в «траксьон-авант» и за всю дорогу не сказала ни слова, только сидела и плакала, новым, тихим, дрожащим плачем, вбирая воздух нескончаемыми судорожными всхлипами.
Жених испугался. Он вдруг увидел, что есть слезы, вскипающие жарче капель сварочного олова, и звуки, непонятнее шума забившихся форсунок, и тайны, загадочнее движения воздушных пузырьков в насосах. Но его суровая челюсть надежно запечатала его размышления, а логичный и упорядоченный мозг устремился на решение проблемы. После долгих колебаний он набрался смелости и снова произнес, не глядя ей в глаза, те слова, которые говорил ей за несколько дней до того, когда они ехали по той же дороге в противоположном направлении:
– Я выброшу все из головы, Пнина, я забуду и прощу, я буду тебе хорошим мужем.
Пнина не ответила, а когда они приехали домой, вышла из «траксьон-аванта», направилась в старый барак, он же склад инструментов и мастерская, а также Апупина семейная тюрьма для женщин, закрылась там и начала сцеживать у себя молоко, сцеживать и выплескивать его на пол. Сцеживать от отчаяния и выплескивать из-за утраты памяти, а может, наоборот, потому что у нас в семье для забвения не нужен алкоголь и не нужно пить. Наоборот: надо отворить и сцедить, излить на землю и выплеснуть на пол.
Годы спустя, когда я рассказывал всю эту историю Алоне, чтобы она знала, в какую семью собирается войти («Подумай хорошенько, прежде чем примешь решение», – сказал я ей многозначительно), моя будущая супруга рассмеялась и сказала, что я «глупый мужчина из психованной семьи», что Пнина сцеживала молоко по вполне простой и разумной причине – чтобы не пересохнуть, потому что, может быть, ее отец уступит и даст ей покормить сына.
Что до Апупы, то он, как только дочь исчезла, зашел в палату для недоношенных. Если бы не эта ужасная ситуация, можно было бы улыбнуться: самый большой мужчина в стране – два метра высоты на метр ширины, сто двадцать кило жесткого мяса и громового голоса, траурная борода, куриные мозги и бычьи копыта – бродит среди самых крошечных младенцев, каждый из которых может свободно уместиться на его огромной ладони.
Умом, которого у него никогда не было, умом роженицы, он немедленно опознал своего младенца и с мягкостью, ему никогда не свойственной, с мягкостью матери, сунул огромный палец в пустоту инкубатора, осторожно погладил ребенка и с новой смелостью, смелостью женщины, вытащил его оттуда.
Ужасающие цвета младенческой кожи, крошечные размеры недоноска, волосы, еще покрывавшие его лоб, – всё это нисколько не мешало ему. Ко всеобщему потрясению, он растянулся навзничь на полу и положил своего мальчика в углубление под ребрами, под грудиной. Он был крестьянином и, как истинный крестьянин, хотел, чтобы новорожденный привык к его прикосновению, голосу и теплу и думал бы, что это мать трогает его, что это ее запах достигает его носа, что это дрожь ее диафрагмы сотрясает его тело.
Сегодня, как я слышал, так поступают в каждом отделении для недоносков во всех больницах. Но тогда недоносков запрещалось брать на руки, и, когда сестры и врачи бросились к Апупе, тот сказал, что такой ребенок нуждается не только в кислороде и инфузии, но и в прикосновении, а всем хорошо известно, что первый, к кому теленок прикоснется, чей запах вдохнет и чей голос услышит, навсегда станет для него матерью, – и для наглядного подтверждения издал короткое «Ммууу…».
– Здесь не коровник, – сказали они. – Уходите немедленно, это недоношенные дети!
Давид Йофе молча поднялся тем медленным, нескончаемым движением великанов, которое было так знакомо всем нам, но привело в смятение врачей и сестер. «Он подымался, и подымался, и подымался», а когда закончил это действие, завернул своего крошечного мальчика в маленькое мягкое полотенце от пота, которое всегда было у него в кармане и, несмотря на все стирки, уже впитало его запах и всегда сохраняло его тепло. Он положил его под рубашку, и – даешь, Давид, вперед, с прежней силой мужчины-из-мужчин и с новой решительностью женщины-из-женщин, – даешь, сквозь строй сестер и врачей, рожениц и мужей, расступавшихся перед ним, как травы перед сапогом, и сквозь двери, которые сами распахивались перед ним, страшась разлететься от удара.
Кто-то пытался крикнуть и был остановлен его взглядом, кто-то пробовал задержать и был отброшен к стене, и раньше, чем врачи пришли в себя и вызвали полицию, Апупа уже перепрыгнул через забор, пересек дорогу и спустился по маленькому вади к Долине, а оттуда по проселочным дорогам в полях направился на запад, пешком, полутораметровыми шагами, как он привык и любил ходить, когда нес любимое тело – не важно, в люльке ладони или на плечах, не важно, дочь, младенца или женщину, согревая своего мизиника силой своего шага, баюкая его своим мерным глубоким дыханием, не задерживаясь возле какого-нибудь крестьянина, жаждущего посудачить со встречным человеком, не соблазняясь тенью дерева или его плодами, ибо мужчину, у которого наконец появился сын, невозможно ни остановить, ни испугать, ни задержать.
– Потому что такой мужчина, – объявил Апупа своей молчавшей жене, – может распростать руки от востока до заката, вот так, мама, смотри… – и раскинул руки во весь их размах, – одна рука касается жизни, а другая говорит смерти: возвращайся завтра, сейчас мне не до тебя. И скажи своей дочери, – велел он ей, – что моему сыну нужно молоко.
Но когда Пнина пришла, чтобы покормить своего сына, он прогнал ее.
– В бутылке! – закричал он. – Принеси мне молоко в бутылке! Чтобы он не думал, что он твой ребенок! – И позвал Жениха: – Поезжай в больницу, посмотри на их инкубаторы и построй мне такой же, но еще лучший!
Жених поехал, посмотрел и вернулся. Ему всегда было достаточно беглого взгляда, чтобы понять принцип действия любого механизма и пути его усовершенствования, и по возвращении он взял прототип одного из разработанных им брудеров для цыплят, продезинфицировал и покрасил коробку, чтобы разобрать и почистить трубки до того, как высохнет краска, потом надел защитные очки и включил токарный станок.
– Нормальный мужчина, – сказала Рахель, – устроил бы в этом инкубаторе так, чтобы байстрюк сварился там или замерз, но в нашей семье нет нормальных мужчин.
– Я, – сказал я. – Я единственный нормальный в семье.
Рахель смерила меня долгим взглядом.
– Ты извинишь меня, Михаэль, – сказала она наконец, – если я не отвечу на эту твою декларацию?
«Прославленный колченогий» установил в инкубаторе закрытую систему подачи масла, сменил форсунки, выточил предохранительные клапаны, проверил утечки. И хотя он знал, что Апупа предпочтет простые горелки электрическому обогреву – по той простой причине, что «электричество не видно глазом», а огонь видно, – он тем не менее установил параллельно с горелками систему электрического подогрева с аккумуляторной поддержкой. «Не хватало ему, чтобы что-нибудь, не дай Бог, случилось и его обвинили бы в этом».
Все время, пока Жених не кончил свою работу, Апупа держал ребенка в теплом закутке между рубашкой и своим телом. А потом, уложив своего мальчика в инкубатор, построенный ему зятем, он накормил его из бутылочки, принесенной дочерью, и, поскольку не слышал, что родители недоносков боятся давать своим детям имена, а возможность смерти мальчика вообще не приходила ему в голову, – дал ему имя Габриэль [98]98
Габриэль и Михаэль – два старших ангела в иудаизме, архангелы в христианской традиции (на русском – Гавриил и Михаил). Габриэль ( ивр. «божий муж», то есть мужское начало) – это ангел-провозвестник. Михаэль ( ивр. «кто как Бог») – ангел-заступник, предстоящий перед Богом за людей, провожающий души праведников в небесный Иерусалим.
[Закрыть]. «Только его куриные мозги могли выбрать такое имя для недоноска, – сказала Рахель и насмешливо продолжила басом: – Габриэль! Мужчина из мужчин во всех отношениях…»
День за днем приносила Пнина бутылочки молока своему сыну, и вся семья помнит эту картину: молодая мать – чья красота, к великому ужасу, не увяла, а лишь еще больше расцвела после родов, – выходит четыре раза в день из старого барака, белая бутылочка белеет в белизне ее руки, поднимается по ступенькам на веранду своего отца, открывает сетчатую дверь и стучится в дверь деревянную.
В моей семье, как я еще и еще раз напоминаю себе, все помнят всё, ничто не забывается. Мы помним мягкую белую руку, что стучит, и большую белую руку, что высовывается, взятую полную бутылочку, ее возвращаемую пустую сестру. Терпение, Михаэль, повторяю я себе, честно и точно, улыбаться и не отступать, «как пишут рассказ, и как трогают женщину, и как выращивают дикий куст посреди сада». Мы помним пересыхающий рот и останавливающееся сердце. Слова: «А сейчас поди прочь» – и: «Нацеди и принеси новое». Он внутри, кормит своего мизиника, а она снаружи, возвращается в свой тюремный барак – снова налиться молоком, сцедить, пойти и принести снова, – а тем временем полубратья Апупы, их сыновья и внуки работают на наших полях, чтобы Апупа мог растить своего сына.
«И тут мама решила, что ее ненависти недостаточно. Что этому человеку она должна отомстить по-настоящему, – рассказывала Рахель. – И прежде всего она покинула спальню и перешла спать в кухню».
– У него есть новый сын? – сказала она. – А у меня есть прежняя дочь. И Батиньку я тоже не забыла, мою девочку, которую он выгнал.
* * *
Иногда, когда я отправляюсь навестить «Паб Йофе» или просто по делам, которые Алона посылает меня уладить в Хайфе – городе, о котором Жених не забывает отметить, что в нем много машин «опель», а Габриэль, именно Габриэль, говорит, что его женщины красивее женщин всех других городов, – на меня вдруг наплывает воспоминание о развевающемся и горящей ткани и о цветущих на ней анемонах, и тогда я захожу в магазин женской одежды и направляюсь прямиком к вешалкам с платьями.
Я люблю юбки. Понимаю, что такая формулировка может быть понята неправильно, но я говорю не о том, будто бегаю за юбками или сам их ношу. Я люблю смотреть на юбки, когда они прикрывают тело шагающей женщины. Я люблю ту игру, в которую воздух и плоть играют друг с другом по разные стороны ткани. Я люблю ее просвеченность, ее натянутость тут и свободность там, гадательное «где» и взволнованное «здесь», предположение и ответ. Продавщица, которая по ошибке полагает меня отчаявшимся мужем или дерзким ухажером – немногие мужчины осмеливаются сами покупать платье, – спешит мне на помощь с тем заинтересованным, насмешливым и удивленным выражением, которое она хранит для таких бедолаг, как я, и рекомендует мне то или иное платье с такой готовностью, будто я совершенный олух или приговоренный к смерти арестант, коротающий время до повешения.
Я отвергаю несколько слишком облегающих платьев, которые не позволят ногам быстрый бег, и несколько платьев, перегруженных складками и тесемками, а также платья-скатерти, платья-занавески и платья-синагогальные завесы, которые подошли бы женщине-столу, женщине-окну и женщине-свитку Торы. Кончается тем, что я прошу продавщицу оставить меня в покое, я выберу сам, и тогда она бросает на меня взгляд, который хранит для безвредных извращенцев, и наконец отходит от меня. И я, отобрав два-три платья, которые могут, при подходящих условиях и в соответствующем настроении, убедить придирчивого стража у врат моих воспоминаний, выхожу на улицу и жду прихода отражения. Не копии, ведь копии нет, есть только намеки на сходство: короткие черные растрепанные волосы, рост, руки, ширина улыбки и шага – пусть появятся в виде примет совершенно незнакомой женщины, «молодой и красивой, решительной и смелой», ничего не знающей о величии своей роли.
И когда она появляется – а она всегда появляется, ведь моя фонтанелла видела ее, когда она еще была за углом, слышала ее шаги еще издали («где ты, мальчик, кричи, чтоб я тебя слышала!»), ощущала бурление кислородных пузырьков в ее легких, напрягалась в ответ на шелест ее бедер, – и когда она появляется, я спрашиваю ее (это я-то, я нынешний, который ни при каких условиях не заводит разговор с незнакомыми женщинами!) – не согласится ли она зайти со мной в магазин и померить для меня несколько платьев.








