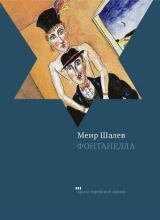
Текст книги "Фонтанелла"
Автор книги: Меир Шалев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
– Что ты делаешь?! – кричала она, злясь на собственную беспомощность.
– Я ненавижу их, – сказала Пнина. – Моего ребенка и моего отца, обоих их я ненавижу.
– А Арона? – спросила Амума.
– Арона я люблю.
– Но верность ему ты не соблюла, – сказала Амума.
Пнина молчала.
– А почему не соблюла, один Бог знает, – сказала Амума.
– Один Бог? Я тоже знаю… – И вдруг слова вырвались из нее, теснясь и толкаясь, как овцы: – Потому что я хотела хоть раз в жизни побыть с красивым мужчиной. – И она вдруг начала плакать. – Только один раз. Мне показалось, что мое сердце поднимается к нему вместе с телом, и мы были в Тель-Авиве, в комнате, которая смотрела на море, и пили «Пиммс» [82]82
«Пиммс» – популярный в Англии алкогольный напиток на основе джина (или виски, бренди, водки и т. п.) с ароматом ликера и фруктов; входит в состав слабоалкогольного коктейля, который пьют в основном женщины. Носит имя своего создателя Джеймса Пимма.
[Закрыть], как пара англичан, и я знала: только один раз, голубые глаза и белые простыни, а потом я выхожу замуж за Арона, и я люблю, и я верна, и я всю жизнь…
Ее плач был слабым и тонким. Не тем, что сотрясает тело. Не тем, что слышен вне комнаты. И Амума молчала.
– Ты молчишь, мама? – всхлипнула Пнина. – Только с тобой я могу говорить, и тебе нечего сказать?
– Мне? – сказала Амума. – Что я могу тебе сказать? Что я понимаю? Я никогда не была в гостинице, и я даже не знаю, что такое «Пиммс». – И после молчания, короткого для нее и долгого для ее дочери: – Но я всю жизнь сплю с красивым мужчиной, и дело в том, Пнинеле, что привыкают и к этому. Это не такая уж невидаль. Уж конечно, не такая невидаль, как «Пиммс».
И еще через несколько минут она сказала:
– Но не после того, что он сделал с тобой и с Батией, с тех пор нет – и никогда больше.
И все это время пальцы Пнины, скрюченные и когтистые, пытались прорваться сквозь заслоны кожи и мышц, пленок и слизи, чтобы вырвать из себя зародыш и вышвырнуть его вон – но тот держался за стенку ее матки с упрямством и уверенностью куста каперсов.
– Только не сердись на меня и ты, мама, – сказала наконец она. – Хватит с меня молчания Арона, и криком Апупы, и пинаний его приемыша в моем животе.
– Он не его, – прошипела Амума змеиным шепотом. – Он твой, и твой муж примет его. Возьми их обоих и беги отсюда!
Но Пнина сидела с закрытыми глазами, считая клетки своего сына, которые ежеминутно делились и удваивались в ее теле, и чувствуя, как время умножает его кожу и жилы и вздувает завязи его органов и тканей. Не только его руки и ноги чувствовала она, их содрогания и толчки, когда она молилась о его смерти, – она видела его колючие глаза, его неясное, загадочное лицо, его улыбку – улыбку дремлющего в ее чреве дьявола.
– У отца с Ароном есть договор, мама, – сказала она. – А у меня больше нет сил.
И надо же – именно в эти страшные дни, когда Батия ушла в изгнание, а Рахель переписывала стихи и мечтала о своем Парне, а Амума с Пниной маялись, как безумные, а Габриэль постепенно рос и созревал, именно в это время моя мать Хана сподобилась некой меры душевного покоя, того приятного покоя, который даруют своим обладателям здоровье, и работа, и любовь. Ее огород цвел, и, хотя ей приходилось делиться его урожаем с вредителями, ей в избытке хватало овощей для себя. И к тому же Мордехай Йофе каждый день приходил ухаживать за ней.
Долина дивилась: почему он выбрал именно ее? Но поскольку все чуяли, что Мордехай наделен особым талантом к женщинам, то в конце концов сошлись на том, что не иначе как он нашел в ней то самое, «чего не хватает Ханеле», что укрылось от их собственных глаз. И всем не терпелось увидеть, чем это кончится. Даже Апупа, который в прежних подобных случаях немедля запирал замешанную в дело дочь в злополучном бараке, на сей раз никак не препятствовал. То ли устал от семейных скандалов, то ли посвятил весь свой невеликий ум внуку, которому предстояло родиться, то ли и сам догадывался, что из всех его четырех дочерей шансы Ханеле понравиться мужчине уже изначально ничтожны, а может быть, просто из уважения к новому ухажеру, который был «героем войны» и к тому же одноруким.
А сама Хана Йофе ответила на ухаживания Мордехая Йофе свойственным ей образом, то есть немедленной попыткой приобщить его к заповедям вегетарианства. Она читала ему лекции, похожие, я думаю, на те, которые читает сегодня тем травоедам, что приходят к ней «для оздоровления». Она распевала ему о «жизненной силе, заключенной в прорастающем семени», и разъясняла необходимость есть овощи разных цветов – красные, зеленые, оранжевые, – но не все одновременно. И конечно же, говорила о великом запрете, о первородном грехе, о первейшей из заповедей вегетарианства – «не смешивать белки и углеводы».
Отец слушал ее с большим терпением. В ту пору все это казалось ему забавным, а не раздражало, как в последующие недобрые годы.
– Никакой салат не вырастит мне новую руку, – мирно сказал он ей, когда она изложила ему основы правильного питания.
Уже в их первую встречу он заметил лишай, расползшийся по ее бедрам и ногам, а теперь осмелился даже сказать ей, что может его вылечить. В первое мгновенье она помрачнела, потому что не знала, что ее лишай виден чужому взгляду, а в следующее выстрелила:
– Ты? Все врачи, какие только есть, уже пытались, и ни один не смог.
– Как хочешь, – сказал Мордехай. – Но ты можешь гордиться, что, как настоящая вегетарианка, заразилась растительной болезнью.
Мать не знала, то ли обидеться, то ли улыбнуться, то ли проигнорировать его слова, и в конечном счете, так и не выбрав ни одной из этих возможностей, выпрямилась и сказала, что согласна: пусть он попробует, но только немедленно, если он уж так у верен в своей удаче. «Сейчас посмотрим, как ты меня вылечишь!» И Мордехай Йофе вылечил ее. Он сделал это с улыбкой, с легкостью и таким очевидным способом, который не пришел в голову ни одному из ее врачей-натуропатов и обычных врачей: спустился в центр деревни, вернулся, неся банку и щетку, велел ей стоять неподвижно, встал на колени и побелил ей ноги сильно разведенной садовой известью. Потом тотчас облил ее водой из шланга, чтобы не было ожога, а назавтра побелил и облил снова. Ее кожа покраснела, облезла, нарастила новый слой, и через две недели коленопреклонений, побелок, поливаний и поглаживаний мамины ноги засверкали здоровой и гладкой кожей, а ее сердце наполнила любовь.
* * *
В один прекрасный день, когда автобус из Хайфы, этот наш ежедневный приятный гость – увы, обладавший ограниченным репертуаром сюрпризов, – остановился на въезде в деревню, из него вышла странная пара: пожилой мужчина и незнакомая женщина. Они обернулись и протянули руки, чтобы поддержать маленькую красивую девочку. У девочки было слишком взрослое для ее возраста лицо и слишком длинные для ее роста ноги, хотя и недостаточно длинные, чтобы самой спуститься по ступенькам автобуса.
Мужчина нес саженец кипариса и канистру воды. Женщина – мотыгу и маленький джутовый мешок. Девочка – школьный ранец на спине. Не заходя в деревню, эти трое пошли по колее, проложенной телегами, которая вела к обработанным полям вдоль Кишона, и тогда мы поняли, кто они. Все, кто жил тогда в Стране, знали, как выглядят осиротевшие родители, идущие к могиле сына. Всем была знакома их походка, наклон головы, ритм дыхания. Все вспомнили, что видели эту пару в тот день, когда устанавливали памятник упавшему летчику, сообразили, что прошел год, и догадались, что эта девочка – младшая сестра погибшего парня.
Слух о приехавших мигом разлетелся по деревне, и многие вышли посмотреть. Родители с девочкой направились к памятнику, а мы, оставшись у дороги, ждали их возвращения. Все знали, что сейчас отец выроет там яму, мать укрепит в ней саженец кипариса, а маленькая сестричка притопчет землю своими ножками и польет саженец водой, и потом ей накажут запомнить: «Тут погиб твой брат, и это дерево мы сажаем в его память».
Привычные и навидавшиеся, люди смотрели, как они шли, всё удаляясь и уменьшаясь, пока не превратились в три темные точки, которые на долгое время слились с памятником, а потом медленно поползли в обратный путь.
Терпеливы были все стоявшие вдоль дороги, точно деревня наша была населена сплошными пророками, которые загодя знали не только всех действующих лиц, но и предстоящее развитие сюжета: вот они возвращаются, и растут, и снова становятся людьми – мужчиной, женщиной и девочкой, отцом и матерью, что потеряли сына и чей мир погас вместе с ним, и сестрой, которая вырастет и не забудет:
– Каждый год мы будем приходить сюда с тобой, а когда ты вырастешь, а нас уже не будет, ты будешь приходить сюда каждый год с твоими детьми, чтобы они знали, что когда-то, раньше, чем они родились, у них был дядя-летчик и тут он погиб.
Некоторые из деревенских вышли навстречу идущим – пригласить их зайти, отдохнуть, перекусить. Те вежливо отказались, но попросили, если кто будет проходить мимо памятника, пусть польет там, пожалуйста. «Только если не трудно, – прошептали губы матери, – не нужно ходить специально, только если кто-нибудь случайно будет проходить».
В тот же день Элиезер созвал школьный ученический совет и велел нам назначить регулярные дежурства, чтобы позаботиться о саженце. И с тех пор каждые две недели там случайно проходили двое взволнованных дежурных, которые так же случайно несли маленький гаечный ключ – открыть и закрыть ближайший шибер, – а заодно ведро и лейку, маленький ручной культиватор для рыхления и прополки и раз в несколько недель – удобрение. Только немного, потому что корни еще молодые.
Когда приходила моя очередь, я всегда старался пойти туда вместе с Габриэлем, потому что тогда с нами шел и Апупа. Своего мизиника он сажал на плечо, снаряжение нес в руке, а иногда нес и меня, на второй руке, потому что его плечи безраздельно принадлежали Габриэлю. Мы пололи и разрыхляли, а когда закапывали удобрение, на нас всегда глядел из земли шарик из шарикоподшипника, а полоски рваного алюминия, все еще хранящие тогдашний жар, отвечали звоном зубцам культиватора и шипением – воде из лейки.
Много лет прошло с тех пор, тот кипарис уже вырос и больше не стоит в прежнем одиночестве. Мало-помалу ширясь и приближаясь, наш маленький красивый городок дополз до него, и сегодня этот кипарис стоит на краю одной из улиц одного из новых кварталов, и порой уже слышатся голоса:
– Кому нужна могила прямо возле жилых домов? Дети боятся, вороны устроили себе сборище на этом кипарисе и галдят непрерывно, и вообще это не имеет вида, не говоря уже о том, сколько стоит земля. В чем дело, у нас есть ухоженный военный участок на кладбище, ничего такого не случится, если мы возьмем отсюда немного земли, чисто символически, ведь от этого парня не осталось ни крошки, и похороним там, как положено, а заодно и памятник тоже перенесем.
Но я и сегодня, когда смотрю с вершины нашего холма на этот кипарис, вспоминаю жуткий визг падающего самолета, и тот мой бег за Аней, и ту печальную троицу – сутулящегося отца, шепчущую мать и трехлетнюю сестру. И как мне ни жаль погибшего летчика, мне приятно, что у меня есть такой кипарис – пусть он далеко, но его торчащая по-над стенами свеча кажется мне этакой фаллической кистью, которая рисует мне былые картины.
Город расползается, растет на землях, которые захватил Апупа и продала Рахель. И то мое сгоревшее пшеничное поле тоже уже залито асфальтом и вырастило из себя дома. Двое из четырех ворот нашего Двора уже заколочены навсегда. Еще одни заперты, но могут быть открыты, как велел Жених, в аварийной ситуации. Так что в обыденной жизни мы пользуемся единственными оставшимися воротами, и в тех редких случаях, когда они открываются, – их створы распахиваются тогда, как большие крылья, – в них врывается вдруг городской гул, похожий на глухой монотонный рев, изредка прерываемый воем сирены или далекими криками. А когда их закрывают – большие, тяжелые крылья складываются снова, – этот рев сразу же исчезает, как тот шум в ушах, который мы сами устраивали себе в детстве, включали и выключали, то закрывая вогнутыми ладонями ушные раковины, то открывая. Но когда эти городские голоса вторгаются к нам, наши дворовые голоса, во всех других местах уже исчезнувшие из этого мира, в свою очередь вырываются в город: слышите? шумная тяга жестяной трубы над древесной печью, копыта, топчущие грязь, чирк косы, свист серпа, зов гуся, далекий рев диких ослов, постукивание садовых насосов, голос примуса, дребезжанье будильника с пружиной и молоточком.
Но хотя мы, Йофы, живем в музее вымерших звуков, мы не отрезаны от мира. Нет и нет. Моя мать слушает новости по радио, хотя я предостерегаю ее, говоря, что это вредно для здоровья. Ури возвращается из своих блужданий – поисков в Сети и прогулок по ней. Рахель привязана своей старой пуповиной к бирже и к банкам. Жених выезжает по разным делам и возвращается потрясенный увиденным. А я время о времени взбираюсь на крышу, смотрю в даль, и вот, пожалуйста, – к нам уже приближается караван «пашмин», нагруженный пряностями, бальзамом и ладаном местных новостей. Но все эти мелочи проносятся над просторами нашего Двора, точно перелетные птицы, – на нашей утоптанной, твердой почве не остается никакого отпечатка или следа.
Девочка Айелет приводит к нам своих «кавалеров» – «Захотелось мне подержаться за того и не отнимать руки от этого», – говорит она, а недавно принесла мне диск с хорошей песней под названием «Nothing Compares to You» [83]83
Ничто с тобой не сравнится ( англ.).
[Закрыть]– видно, заметила выражение моего лица, когда это пели у нее в пабе, и всё поняла: «Ты думал о ней, когда слушал, да, отец? О той женщине, что спасла тебя из огня?»
Алона тоже поднимается со мной на крышу, посмотреть вокруг. Мы стоим там, смотрим на кипарис, раньше такой одинокий и далекий. «Ты помнишь, Юдит?» – говорю я ей, и она, с неожиданной теплой близостью, почти с любовью, поворачивает ко мне свое светлое, открытое, милое лицо, улыбается мне и берет мою руку в свою. Взять, пожать, удержать, забрать, стиснуть, захватить, завладеть; но у меня только одна рука, Хана; протянутые руки пламени.
Я встряхиваюсь, сажусь на кровати, насколько сонное объятье Рахели мне позволяет, и выглядываю в окно. Во «Дворе Йофе» ночь. Вокруг нас – маленький городок, весь в огнях, в движении, в погоне за наслажденьями жизни. Шум, блеск и всевозможные «люксусы» накатывают на наш берег, происшествия – счастливые и несчастные – взрываются на наших утесах, но ничто из этого не проникает сквозь наши стены. Из дома, где жили Амума и Апупа, а сегодня живут Апупа, Гирш Ландау и Габриэль со своими друзьями, доносятся запахи пищи и звуки пианино. В маленьком бараке, где Арон чертил схемы своих изобретений, и где позже Апупа запирал своих дочерей, и где жила Амума перед своей смертью и Гирш Ландау после нее, дрожит слабый свет: это вход в подземелья Жениха, лаз, через который он спускается в глубины земли, в царство своих потайных ходов и убежищ. В его доме тоже виден свет, только в одном окне. Лампа для чтения? А может, это сияние Пнины, что бродит там в темноте?
В доме моих родителей полная темень. Мать, из соображений здоровья, предпочитает взойти на ложе сна как можно раньше, а отец, из тех же соображений, предпочел как можно раньше возлечь с предками [поспешил уйти]. В моем доме еще горит свет. Ури в своей комнате, читает и изучает, а иногда встает и делает ночную постирушку: «У меня чистой одежды не стало…» – объясняет он на языке Йофов, и я вспоминаю фразу, которую слышал так много раз в детстве: «Беги в коровник, Михаэль, у нас молока в холодильнике не стало». Большую кухню и гостиную заняли Алона и ее подруги. Они только что вернулись из «фитнес-клуба» и, поскольку сожгли там несколько калорий, позволяют себе несколько пирожков. Рассказывает ли она им, где я нахожусь в эту минуту?
Я вижу их через окно, слышу их смех. Похоже, что да. Рассказала.
– Почему они так раздражают тебя? – недоумевает Айелет.
– Я не выношу сплетен, и не выношу грубости, и не выношу, когда они используют наши выражения. Что, у них нет своих семей?
Айелет смеется:
– «Ты вся дрожишь», папа. Конечно, у них есть свои семьи, но не такие, как у тебя, – и она передразнивает свою мать: – «Так уж это, дорогой. Когда наши руки начинают толстеть, и мы начинаем красить волосы, и наши мужья перестают изменять нам с другими женщинами и начинают изменять нам с себе подобными, мы сбиваемся в свои женские стаи».
– Мы? – удивляюсь я, слыша, как Алона сердится на дочь. – Смейся, смейся, дорогая, мы тоже были когда-то худыми, как ты, и у нас тоже стояли груди, и у тебя тоже будут когда-нибудь крашеные рыжие волосы, а грубее ты становишься уже сейчас.
И девочка Айелет, «а мейделе Алка мит дер блойер парасалка», «в шесть лет ее не тронь, и кудри, как огонь», отвечает:
– А я тогда покрашу их в белое.
– Чего ты хочешь от моих подруг и что ты имеешь против них, я не понимаю? – сердится Алона. – У меня есть подруга-адвокат, подруга-врач, подруга в муниципалитете, подруга с кафетерием, подруга с книжным магазином – что еще нужно женщине?
– А просто подруга, Алона? – спрашиваю я. – Просто подруга, обыкновенная?
– Просто подруги у меня нет. – Она не улыбается. – Для этого у меня есть ты.
Некоторые из этих ее «пашмин», я вынужден пришить, пришли «со стороны моих товарищей» – это тоже формулировка Алоны, – то есть вышли замуж за людей, которых я знал со школы или из армии, и после того, как мне удалось избавиться от ненужных с самого начала контактов с их мужьями, они сохранили свои связи с моей женой.
«Двор Йофе» вызывает у них восхищение. Четыре из них даже используют для него пугающий эпитет «волшебный». Не все проросшие здесь воспоминания им знакомы, но несколько наших старых историй они слышали от их участников и несколькими йофианскими выражениями они уже умеют пользоваться: «Ты помнишь, Юдит?», «Рыба таки-да хороша» – йофианская реакция на хвастовство, «Дело было так…» – в начале любого рассказа, «А ну, скажи мне…» – с разными продолжениями: «А ну, скажи мне, на сколько лет я выгляжу?» (по случаю нового цвета волос), «А ну, скажи мне, на сколько лет я вешу?» (через шесть часов после начала новой диеты), «А ну, скажи мне, сколько это стоило?» (дочь одной из них вернулась из Индии и привезла себе новую «пашмину») – и они не раз просят: «Расскажи мне еще раз историю про тетку твоего Михаэля, ту, что вышла замуж за нациста и убежала в Австралию… И расскажи, как дед Михаэля забрал мальчика у своей дочери… Что, это он? Вот этот старик, этот карлик, который укрывается собственной бородой? Которого Габриэль и его красавчики друзья выращивают в ящике? Это и есть ваш страшный дед из рассказов?»
Словно дети-переростки [словно мамины травоеды], так они не сводят глаз с Алоны: «И о своем Михаэле тоже расскажи, это правда, что, когда он был мальчиком, у него был роман с соседкой? И это правда, что ее выгнали из деревни?» Ну что вы! Роман с соседкой был у его отца! «Нет! У них обоих были романы с соседкой, так это с одной и той же или с двумя разными?.. А договор, который вы заключили с тем скрипачом и вашим дядей-инженером и его женой? Ах, он не инженер? Просто мастер на все руки? А она что? Что, она еще жива? Эта женщина-красавица из твоих рассказов?.. И как ее зовут? Пнина? Заперта? В этом доме? И что, действительно такая красивая?.. Я и правда удивлялась, кто там живет, что ставни всегда закрыты. Можно пойти посмотреть на нее? Что значит, „это стоит денег“? Почему у тебя всегда в голове деньги, Айелет? Прекрати немедленно, извини и пожалуйста!»
И старый «ситроен» Жениха тоже привлекает их внимание. Одна из них не перестает приставать, чтобы мы продали ей эту машину, за любую цену. Она хочет подарить ее своему мужу.
– На что тебе? – спрашивает Алона. – Если ты подаришь ему эту машину ко дню рождения, он еще может случаем снова влюбиться в тебя. Так ты подумай сначала хорошенько: оно тебе надо?
* * *
Каждую пятницу после полудня Жених направляется к своему старому «траксьон-аванту» и заводит его двумя-тремя оборотами ручки. Мы смеемся: «Он у тебя едет так, будто стоит», – но Арону это не мешает, он любит ездить медленно. Возле дома Шломо Шустера, брата Шустера-Красавчика, он гудит, и Шломо выходит. Несмотря на всё, что случилось в прошлом, Арон не держит на него обиду. Во-первых, брат за брата не в ответе, а во-вторых, стареют не только люди, но и их воспоминания. И в-третьих, Шломо – единственный из Шустеров, кто правильно произносит «ша» и «че», и это благодаря Саре, матери нашего Арона, которая показала ему, трехлетнему, как выдыхать эти звуки меж зубов.
Потом они вдвоем едут в Кфар-Иошуа, на встречу своего «Парламента пальмахников», а точнее – «Совета ветеранов Пальмаха».
– Машина должна время от времени подышать воздухом, – говорит Жених. – А эта машина должна к тому же сохранять вид, нельзя, чтобы у нее выцвела краска и красота.
– И поэтому ты выводишь Пнину по ночам? – спрашиваю я, но Жених не отвечает. Ему нечем услышать слова, произносимые в сердце.
Там, в Кфар-Иошуа, один из ветеранов соорудил в своем дворе коптильню для рыбы и мяса, и вокруг нее начала собираться почтенная компания – мужчины, которые хотят на несколько часов освободиться от своей работы, от накопившегося раздражения, от своих жен и от своих болей, приходят сюда выпить-закусить и вызвать из памяти былые легенды и души погибших. «У них ничего не пропадает, – говорит Арон, – никакое старье они не выбрасывают». Вроде бы обсуждают существование государства и народа, а на самом деле – говорят о себе, о своем уголке.
Среди них есть фермеры и бизнесмены, есть отставные военные, кибуцники и мошавники, важные чины и подчиненные, а также несколько горожан. У этих, что из города, еще остались корни в Долине, и раз в неделю они возвращаются к старым друзьям и к пейзажам своего детства. Но каковы бы ни были их чины и сила, в каждом из них все еще тлеют угольки былого гнева тех далеких дней, когда они вернулись с полей сражений и обнаружили, что государство, которое они только что создали и защитили, уже присвоили себе другие. И кто? Те, кто всегда присваивает себе всё, кто присваивает себе всё и сегодня, – все эти «общественные деятели», и политики, и «джобники» [84]84
«Джобник» (от англ.job – служба) – человек, который свою армейскую службу коротает в штабах и канцеляриях.
[Закрыть], что не нюхали пороха, и пейсатые «досы» [85]85
Дос – насмешливое прозвище ультрарелигиозных евреев в Израиле.
[Закрыть], и деляги, и симулянты, которые отделались от призыва.
Как в любой мужской компании, есть там один, которого считают командиром, и в этом конкретном парламенте его так и называют – «Командир». Это высокий и представительный мужчина, увенчанный многочисленными титулами: земледелец в прошлом, директор завода после выхода на пенсию, советник какого-то африканского правительства в недавнем прошлом и член какого-то директората в настоящем и ко всему – командир танковой части в отставке. В разговоре он любит соединять однородные члены предложения изысканным «а также» вместо простого «и», полагая, что это делает его речь более приятной: «Мужчины, женщины, а также дети…», или «Собаки, а также кошки…», или «Следует встать, а также сказать…». А его обычай приходить в парламент всегда в одной и той же одежде: летом в белой рубашке, брюках хаки и сандалях на босу ногу, зимой в кожаном пальто и ковбойских сапогах – так впечатлил всю компанию, что теперь они все ходят в этой униформе, точно какой-нибудь армейский взвод.
Есть в этой компании свой «Заводила», и свой «Шутник», мастер на выдумки, и «Молчун», и «Сухарь», и «Киллер», и «Силач», который в молодости брал два английских ружья за концы стволов и поднимал их горизонтально – «вот так», показывает Жених с восхищением, расставляя руки с воображаемыми ружьями, – как прямое продолжение выпрямленной руки. Есть там свой «Дон-Жуан» и свой «Комик», и все знают, кто такой «Абед из Эйн-Харода» и «Миха из Нахалаля» и что Раанана – это не город и не девушка, а командир Пальмаха, который первым прошел на джипе по Бирманской дороге до самого осажденного Иерусалима, а потом командовал ротой под Кастелем и Катамоном [86]86
Бирманская дорога, Кастель и Катамон – места, связанные с героическими страницами израильской Войны за независимость (1948–1949): по Бирманской дороге, проходившей через холмы и горы (название заимствовано от дороги, построенной англичанами во время войны в Бирме), доставлялось продовольствие в осажденный арабами Иерусалим; Кастель – арабская деревня возле Иерусалима, захваченная израильскими войсками в апреле 1948 года после четырех дней кровопролитных боев; Катамон – южный район Иерусалима, освобожденный от арабов в результате ожесточенного сражения.
[Закрыть]. Шауль Бибер, ныне известный песенник и композитор, для них просто «Офер», как его прозвали тогда в Пальмахе, а над Шимоном Пересом они посмеиваются: «Иммигрант! Расхаживал в коротких штанах, ездил на велосипеде с самого юга Киннерета до Нахалаля [87]87
Нахалаль – место в Изреэльской долине, к юго-западу от Назарета, упоминается в Библии (Суд. 1, 30, в синодальном переводе – Наглол), в 1921 году здесь был основан первый в Израиле «мошав-овдим» («кооператив трудящихся»), ставший прообразом многих последующих израильских мошавов и сыгравший большую роль в истории еврейского поселенчества; отсюда вышли многие известные люди (в том числе Моше Даян), в этом мошаве происходит действие романа М. Шалева «Русский роман».
[Закрыть], и ничего ему не помогло – так и остался иммигрантом».
А кроме того, есть там еще некая Ципи, или Ципа, которая обменивается воспоминаниями и взглядами с некоторыми из них, и благодаря этой Ципе наш Жених – в те редкие минуты, когда в нем просыпается неожиданный юмор, а также надежда, что я не расскажу его друзьям, что он о них говорит, – именует всю их компанию общим именем: «Цвикочки и Ципочки».
Тот или иной уже опирается на палку, там и сям уже виден искривленный парезом рот или безвольно повисшая рука, но большинство из них – на удивленье здоровые старики, все Ципки худые и жилистые, как ремешки кнута, а Цвики плотные, как быки, и тяжелые, как полевые валуны, и, когда они подымаются и идут к коптильне или к пивному крану – «этот кран поставлен в память о Мотьке, пожертвование его сестры и брата», как извещает маленькая латунная табличка, – земля дрожит под их ногами, и куски мяса испуганно ворочаются и истекают соком на своих шампурах, и угли разгораются сильнее и шепчутся друг с другом.
Жених, которого здесь называют «Ареле», а также «Арончик», сидит сбоку, потому что к его естественной молчаливости здесь присоединяется еще и стеснительность тылового человека, который непосредственно в боях не участвовал, – он изобретал и производил гранаты, но не он их бросал. Он разрабатывал мины-ловушки, но не он пересекал ночами границу, чтобы их установить. Однако подобно первому «прославленному колченогу», Гефесту, и он сидит среди Ахиллесов, которые держали закаленные им мечи, и нередко они обращаются к нему с просьбами «заглянуть к ним», что-нибудь починить у них дома, решить какие-то технические проблемы на производстве или в чьем-нибудь хозяйстве – и он не смеет отказать.
Все признают его заслуги и даже говорят: «Если бы не мины Ареле, мы бы не захватили Лод… Если бы не его бочки со взрывчаткой, Хайфа и сегодня была бы арабской…» И, несмотря на присутствие Шломо Шустера, а может быть, именно из-за этого, все тщательно избегают упоминания истории о беременности Пнины, хотя она всем здесь хорошо известна.
Но сам Жених тоже знает себе цену, и ему ясно, что с его стороны хорошо будет принести на очередную такую встречу какое-нибудь угощение: креплах, или гривелах, или гефилте фиш [88]88
Креплах, гривелех, гефилте фиш – соответственно: вареники, шкварки, фаршированная рыба ( идиш).
[Закрыть]производства Наифы, а еще лучше – бутылочку шнапса из перегонного аппарата, им самим придуманного и изготовленного, которую он кладет на стол как своего рода входной билет. Кладет, кивает всем присутствующим, отступает назад шагами, которые подчеркивают и усиливают его хромоту, и садится в стороне. Невысокий и худой, смуглый и хромоногий, он очень отличается от всех этих мужчин: его волосы еще черные, как вороново крыло, но уже редкие, а их волосы уже белые, как крыло гуся, но еще густые.
Сначала этот «Парламент» составляли коптильщик мяса из Кфар-Иошуа, его брат и двое друзей из Нахалаля – товарищи по школе и по армейской службе в бригаде «Харэль». Потом к ним присоединились товарищи по оружию из Тель-Адашим и Кфар-Ихезкель, еще один пришел из Мишмар-а-Эмека и двое из Гвата, И все они привели своих товарищей, и когда количество участников достигло сорока человек, «Командир» объявил, что на этом двери закрываются.
– Теперь пусть ждут, пока кто-нибудь из нас умрет или пропустит – безо всякой причины! – четыре встречи подряд, а если у кого нет терпения, пусть прикончит одного из нас или, если угодно, организует себе другой парламент.
Вначале они делились воспоминаниями и сравнивали свои рассказы. Спорили, держали пари, опровергали и подтверждали и, как в семействе Йофе, кричали друг на друга «пошел в задницу» или «кончай свои глупости», пока не выработали единый и всеми признанный канон, в котором нашлось место и для рассказов о былых сражениях, и для житейских историй, и для воспоминаний о старой любви, и для курьезов и сплетен. Но со временем обнаружилось, что воспоминания повторяются, и у всех анекдотов те же концы, и даже апокрифические версии уже не меняются, н страшилки всегда кончаются благополучно, и шутки – всё те же шутки, и ветер всегда дует и всегда прохладен, и Рахель, которую однажды туда пригласили, чтобы посмотреть на женщину, сохранившую верность своему погибшему парню, вернулась домой, залезла под свой пуховик и сказала: «Я заключила там несколько неплохих сделок». А когда я спросил ее: «А что же с рассказами?» – она уклонилась от ответа, сказав на свой лад: «Сколько щепок можно еще подбрасывать в один и тот же костер?»
А в один прекрасный день члены «Парламента» вдруг обнаружили, что они уже говорят не только о своем героическом прошлом, но также о сегодняшних болях, болезнях и претензиях. Воцарилась скука, некоторые перестали приходить, другие пропускали четыре встречи подряд без всяких причин, и дошло до того, что духи погибших на войне друзей отказались появляться и разговаривать со своими боевыми товарищами. В результате им пришлось приглашать гостей со стороны, устраивая то, что именовалось «Встреча с…» или «Дискуссия о…», но, по существу, было не чем иным, как военно-полевым судом над наивными и неискушенными людьми, которые соглашались предстать перед ними в роли обвиняемого, добровольного Прометея или боксерской груши: то молодой армейский генерал, этакий ничего не понимающий цыпленок, то экономист, из ответственных за тяжелое положение страны, а то какой-нибудь второразрядный министр, у которого еще не просохло на губах молоко его мамаши из Эцеля [89]89
Эцель – боевая организация «ревизионистского крыла» сионистского движения, которая долгое время конкурировала с Хаганой (боевыми отрядами основных сионистских партий) и в силу своей непримиримой борьбы с мандатными властями даже считалась враждебной интересам сионизма. Позднее активно участвовала в Войне за независимость и влилась в израильскую армию.
[Закрыть], или напыщенный журналист, имеющий мнение по всем без исключения вопросам, но никогда не нюхавший крови и огня и «даже ни разу не убивший и не убитый». А иногда, усмехается Жених, они приглашают также какого-нибудь писателя – из тех, что любят поговорить о «литературе и морали» или о «влиянии Библии на литературу», подробно рассказывают о своем детстве и увлекаются рассуждениями о «памяти как источнике творчества», – но, послушав каких-нибудь несколько минут, они уже прерывают его энергичным протестующим мычанием: «Жизнь – это тебе не литература, дружище!» – или категорическим утверждением: «При всем моем уважении, жизнь куда интересней твоих выдумок, человече!» – а то и уверенным: «Ты себе называешь это „фикшн“? А по-нашему это просто страшилки и ужастики!»
Публика наслаждается своей смелостью, да и сам писатель, горя желанием понравиться, улыбается в смущении, которое, однако, станет еще более сильным под конец, когда поднимутся со своих мест последние представители поредевшего «поколения пустыни» [90]90
«Поколение пустыни» намек на то поколение евреев, которое вышло из Египта с Моисеем и сорок лет скиталось по пустыне; и современном Израиле так зачастую называют первые поколения любой иммиграции, будь то из арабских стран или из России.
[Закрыть]и вызовут его на импровизированное соревнование в цитатах из Библии и «Пасхальной агады» [91]91
«Пасхальная агада» – сборник молитв, рассказов и песен, которые читают и поют во время седера, праздничного ужина в пасхальный вечер.
[Закрыть], из Бялика и Шленского, из Альтермана [92]92
Альтерман, Натан (1910–1970) – израильский поэт-авангардист, автор злободневных политических стихов и в то же время утонченный лирик.
[Закрыть]и Пушкина – и ему придется капитулировать и в этом испытании тоже.








