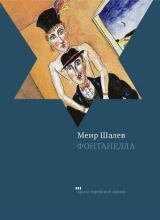
Текст книги "Фонтанелла"
Автор книги: Меир Шалев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
Ее пальцы скользят по моим обгорелым волосам, анемоны горят на ткани ее юбки, губы говорят:
– Смотри, твоя фонтанелла еще открыта.
И я вспоминаю ее шепот:
– Это знак того, что Бог тебя любит.
И ее смех:
– Ну, если уж Бог, то я подавно.
И ее объятье: притягивает, отстраняет, смотрит, снова прижимает к груди. Тогда она была молодой женщиной, почти двадцати одного года, а я – маленьким мальчиком, ровно пяти лет, но в потоке медленно катившегося времени я вырос и возмужал, а она состарилась и умерла.
Подытожу-ка я все, что сказал, подытожу и на том успокоюсь. Итак, меня зовут Михаэль Йофе. Мои дед и бабка, Давид и Мириам Йофе, родили Пнину-Красавицу и мою мать Хану, ее близняшку, и потом Батию-Юбер-аллес, а под конец тетю Рахель, которая рассказывала мне истории и не могла спать одна. Пнина на седьмом месяце беременности родила Габриэля, отдала его отцу, вышла замуж за Арона и закрылась в своем доме. Батия, со своим мужем-немцем, вынуждена была уехать в Австралию и там родила нескольких детей, одна из которых, Аделаид, в течение нескольких недель любви занимала мое сердце и терзала мое тело. Моя мать Хана, ставшая вегетарианкой, вышла замуж за Мордехая Йофе, который изменял ей со всеми своими «цацками», но, очевидно, один раз переспал и с ней тоже, потому что она родила меня. А я женат на Алоне, у нас есть близнецы Ури и Айелет, а также садовый питомник.
И еще я должен заметить – а может, предостеречь, – что некоторые из Йофов, как женщины, так и мужчины, отличаются странным изъяном: после кормления грудью, извержения спермы или сильного кровотечения они ненадолго теряют память <в дальнейшем нужно представить молоко, кровь и семя как некие средоточия души и жизни> – и, действительно, я не раз, поранившись до крови или завершив «любовный акт» (омерзительное выражение, которым пользуется моя мать и которое, к моему ужасу и отвращению, усвоила также Алона), вдруг обнаруживал, что из моей памяти исчезли какие-то события, лица, номера телефонов и даже отдельные слова. Вдумчивый читатель легко заметит это, а что до читателя, не способного думать, то я не намерен тратить на него ни своих слов, ни своей спермы.
Теперь, расставив всё по местам, я смогу, наконец, рассказать свою историю. И тот из читателей, кто заблудится в лесу, который я собираюсь вырастить вокруг него, чтобы провести затем среди деревьев, поступит разумно, если возьмет себе за правило время от времени возвращаться назад, к этой главе, чтобы найти свое исходное место, настроить компас и вернуться обратно на тропу. А если он не захочет вернуться, пусть возьмет себе другую книгу, приятнее и интереснее моей. Но может быть, он поступит еще лучше, если вообще бросит читать и вместо этого приласкает свою возлюбленную. А если читатель этот женского пола, пусть отложит мою книгу и обнимет своего любимого.
Тут, однако, напрашивается вопрос: а что делать тем читателям, в чьей постели этого нет? На это я отвечу встречным вопросом: чего этого – супруга или супруги? Или, как в моей постели, – тело для объятий есть, а нет – любви?
* * *
Славный год у Хомяка
Шерсть блестит, отъел бока,
Веселится, распевает,
День рожденья свой справляет.
Так декламировала Амума тогда, в тот день рождения, когда мне исполнилось пять лет и я гнался за змеей в пшеничном поле, так декламирует Алона сейчас, в этот день рождения, когда мне исполнилось пятьдесят пять и я сижу спокойно.
Время, как и все Йофы, в конце концов берет свое: Анда – так моя бабушка фамильярно называла поэтессу Анду Амир-Пинкерфельд, написавшую стишок про Хомяка, – давно уже умерла, и сама Амума тоже уже умерла, но Алона еще жива, и моя мать тоже еще жива, так как она вегетарианка и потому здорова, а если умрет, то я даже не знаю, какое из множества слов, описывающих смерть, лучше подойдет к описанию ее смерти: она не переселится в лучший мир, потому что там к столу подают мясо шор-а-бора {4} , и не возляжет с праотцами, потому что она и с собственным мужем едва ли возлежала. Нет, наверно, самым подходящим словом для смерти вегетарианки будет «неожиданность», а для моей матери даже «обман» – разве что случится невозможное и она умрет от болезни.
Всё меняется: деревня стала городом, и, невзирая на понятную тоску по «тем временам» («Все знали всех, никто не запирал дверь, и у всех была взаимопомощь», – тоскливо вздыхает Жених над книгами мемуаров, а мы снова переглядываемся, улыбаясь), я должен признать, что как город она лучше, чем была. Апупа с годами стал маленьким, как ребенок, и холодным, как труп, и лежит теперь в старом инкубаторе моего двоюродного брата Габриэля. А сам Габриэль, начавший жизнь как недоносок, стал высоким и сильным и сейчас сидит на траве рядом с Гиршем Ландау, скрипачом, и со «Священным отрядом» – тремя его друзьями с той поры, когда все мы служили в армии в одной части.
Время торжествует: пятьдесят лет прошло и все, кроме него и моей матери, изменились. Что до него, то оно по-прежнему плывет широко и неторопливо, а что до нее, то она по-прежнему костлява, худа и здорова, и оба они по-прежнему всегда правы. А мой отец уже не спорит с ней, потому что его здесь нет. Прежде своего срока умер, прежде моего времени ушел.
Сбоку сидят мои близнецы, Ури и Айелет, перешептываются и пересмеиваются, и их мать делает им замечание. Заметив, что она отвлеклась и не смотрит на меня (редкое и короткое мгновение, которым надо воспользоваться) и что гости, которых она пригласила на мой день рождения, заняты друг другом (триста энергично жующих прихлебателей, выбранных из тысяч, ею любимых, и десятков тысяч, ей знакомых), я торопливо кладу палец на свою открытую фонтанеллу и слегка нажимаю на нее – потому что это мой второй способ успокоиться и забыть.
– Прекрати, Михаэль! Это опасно, ты слышишь!
У нее глаза Аргуса. Ничто не может укрыться от ее взгляда. Когда-то я был для нее «любимым», но за долгие годы ее глаза перестали затуманиваться, а пальцы – ласкать, и начали только высматривать и прощупывать. Желание сменилось заботой, объятья – запретами и оградами. Губы, когда-то кусавшие, пьянившие, глотавшие семя и слюну, теперь выплевывают наставления и замечания. В последнее время ее недовольство вызывает тот и сам по себе неприятный факт, что я пачкаю одежду больше обычного.
– Что бы ты ни делал – работаешь, ешь, читаешь, изменяешь мне или просто разлагаешься в постели, – чистым ты все равно никогда не остаешься.
Но когда я предлагаю ей подбить Ури и Айелет обзавестись семьями и родить ей внуков, чтобы она могла изливать свои воспитательные страсти на них, она смеется:
– Мне не нужны внуки, у меня есть ты.
Ее глаза шарят по моему лицу, ее руки обнюхивают мою кожу, ее вопросы шарят в моей памяти, перебирая ее содержимое – имена, даты, номера, места. Если что-то забыто, значит, я недавно пролил где-то кровь или – что куда вероятней и много хуже – сперму. А поскольку оба эти действия я в ее присутствии делаю редко, она усаживает меня на стул, становится сзади и устраивает мне допрос:
– Назови мне телефон нашей дочери?
– …
– Тогда, может быть, ты хоть имя ее вспомнишь?
– …
И поскольку я использую право на молчание, мы переходим к следующему этапу – проверке на супружескую верность:
– У кого это ты уже побывал, Михаэль?
– …
– Какая это «цацка» высосала из тебя память?
– …
Я встаю в приступе отвращения, чтобы уйти раньше, чем прозвучит ее и мамино омерзительное выражение «любовный акт». Но Алона преграждает мне дорогу и выстреливает:
– Ты совсем как твой отец. Ты мне изменяешь! У тебя есть тайник!
– Ты ошибаешься, – говорю я громко и раздраженно, но, как та змея, лишь в душе. – Ты ошибаешься, Алона, я не похож на своего отца. У меня, к счастью, две руки, на одну больше, чем было у него. И у меня двое детей, на одного больше, чем было у него. И у меня нет, к сожалению, его чувства юмора. И вопреки твоим подозрениям у меня нет никакого тайника и я не хожу ни к какой «цацке» и ни к какой соседке. И я никогда не изменял тебе. Наоборот, Алона, когда я с тобой, я изменяю той женщине [изменяю памяти моей любви].
Я мог бы сказать ей то, что посоветовала мне Айелет: «Скажи ей, что ты сдавал кровь и потому забыл». Но зачем? Вместо этого я снова кладу палец на свою открытую фонтанеллу, обвожу ее край – и вот она уже здесь, во всей своей красоте и молодости, та женщина, что спасла меня из огня, окунула в прохладную воду, дала мне имя и жизнь и обрекла на нескончаемую тоску, пожизненные воспоминания и горькую страсть. Моя рука вспоминает ее руку, моя боль вспоминает ее улыбку, мой палец следует за ее пальцем, обводящим устье колодца {5} на моей голове: тогда в первый раз, в запахе дыма и огня, – вот он, ее палец, осторожно барабанит по испуганному кожному лоскутку, что прикрывает мой родничок, вот они, ее тогдашние слова:
– Смотри, твоя фонтанелла еще открыта…
Собачьим своим слухом слышу я эти голоса, недоступные обычному человеческому уху, – низкие звуки моей памяти, высокие звуки ее любви.
– Что с тобой будет, в конце концов? – Теперь Алона уже кричит. – Ну скажи сам?!
– «Почему гав?» – спрашиваю я ее, то бишь – на что именно ты лаешь?
И поскольку гости-Йофы понимают мой ответ, а остальные гости понимают ее крик, все выпрямляются, смотрят, облизывают губы и ждут. Несмотря на способность предвидения, которой я наделен, я уже не отвечаю на вопросы, которые начинаются со слов «что будет», а тем более если об этом спрашивает моя жена и если ее вопросы относятся ко мне. И вообще – чем больше времени нагромождается на мои плечи, тем реже рождаются у меня предвидения и тем чаще вместо них приходят воспоминания. Так мне даже удобней. Ведь между предвидением и воспоминанием, в сущности, нет особенной разницы, если не считать обратного направления взгляда. Оба рождаются из внутренней потребности, из пылающего огня, который не дает покоя. Оба готовы, Бог весть почему, выдержать смехотворные и совершенно излишние проверки доказательством. Оба пытаются проникнуть в иные времена, и обоим это не всегда удается. И вообще – чего тут ходить вокруг да около: оба они борются с огромным, древним, лежащим у их истоков соблазном – обмануть, замаскировать, выдумать, сочинить. Факт: не только ложные пророки – лживые мемуаристы тоже живут среди нас! В любом доме, в любой семье есть такие, а уж в моей семье особенно – все Йофы только тем и занимаются, что сравнивают варианты: что произошло в действительности? Что произойдет? Кто – как всегда – виноват? Кто кого предупреждал – как всегда – заранее? И самое главное, кто – как всегда – был прав? И кто никогда не признает, что он ошибся?
Каждая семья издает свои звуки: громовой хохот, бульканье кастрюль, сдавленное рыданье, «шшш…», и «шу-шу…», и «ша… ша…», и ритмичные скрипы кроватей, и ночные шаги, и гневные вопли, и любовный шепот, и условные призывы. А наши звуки, йофианские, – это всегда протесты: «Нет, это было не так!» – и крики: «Я вам говорил (говорила), что так и будет!» – и выдох местоимений: «он», и «она», и «они», и «я», и «ты»,
И тот, кто слышит эти звуки, уже понимает: это идут Йофы. Семья Йофов, большая, «счастливая, пока не будет доказано обратное», – идет, едет, летит, над скалами, над горами, вот корова, вот птица – <«Одинокая птица на крыше», – так называла себя Амума> – вот стук колеса, тоскливый вопль паровоза, красный выкрик перекрестка.
«Привет…» Мы машем им из окна – полям, домам, безымянным водителям, привет… – их наплывающим лицам, бледным пятнам на шлагбаумах, – и поезд несется, и все громче кричит паровоз, и «Айелет, эй, едет дале-о-ко, куда-то в неведомый край» [12]12
Из стихотворения «Девочка Айелет» уже упоминавшейся выше идишской поэтессы Кади Молодовской.
[Закрыть], – и предсказания, прогнозы, пророчества, предчувствия, точно столбы электропередачи, летят на нас, и отступают назад, и уже мельтешат за нами, от предстоящего конца времен и до самой этой минуты, и пока мы изумляемся им, они становятся реальностью: порывы ветра, перекаты гор, удар в лицо – и вот уже удаляются, и исчезают, и раньше, чем ты понял, Михаэль, – ты понял? – становятся воспоминаниями, наполняются тяжелой радостью сбывшегося – и оседают в душе.
* * *
Taк и припомни, говорю я себе, припомни точно и по порядку: сначала – запах, скользящий, как шелк, он появляется и подступает, густеет и обволакивает, точно темный мешок. Затем – голос тонкой тишины {6} : писк перепуганных мышей, чешуйчатое шуршание удирающих ящериц, отчаянные призывы жаворонят. А потом, за всем этим, – еле слышное, наползающее со всех сторон шевеление: шершавый шорох горящей пшеницы, жуткий шелест, который мне уже никогда не забыть. В его начале – далекий шепот, его продолжение – разрозненные хлопающие взрывы, затем они становятся всё отчетливей и сильней, а в конце всё сливается в оглушительный рев.
Пожар.
И тогда: страшный вопль: «Папа!» – рвется из моего ожившего и тут же задохнувшегося рта. На праздничную белую рубашку сыплются коричневые хлопья пепла. Черные дыры с багровыми краями расползаются в отступающей белизне ткани.
«Папа!»
Я оглянулся. Сероватые, с красными прожилками, стены огня и дыма приближались ко мне отовсюду, по всему желтому пшеничному простору. Помню, я рухнул на землю, свернувшись как зародыш, прикрывая руками макушку. За считанные секунды пламя охватило всю ширину поля, и огонь уже начало сносить на восток.
«Михаэль…» – лаял старый пес Апупы, прыгая, как безумный, на краю горящей пшеницы. Хотел показать, что от него и тут есть толк, но помчаться ко мне боялся.
«Михаэль…» – звали несомые ветром далекие голоса родителей, дядьёв и теток. Они, которые зачинали нас и рожали, растили и воспитывали, сплетали нам венки и поздравляли, теперь, слепые и беспомощные, издали взывали о помощи.
«Михаэль…» – протрубил могучий голос Апупы, бесполезный, как его сильные руки, глупый, как его истыканные гвоздями башмаки, нелепый, как его заткнутый за пояс кнут-курбач, «на случай всякого случая», – и чем это поможет ему теперь против языков пожара?
«Михаэль…» – позвала черная змея, вернувшаяся откуда-то к моим окаменевшим ступням. Заманила меня сюда, а сейчас вернулась – спасти?
Я хотел было встать и побежать за ней, но внезапный порыв ветра перебросил правое крыло пламени прямо через меня. Я повернулся и упал, пойманный в западню, задыхающийся, окруженный высокими, скачущими, оранжево-огненными плясунами. Пять лет было мне тогда: слишком мал, чтобы понимать, слишком слаб, чтобы убежать, но и слишком молод, чтобы потерять надежду. Только годы спустя я осознал, что день моего рождения угрожал стать днем моей гибели. Смерть, хоть и придвинулась совсем близко, казалась мне тогда далекой и непостижимой, но боль, и страх, и удушье были ощутимы, и даже слишком хорошо. Так хорошо, что достаточно одного воспоминания, чтобы и сейчас, спустя много лет, тотчас протянуть руку к аптечке за ингалятором от удушья, моим неразлучным спутником с той самой поры.
Бешеный, пламенный, завораживающий танец уже окружал меня со всех сторон. Помню: дым пожара разрывает мне грудь, его рев распирает мою голову. Считанные шаги отделяют меня от его протянутых огненных пальцев, и, несмотря на их ослепительный блеск, я чувствую, что меня заливает тьма, но не охватывает снаружи и не заполняет все вокруг, а растет откуда-то изнутри. Потом тьма во мне опускается, и и уже плыву в ней и снова кричу: «Папа!» – и тогда прямо из огня появляется женщина.
Незнакомая женщина, молодая, высокая, почти голая – серая блуза изъедена огнем (несмотря на страх и боль, я удивился: женщина в мужской рабочей блузе), обнаженная грудь покрыта копотью и сажей. Обгоревшая шапка коротких черных волос и остатки цветастой юбки вокруг бедер.
– Где ты, малыш? Где ты?
– Я здесь! – крикнул я, приподнявшись.
Новая стена дыма разделила нас. Ее крик:
– Кричи громче! Я тебя не вижу!
– Я здесь… Я здесь… – изо всех сил заорал я, и она снова появилась из пламени и устремилась прямо ко мне, ни на секунду не замедляя бега. Наклонилась, схватила меня длинной рукой – и вот уже меня подняли и несут сквозь стену огня на другую сторону поля.
Сколько времени прошло – не знаю. Может быть, всего несколько секунд, может – час или минута. Рев пожара затих, и теперь я слышал только ее хриплое дыхание, стоны боли, мои и ее, напряженные удары ее сердца. Черно-белые комья крошились под ее ногами. Шипящие кучи золы огненно раскалялись от дуновения ее бега. Я помню руку, охватившую меня вокруг живота, пальцы, впившиеся в мое тело. Ее левая пятка ударяла по моему бедру, ее ожоги выжигались в моей коже, – и вот мы уже миновали стену камыша, и я брошен в вади, в его мутную, прохладную воду, и лежу рядом с этой чужой женщиной.
Она лежала на спине – руки и ноги раскинуты, кашляющий рот судорожно втягивает воздух, грудь поднимается и опускается в тяжелом дыхании – и вдруг повернула ко мне голову:
– Я тебя услышала…
Странный акцент был у нее, похожий на акцент Гирша Ландау, скрипача. Ее глаза, ее губы были совсем рядом с моими. Ее пальцы погладили мою голову, задержались на мгновение, натолкнулись на просвет между костями макушки, уловили и осознали неожиданность. Она улыбнулась:
– Смотри, твоя фонтанелла еще открыта.
Слово «фонтанелла» я тогда не знал, но сразу понял, о чем она говорит. За ее головой метнулась вниз крылатая тень. Ястреб взмыл снова, черная змейка извивалась в его когтях.
Послышался мужской крик, чужой и тревожный:
– Аня! Аня! Где ты, отзовись!
Молодая женщина встала, стекая водой, пеплом и грязью, подняла меня на руки и перешла вади. За камышами открылись мне лошадь и телега. Худой старик с загорелой лысиной, в светлой отглаженной рубахе и в брюках цвета хаки, сидел на ней, курил сигарету и ждал.
Ее руки, поднимающие меня на телегу, ее победная улыбка:
– Я же говорила тебе, что слышу мальчика, он кричит из огня.
И он, улыбаясь:
– Ну, Аня, так теперь он твой.
* * *
С той ночи, когда мы с Габриэлем вернулись из Иерусалима и я начал записывать всё это, члены Семьи начали выражать свои мнения.
Рахель, из бездны своей постели, и отец, из бездны своей могилы, поощряли меня: «Очень хорошо».
Мать, ползая среди кочанов своей органической капусты, сказала, не глядя: «Надеюсь, Михаэль, что это первый шаг на твоей новой дороге, которая будет правильной и во всех других отношениях».
Жених спросил, пишу ли я «под копирку», потому что «бумаги иногда разлетаются или пропадают».
Айелет завела себе новую привычку – стоять за моей спиной, читать из-за моего плеча, задавать вопросы и делать замечания, Алона переполнилась любопытством и подозрением, а Ури, во всем такой отличный от меня, единственный из всех понял, что речь идет не о романе и не о книге воспоминаний, а об отце, который сам себе Шахерезада и Султан одновременно, и о рассказе, который не что иное, как длинное прощальное письмо. Из мужской солидарности, которой я от него не ожидал, он принес мне старый компьютер, в котором установил новый текстовой редактор («конец чернилам и перьям, отец, даже коров уже доят сегодня машиной»), объяснил основные команды, ввел в память мой личный секретный код и заклял меня «делать копии как можно чаще», потому что компьютер, при всей своей феноменальной памяти, «во всем остальном полный болван, инфантил и к тому же идиот».
И еще он дал мне совет относительно самого процесса письма.
– В компьютере очень легко стереть и легко добавить или изменить, – сказал он. – Так легко, что ты иногда решаешь и делаешь раньше, чем подумаешь. Поэтому я тебе советую: если у тебя есть две формулировки и ты не знаешь, какую выбрать, запиши обе, возьми второй вариант в квадратные скобки и иди дальше, вернешься к ним потом. А если тебе придет в голову какая-то идея, не имеющая отношения к данному месту и моменту, просто запиши ее, обозначь угловыми скобками и продолжай. Потому что иначе забудешь.
– Просто угловыми скобками? – переспросил я.
– Они заметны. Потом, когда кончишь, компьютер найдет тебе все эти квадратные и угловые скобки, и тогда сиди себе, выбирай на досуге, думай над всеми этими «зачем» и «почему» и решай, что да и что нет. <Надо решить, объяснять ли наши семейные выражения, и если да, то где и как.>
– А если я не успею?
– Почему бы тебе не успеть, отец? Ты куда-то спешишь?
– А зачем мне секретный код? – спросил я. – В этой семье и так достаточно секретов.
– Так лучше, отец, – сказал Ури и поднялся. – Так лучше, поверь мне.
Часами, днями, неделями он лежит у себя в комнате в компании своих книг и своего лэптопа. Иногда он гасит свет и слушает музыку, и тогда на его щеке заметна та «сверкающая-в-темноте-бороздка», которую Амума передала ему в наследство через меня [которую я передал ему от Амумы], а потом в несчетный раз смотрит фильм «Кафе „Багдад“», тоже на экране лэптопа, который лежит у него на животе, как кошка. Комната не закрыта. Можно войти, он не возражает. Можно завести с ним разговор. Иногда он отвечает – одним из тех своих «Ну-ну», которые бесят Алону, потому что в этом слове достаточно изменить мелодию, чтобы приспособить его для тысячи ответов, а она не достаточно музыкальна, – но чаще не отвечает вообще. Это не равнодушие. Просто Ури не способен таниматься двумя делами сразу. Когда он сосредоточен на чем-то одном, то глух ко всему остальному. В армии он служил полтора года, был, понятно, специалистом по секретным кодам, а потом однажды взял и уволился, под каким-то пустяшным предлогом. Жених был потрясен. Не разговаривал с ним несколько месяцев, угрожал, что вычеркнет его из списка «получающих довольствие» и ничего не даст «этому типу, который увиливает от армейской службы», ни теплой рукой не даст, ни холодной [13]13
«Ни теплой рукой не даст, ни холодной» юридическое выражение, означающее прямую передачу наследства еще при жизни передающего («теплой рукой») или посмертное наследование по завещанию («рукой холодной»).
[Закрыть]. Но Ури пришел домой, лег на кровать и сказал, чтобы его оставили в покое, только сообщили, если придет та женщина, которую он ждет, и сразу открыли бы ей ворота, не устраивая никаких проверок на входе.
За несколько считаных дней я понял, насколько он был прав в отношении кода. Неожиданное появление компьютера и те часы, которые я стал проводить за ним, вызвали раздражение Алоны, и всякий раз, когда я обращался к Ури за помощью (я сразу же обнаружил, что пути запоминания у Йофов составляют полную противоположность путям запоминания у компьютеров, – что уж говорить о путях забывания), моя жена становилась еще более подозрительной и ревнивой, чем прежде: «Почему ты спрашиваешь только его? Я тоже могу тебе помочь. Нет такого текстового редактора, который я бы ни знала». Она тут же начала находить для меня срочные работы в саду, и пока я послушно там ковырялся, пыталась влезть во внутренности моего компьютера и извлечь оттуда мои секреты. Наличие у меня личного кода она расценила как предательство. Впрочем, от меня, сказала она, «нельзя было ожидать ничего иного». Что касается Ури, то она, надо признать, была слегка удивлена, «однако Ури всегда был сыном своего отца, да и Айелет, в сущности, тоже». Но компьютер?! От компьютера она такого не ожидала никак. Казалось бы – прибор как все приборы, жужжит себе, с вилкой, проводами и выключателем, а вот поди ж ты, в противоположность холодильнику, и плите, и стиральной машине, которые знают свое место, «у этого, видите ли, есть претензии».
В отличие от Апупы, который в подобных обстоятельствах просто разбил бы наглый «струмент» одним ударом кулака, моя жена сделала вид, что пренебрегает обидой, но тайком предприняла неуклюжие попытки взлома. Зная, насколько глубоки и непредсказуемы глубины моего забвения, она решила, что я выберу код, который не так-то легко забыть. Она безуспешно перепробовала десятки разных вариантов, которые по прочтении (сын своего отца наказал компьютеру фиксировать все такие попытки) даже растрогали меня. Там были, понятно, имена всех женщин, которые были у нее на подозрении, но вдобавок на экране то и дело прорастали вдруг мои любимые растения: шафран и шалфей, анемон и мак, нарцисс и кассия, а также имена и прозвища членов Семьи – целое поле слов, которое можно было бы назвать «Секреты и любови Михаэля по мнению его жены».
Ей не пришло в голову попробовать цифровой код, и ей не пришло в голову попробовать свое собственное имя.
– Не пришло в голову? А ты не подумал о такой возможности, что она просто боялась? – спрашивает за моей спиной Айелет.
– Боялась? Твоя мать? Чего? – пишу я ей в ответ.
– Боялась обнаружить, что ты не выбрал ее имя для своего кода, – объясняет она.
<Оставить эти разговоры с девочкой в окончательном тексте или выбросить?>
Она вспыхивает:
– Конечно, оставить! А ты как думал?!
Айелет не знает кода, который выбрал мне Ури. Но каждый раз, когда она приходит навестить меня и видит, что я сижу за компьютером, она становится сзади, наклоняется, читает слова по мере того, как они появляются на экране, и делает мне замечания. Некоторые вещи я пишу, потому что она здесь, а некоторые – по той же причине – не пишу. «Так или так», но когда она здесь, во мне поднимается невыносимая ярость, а когда ее нет, я жду ее прихода.
Еще не зная, что она здесь, я уже ощущаю ее присутствие. Не то чтобы я улавливал его или ухватывал, даже через мою фонтанеллу, – наоборот: это ощущение присутствия произрастает из нее самой и лишь потом материализуется в пространстве. Вначале – ее волосы и дыхание, знобящее мой затылок. Затем – ее зубы, за мгновение до того, как они вонзятся в мою шею. А иногда – надеюсь, что случайно, – я ощущаю также груди моей дочери, ее Цилю и Гилю, как она их называет, когда они вдруг жалят мое плечо, и ее вопросы – ножи в мою спину:
– Что это – «в начале любви»?
– Где?
– В третьей строчке сверху – «есть что-то такое в самом начале любви, что будет поддерживать ее потом в течение всей последующей жизни».
– Таким, – шептала мне Рахель, – было тело моего Парня, которое уже рассыпалось в прах.
И такой, сказал я себе тогда, пока моя тетя говорила, и повторяю сейчас, когда моя дочь спрашивает, такой была та длинная рука, которая схватила меня и вытащила из пламени. И таким был тот палец, Анин палец, когда он играл с мягкой точкой на своде моего черепа, и те губы, Анины губы, уголки которых не переставали радостно подпрыгивать во время этой игры, и тот запах, Анин запах, который остался на моей голове и губах и прилип к моему лбу и ноздрям, и с тех пор им пахнет мой рот, и мой пот, и мои воспоминания, и мои сны, и каждый мой вдох.
– Я ухожу, – объявляет Айелет. – Ты печатаешь ужасно медленно.
Пальцы медленнее мысли, а также памяти, а мои пальцы к тому же еще застыли от той езды с Габриэлем. На его мотоцикле, из Долины в Иерусалим, к ней, в больницу, в ее последнюю ночь.
* * *
Именно так, Михаэль, снова наказываю я себе, именно так нужно вспоминать: без страха, без стыда, а самое главное – с юмором, «с насмешкой на устах», как говорила Хана семерым своим сыновьям {7} перед тем, как отправляла их, одного за другим, на смерть. Моя мать, принадлежа к содружеству женщин по имени Хана, у которых есть принципы и которые всегда правы, очень симпатизировала той Хане и прославляла ее в каждый вечер Хануки.
Отец говорил:
– Снова эта история о Хане, которая убила своих детей?
Мать говорила:
– Она дала им вечную жизнь.
Отец говорил:
– В этом ты права. Уже две тысячи лет прошло, а мы всё еще говорим о ней и о ее несчастных маленьких шахидах, которые послушно делали всё, что наказывала им мать.
Мать говорила:
– Если бы все думали, как ты, еврейский народ сегодня бы уже давно не существовал.
Лицо отца говорило:
– Если весь еврейский народ был такой, как ты, может, оно и не стоило хлопот, – но голос его бормотал только: «Безумная женщина», а его глаза искали мои глаза.
Я посылал ему слабую улыбку, которой едоки мяса сигналят друг другу в затруднительном случае, и не спрашивал, какую Хану он имеет в виду.
Потому что с таким семейством, как твое, Михаэль, снова напоминаю я себе, у тебя нет выхода. Надо вспоминать с той же безоглядностью, с какой выпирает дичок посреди ухоженного сада: среди всех этих вылизанных фрезий, барвинков и георгинов, вдруг – тонкоребристый прямой бедринец, упрямый каперс, небритый куст кассии.
– Что это? – испугался мой клиент, молодой симпатичный мужчина из Тель-Авива, купивший себе дом в том пшеничном поле, которое теперь стало жилым кварталом. – Что это за палочки-колючки ты мне здесь посадил?
Его жена улыбается, а я иду к своему «форду-транзиту», приношу вилы, втыкаю и вырываю, не рассказывая ему о том, как цветет и как пахнет кассия. «Полицейский инспектор, – как говорят Йофы, – не нуждается в причине»: сад – его, вкус – его, деньги – его, а я – в моем возрасте уже нет лишних минут на объяснения, а тем более на обсуждения и споры.
Так-то, Михаэль. А в том, что касается памяти, тебе есть у кого поучиться. В семействе Йофов все помнят всё. Кто с удовольствием, а кто с болью, кто с легкостью, а кто с усилием, кто – витиеватыми буквами тысяч историй, а кто – одним сгорающим свитком. Запоминают события, заучивают семейные легенды, хранят прозвища и выражения, которые со временем становятся нашими паролями и кодами причастности. В других семьях берегут первые ботиночки младенцев и локоны их кудряшек, все эти крупицы пыли, вокруг которых планетами уплотняются воспоминания. У нас память выращивает побеги, пускает стержневые корни и, подобно некоторым вызывающим зависть растениям, сама оплодотворяет себя, производя и рассеивая по воздуху свои семена. А то, что запомнилось, уже не забудется. Если не сегодня, сразу после «любовного акта», – вспомнится завтра. Если не сейчас, после кормления, – подождет до следующей беременности. Если не будет признано как факт – вернется как догадка. А если какое воспоминание даже потеряется или будет выброшено – кто-нибудь непременно найдет вместо него другое, и замесится на нем новая выдумка (вот, уже текут, текут сладкие слюнки и полнится восторгом черепная полость!) и тоже присоединится к официальным семейным историям.
Тетя Рахель сочиняла нам всем, молодым членам Семьи, которые спали в ее кровати, немало таких историй, а я, в свою очередь, сочинял их для Ури и Айелет. Когда они были маленькими и любили слушать сказки, они делали вид, что верят мне. Но когда немного подросли, то потребовали, чтобы я перестал рассказывать им глупости. Сейчас, уже взрослые, они просят, чтобы я снова рассказывал им тогдашние мои легенды из жизни Семьи, и даже поправляют меня – Ури с традиционным йофианским ворчанием: «Нет, это было не так», а Айелет с криком: «Папа, это не так, перестань!» – если я упускаю какую-нибудь деталь или выдумываю что-либо новое.
Иногда я выхожу из обнесенной стенами крепости «Двора Йофе» и отправляюсь в Хайфу, а то и совсем за границу – в Тель-Авив, иногда я набираюсь смелости, смотрю прямо в глаза проходящей мимо женщины – она мне чужая, и я ей чужой – и говорю ей – это я, который всего раз в жизни был за границей, с Алоной в Италии: «Помнишь, Юдит, как мы встретились тогда, в Брюсселе, когда ты сошла с поезда не на той остановке?»








