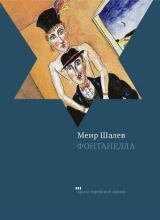
Текст книги "Фонтанелла"
Автор книги: Меир Шалев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
По окончании боевой подготовки, когда условия нашей армейской жизни улучшились, а требования к дисциплине ослабели, «команда Габриэля» не переселилась из палаток новобранцев в корпуса «стариков». Двое кибуцников привезли вигвам, заостренный и веселый, как колпак гигантского клоуна, с развевающимся на верхушке разноцветным флажком, и установили его под большим эвкалиптом возле интендантства.
На этот раз я не ревновал. Палатка Габриэля и его товарищей была открыта для меня в любое время, так же как и дружба ее жильцов, и в те ночи, когда мы не были заняты тренировками или не выходили на задания, я навещал их там, если меня приглашали на трапезы, которые они готовили в подвешенной над огнем железной кастрюле, или прислушивался из окна своей комнаты к их смеху, шутливым играм, песням и бесконечным беседам.
А однажды в субботу Габриэль привел своих товарищей во «Двор Йофе», и я получил удовольствие от реакции моих родственников. Апупа не понял того, что видели его глаза, Гирш Ландау и мой отец улыбались, Жених помрачнел еще больше, моя мать была так потрясена количеством мяса, которое ела команда, что не уловила ничего другого, а Рахель рассказала им о «Священном отряде» из города Фивы, что в древней Греции [78]78
«Священный отряд» – отборный отряд из 300 воинов древнегреческого города Фивы, состоявший из гомосексуальных любовных пар, присягнувших в верности над могилой Иолая, возничего и возлюбленного Геракла. Прославился исключительной доблестью. После ряда побед отряд целиком погиб в битве с армией македонского царя Филиппа (отца Александра Македонского) в 338 году до н. э.
[Закрыть]. Эта история так им понравилась, что, вернувшись в лагерь, они воткнули на входе в палатку табличку: «Священный отряд» – и объявили всем и каждому, что отныне и впредь их команда будет называться именно так.
Много лет прошло с тех пор, а название «Священный отряд» до сих пор сохранилось в истории части. В отличие от всех наших товарищей, которые после регулярной службы разбрелись по разным разведывательным подразделениям в резервных частях, Габриэль и его отряд свою резервную службу тоже несли в регулярных частях и даже сегодня, уже освобожденные от службы, иногда выходят к машине, ожидающей их у ворот, и исчезают на один-два дня, никто не знает, с какой целью.
О той ночи, когда все стреляли во всех и Габриэль нашел меня среди камышей и пальбы и вынес оттуда, я расскажу позже. Но ей предшествовало другое происшествие, еще более укрепившее мою любовь к нему. Я четко помню дату и место – в последний день Шестидневной войны, по дороге из Баниаса в Кунейтру [79]79
Речь идет о городах на северо-востоке Израиля. Баниас расположен у подножья Голанских высот и до 1967 года принадлежал Сирии, после Шестидневной войны был присоединен к Израилю. Кунейтра – к востоку от Голан – тоже была занята израильскими войсками, но в начале войны Судного дня (октябрь 1973 года) ее захватили сирийские войска. После разгрома Сирии в этой войне Кунейтра была покинута ее жителями и стала центром демилитаризованной зоны.
[Закрыть]. Накануне вечером мы отправили в тыл раненых, собрали пленных, опознали и укрыли лица мертвых и начали подниматься длинной колонной на восток, домой. Но, не пройдя и двух километров, колонна вдруг остановилась. Наши ребята немедленно сняли каски, распустили пояса, а некоторые даже разули ботинки и растянулись на обочине поспать. Солдаты умеют отличить, когда речь идет о короткой остановке, а когда о длинной. Габриэль сразу же погрузился в одну из своих глубоких дремот, свойственных многим недоноскам, а мы, его «Священный отряд» и его двоюродный брат, остались в своих двух джипах, испытывая некоторое беспокойство. В частях, которым по их природе положено непрерывно передвигаться, любая неожиданная остановка вызывает тревогу. Внезапно мы услышали впереди странные пугающие звуки, которые никто из нас не мог опознать. Габриэль мгновенно проснулся.
– Пошли, – сказал он мне, вскочив. – Посмотрим, что там происходит.
А своему отряду велел подобрать нас потом, когда возобновится движение.
Голова колонны застряла перед узким арочным мостом из базальтовых камней, переброшенным через скалистое ущелье. На середине моста лежала корова и громко мычала. Жалкого вида дамасская корова, намного тощее толстых коров «Двора Йофе». Задние ноги у нее были раздроблены. Похоже, она наступила на мину, положенную сирийскими солдатами при отступлении, и сейчас стонала от боли, замолкая только для того, чтобы через силу втянуть в себя воздух. Ее выпученные глаза смотрели на солдат с мольбой и мукой.
– Нет выхода, – сказал Габриэль, – надо ее пристрелить и убрать с моста.
И, повернувшись к беспомощно стоявшим водителям, стал выяснять, у кого из них есть буксировочный канат. Но пока он спрашивал, на месте происшествия появился вдруг запыхавшийся сержант одного из батальонов. То был бычьего склада человек, его начищенные ботинки поднимали за собой маленькие облачка пыли, а грузный объем тела был укрыт хорошо подогнанной, новехонькой маскировочной формой, одинаково плотно прилегавшей и к мощной груди, и к тонким ногам. На плече у него болтался новый трофейный «Калашников», девственно вороненого отлива, в то утро впервые, видимо, вынутый из ящика, с серебристым штыком на конце.
– «На случай всякого случая», – шепнул я двоюродному брату.
– «Может, придет кто-нибудь, кто любит компот», – ответил Габриэль.
Сержант не задержался ни на мгновенье. Проложив себе дорогу среди людей, столпившихся на мосту, он сорвал с плеча «Калашников», бросился на корову и воткнул штык в ее окровавленный зад.
– А ну вставай! – завопил он. – Вставай! Вали отсюда! – И принялся раз за разом втыкать свой штык в растерзанную смесь красного мяса и белых костей. – Ты нам мешаешь!
У него был тонюсенький голос, смехотворный для такого большого и опасного тела. Корова замычала еще громче и попыталась встать на передние ноги, но тут же свалилась, а сержант все продолжал танцевать над ней, то наклоняясь, то выпрямляясь и раз за разом тыча в нее штыком и вопя своим пронзительным голосом кастрата: «Убирайся сейчас же, скотина!»
Даже мы с Габриэлем, выросшие рядом с коровником, никогда не слышали такого страшного стона. Нам было знакомо нетерпеливое мычание коровы перед дойкой, мучительное мычание рожающей коровы, ее тоскливое мычание, когда у нее забирали новорожденного, тревожное мычание коровы проданной, ведомой навстречу судьбе, и те короткие глухие мычания, влажные выдохи и глубокие хрипы, которые издают коровы, видя, как умирает одна из них и ее тело уволакивают в дальний лесок, – всё это мы знали. Но мы никогда еще не слышали такого тоскливого, страшного стона, полного боли, беспомощности и бесконечного ужаса.
Солдаты, стоявшие вокруг, растерянно отворачивались, перешептываясь друг с другом и, видимо, опасаясь сержанта, форма и поведение которого свидетельствовали о тяжести его руки. А тот тем временем перебежал к голове коровы, расставил ноги, уперся руками в бока и наклонился над ней с неожиданной гибкостью. «Вставай, скотина!» – снова завопил он, и корова посмотрела на него почти закрывшимися глазами сквозь длинные ресницы, ее рот слегка раскрылся, розово-красная струйка слюны потекла меж ослабевших челюстей, и голова повалилась. Сержант снова замахнулся штыком, но на этот раз уже не опустил, потому что Габриэль бросился на него и оттолкнул в сторону с такой силой, что сержант упал.
Его бычье лицо побагровело. Тело сжалось, чтобы вскочить и кинуться. Но Габриэль прыгнул первым, ударил, выхватил из его рук «Калашников» и взвел курок. Все замерли от испуга, а сержант тоненько завизжал:
– Уберите его отсюда, он хочет меня убить, он сумасшедший!..
– Не волнуйся, – сказал Габриэль. – На такую мерзость, как ты, я пулю тратить не буду.
Подошел к корове, присел рядом с ней, осторожно похлопал по затылку, который уже знал и изогнулся, и выпустил очередь в ложбинку за ухом.
Водитель броневика подал ему конец каната, и Габриэль обвязал им ее рога.
– Двигай! – крикнул он. – Двигай давай!
Сержант, все еще сидя в пыли, крикнул:
– Дай мне свои данные, солдат! Ты слышишь?!
Но колонна уже двинулась, и появился «Священный отряд», и дальше события развернулись, как в балетном представлении: один из весельчаков Габриэля наклонился над сержантом и повязал ему на лицо большую цветную тряпку, второй нагнулся и шепнул ему на ухо: «Это для тебя лично», а третий стал перед ним, нагнулся и поцеловал его через ткань прямо в губы. А когда сержант, плюясь и ругаясь, сорвал наконец тряпку с лица, он увидел только группу хохочущих водителей, уже заводивших свои машины.
* * *
В первый день каждой недели Элиезер появлялся в школе, как луна в полнолуние, – сверкая до блеска выбритой лысиной и гладкими, чисто выбритыми щеками. В течение недели его волосы снова отрастали и лысина теряла свой блеск, но в начале следующей недели он снова появлялся – сверкающий и свежевыбритый.
Недельную церемонию бритья, которая происходила каждую субботу после обеда и всегда на «Красной площади», я видел не раз. «Красной площадью» они торжественно именовали вход в свой дом: крытую площадку размером в четыре на пять метров – а может, меньше? дом уже разрушен, а детская память всегда укрупняет реальность, – которую Элиезер назвал так потому, что гладкий бетон здесь просвечивал красным, и черепичная крыша краснела над ним, и душистый багровый индийский альмон карабкался по ее столбам. Тут Аня читала книги, тут мы пили чай с лимоном, и тут она брила своего мужа. Иногда я подсматривал за ними из-за живого забора, потому что любил и все еще люблю удовольствие от подглядывания, но обычно сидел в это время с ними и запоминал каждую деталь: он сидел в центре площади, голова выглядывает из дырки, которую Аня вырезала в середине старой простыни, стакан с выпивкой рядом. Она готовила таз с горячей водой, кружку с мылом для бритья, кисточку, два полотенца и поверх всего этого – бритву. Не бритвенный прибор с отвинчивающейся ручкой, того типа, которым бреются Йофы, а настоящую, опасную бритву – ту, которую правят на кожаном ремне и которая производит приятный шелест, когда скользит по бороде или затылку.
Ее руки ходили вокруг его головы широкими плавными движениями, то горизонтальными, как будто она чистила яблоко, то вертикальными, как чистят огурец. Она не пропускала ни густые седеющие щетинки бороды, ни редкий пушок на макушке, ни желтовато-редкие волосинки, проросшие по краям его лысины.
– Когда ты вырастешь, Михаэль, я буду брить и тебя, – сказала она вдруг, не глядя в мою сторону, чтобы я знал, что она чувствует мое присутствие, даже когда не смотрит на меня. Когда с нами был кто-нибудь третий, она всегда называла меня Михаэль, но когда мы были одни, только вдвоем, она и я, – пользовалась нашим тайным именем.
Бритва завораживала меня: своей целеустремленностью легкостью, простотой. Жених как-то сказал мне, что нож – а бритва, со всем к ней уважением, относится к семейству ножей – это первое из орудий, призванных усилить человеческую руку. Он добавил также, что увеличение силы – это вполне легитимное использование прорех в законах природы, и разделил ножи по их видам – режущий, бреющий, пронзающий, секущий, рубящий, колющий, расчленяющий, – и, пока он говорил, я расхаживал по этому маленькому полю слов, которое мне и в голову не пришло бы посеять, а тут оно вдруг выросло вокруг меня само по себе. А еще важнее, сказал Жених, что, в отличие от блоков и кранов, нож увеличивает силу за счет собирания ее в одной точке.
– Это как линза, – сказал он, – фокусирующая линза, так что всем ясно, каково намерение. Понял, Михаэль?
Он со стоном присел на край стола и вытянул вперед больную ногу тем движением, которое со времени моего армейского ранения вошло и в мой репертуар.
– В жизни нет подарков. Для всего надо работать. Только одно дано нам даром и навсегда – и это сила притяжения земного шара.
Солнечный свет приходит и уходит, ветер возникает и затихает, любовь ударяет и исчезает, морские волны набегают и откатываются, реки меняют свою мощь и свое русло – но сила притяжения «всегда здесь, и всегда неизменна, и будет всегда».
– И есть у меня мечта, – признался тогда Жених, – чтобы в один прекрасный день появился гений, не просто человек с хорошими руками, как я, а настоящий гений, который сумеет сфокусировать силу притяжения, как линза фокусирует солнечные лучи, а бритва силу руки.
– Так почему это твоя мечта, если этот гений не ты?
– Мечта в том, чтобы быть там. Стоять возле него и видеть.
Аня кончила брить мужа, положила ему на голову большое полотенце и принялась тереть, пока он не начал стонать и смеяться под мягкой тканью. Когда она снова открыла его, он выглядел мальчиком с порозовевшей кожей.
– Помнишь, Михаэль, – спросил он, – что я рассказывал вам в школе о «кости Кювье», по которой можно воссоздать целого динозавра?
– Да.
– А ты помнишь, что я дал вам написать сочинение на тему «Моя кость Кювье»?
Конечно, я помнил. Габриэль написал тогда, что его кость Кювье – это маленькое полотенце с запахом Апупы, а я написал, что моя кость Кювье – это имя «Йофе». Я не мог написать о моей настоящей кости Кювье, потому что директор школы обычно вызывал учеников прочесть свои сочинения перед всем классом, а я не хотел, чтобы знали, что у меня есть открытая фонтанелла, и тем более не хотел, чтобы знали, что жена директора школы называет меня ее именем.
– Скажи мне теперь, Михаэль, – сказал директор школы, играя бритвой жены, – какая «кость Кювье» у меня?
– У вас? – Я смутился.
– Твоя печень, – сказала ему Аня. – Твоя разрушенная алкоголем печень.
– Чего вдруг печень? Моя «кость Кювье» – это ты.
– А какая «кость Кювье» у меня? – спросила Аня.
– Он, – сказал ее муж, указывая на меня. – Придет день, и мы оба умрем, сначала я, а потом ты, Аня. Я исчезну насовсем, но тебя смогут воссоздать из этого мальчика.
Через несколько дней после того, как их изгнали из поселка, ко мне подошел один из Шустеров, с которым Элиезер часто играл в шахматы, вручил мне его бритву и сказал:
– Он просил меня передать тебе это в подарок. И из прорези бритвы выпала маленькая записка:
«Фонтанелла, ты большой молоток, прими это, от ее мужа, с симпатией».
* * *
Как-то вечером в нашем дворе появился Джордж Стефенсон, пошептался с Ароном и тут же уехал. Жених пошептался с Амумой, и та подошла к кровати мужа, разбудила его и велела ему взять ее на спину.
– Куда? – Горло и сердце его затрепетали, одно сжимаясь от любви, другое расширяясь от надежды.
– Батия в Вальдхайме, – сказала она, – я хочу увидеть ее в последний раз.
– Батия умерла.
– Она не умерла, Давид, – сказала Амума. – Она жива, и этой ночью англичане вывезут их в хайфский порт. Если ты не отвезешь меня туда, я пойду сама.
Апупа встал, оделся, вышел на веранду, надел башмаки и затянул шнурки, спустился по четырем ступенькам, стал к ней спиной и сказал, как тогда:
– На меня, на меня.
Она взобралась, как тогда, ему на спину, и обняла, как тогда, его шею, но, несмотря на все «как тогда», показалась ему тяжелее, чем он помнил, и груди ее тоже были тяжелы и мертвы на его коже. Сердце его наполнилось печалью. Оба они были еще слишком молоды, чтобы обвинять в этом старость. Апупа ждал взмаха ее руки, чтобы указала ему дорогу, но рука не поднялась. Он спустился через поля, чтобы их не увидели в деревне, пересек шоссе недалеко от поста английской полиции, обогнул невысокий скалистый отрог вблизи того места, где тогда стояла палатка Наифы и ее мужа, и перешел ущелье, на склоне которого годы назад встретил обоз телег, груженных камнями.
– Надо было мне тогда поубивать их всех, – проворчал он, ожидая, что Амума вдруг скажет: «Ты помнишь, Юдит…» – или: «Ты помнишь, Давид…» – а может быть, даже потреплет его по волосам. Но Амума молчала. Она не уснула, он чувствовал это, потому что голова ее не опустилась ему на плечо и ее дыхание не было сонным. Она просто молчала, настороженная, тяжелая, чужая.
Он свернул с мощеной дороги, поднимавшейся к Вальдхайму с юга, потому что там дорогу преграждали шлагбаум и часовой, и прошел широким полукругом через дубовую рощу, что на холмах к западу от поселка. Его уверенные шаги возбудили у Амумы подозрение, что он не первый раз пробирается в Вальдхайм ночью. А он тем временем свернул с тропы и поднялся по склону, покрытому анемонами, такими красными, что они были видны и в темноте, и спустился по маленькому темному оврагу, такому темному, что лишь укол в плечо, который почувствовала Амума, сказал ей, что они идут среди кактусов.
Батия ждала их за проволочной оградой, в том месте, где договорились Жених с немецким кузнецом. Амума спустилась со спины Апупы и стала перед дочерью. Обняться они не могли, но протянули руки сквозь мотки проволоки и сплели пальцы.
Амума сказала:
– Останься, Батинька, оставь его и останься. Англичане позволят тебе остаться.
– Я его жена, – сказала Батия, – «в радости и в горе».
– Отец разорвет проволоку, ты перелезешь, мы пойдем домой.
Батия глянула на спину отца, не повернувшегося к ней.
– Я не брошу его, – сказала она.
Траурная борода Апупы белела в темноте. Его плечи двигались. Может быть, тряслись? Женщины замолчали на мгновенье, ожидая, не обернется ли.
– Ты не одна из них, – сказала Амума.
– Я одна из него, – сказала Батия.
Спустя многие годы я слышал, как моя мать говорила моему отцу эти слова: «Ты бы мог быть одним из нас, Мордехай» – и его мгновенный укус: «Мне достаточно быть одним из тебя». Я подумал тогда: какими красивыми и любящими были эти слова, когда их сказала Юбер-аллес, и какими ядовитыми они выходят сейчас изо рта у отца.
– Они отравят тебе всю жизнь, – сказала Амума. – Они отыграются на тебе за изгнание.
– Иоганн не позволит.
Амума, хороню знакомая с упрямством как мужа, так и дочери, протянула ей маленький сверток, который принесла с собой, – свидетельство того, что она заранее предвидела результаты разговора.
– Пусть будет у тебя там, – сказала она.
– Что это? – спросила Батия.
– Твой балахон, – сказала Амума, со слезами в горле. – Чтобы у тебя было что-нибудь красивое надеть в изгнании. Попрощайся с отцом.
– Он на меня не смотрит, – сказала Батия. – Для него я умерла.
– Попрощайся с ней, – Амума обошла мужа и встала перед ним, – она уезжает из-за тебя.
Апупа, весь окаменевший, даже не шевельнулся. Быть может, он боялся, что малейшее его движение повлечет за собой крик или какой-нибудь страшный поступок, которого он и сам не может представить себе заранее. Амума вернулась к ограде и снова просунула руку сквозь витки проволоки. Батия схватила руку матери обеими руками. Схватила, прижала и отпустила.
– Прощай, мама, – отступила она назад и исчезла во тьме.
Апупа нагнулся, скорее рухнув, чем наклонившись, а Амума, вместо того, чтобы подняться ему на спину, начала бить его сжатыми кулаками. Но он по-прежнему не двигался, и она сдалась, и снова взобралась на него, и всю дорогу глухо плакала, и не произнесла ни слова.
Два часа спустя, незадолго до восхода солнца, прибыла транспортная колонна британской армии в сопровождении двух танкеток «брен-карьер» и подразделения «анемонов» [80]80
«Брен-карьер» – легкие гусеничные машины универсального назначения, широко использовавшиеся армиями союзников во время Второй мировой войны. «Анемоны» – так прозвали в Палестине солдат специального британского десантного батальона за их красные береты.
[Закрыть], немцы Вальдхайма и Бейт-Лехема, в своей лучшей одежде и с чемоданами, по одному на человека, послушно поднялись на грузовики, и колонии изгнанников двинулась в хайфский порт.
Во «Дворе Йофе», на расстоянии нескольких километров оттуда, Жених получил сообщение, которого напряженно ждал. Рахель, Хана и Пнина тоже уже ждали, готовые и одетые. Не теряя ни минуты, они втиснулись в «пауэр-вагон», и Жених сказал, что сократит путь, пройдя по старой тамплиерской тропе.
– Что с мамой? – встревожились сестры. – Почему ты не берешь ее с собой?
– Она уже попрощалась.
Пошел дождь, освещенный серо-желтыми оттенками восхода. Громоздкую машину то и дело заносило на обочины, поросшие белыми и синими анемонами и лиловыми багряниками. Жених тяжело дышал и потел за рулем, его сердце и руки не могли найти покоя – то ли ехать быстро, чтобы не застрять, то ли не слишком быстро, чтобы не потерять управление. Но, добравшись наконец до главной дороги, они увидели, что действительно догнали колонну. «Пауэр-вагон» тяжело выбрался на шоссе, расшвыривая за собой комки налипшей на шины грязи, и стал сближаться с последними грузовиками. Английские конвоиры просигналили ему, требуя сохранять дистанцию, но Хана, Рахель и Пнина уже выпрыгнули из машины и побежали за колонной, громко окликая: «Батия!.. Батия!.. Батинька!..»
Золотисто-каштановая голова с отросшими волосами выглянула из-под брезентового полотнища, и в страшных криках сестер послышались слезы:
– Батия, останься… не уезжай!..
– Убирайтесь отсюда, немедленно! – кричали конвоиры.
– Не уезжай, Батия… не уезжай!..
– Сейчас же убирайтесь домой, сумасшедшие!
– Не уезжай с ними!.. Прыгай!.. Не уезжай!..
Батия тоже кричала и плакала, но с грузовика так и не спрыгнула. У Пнины и Рахели уже не хватило сил бежать, и они упали в грязь. Хана пробежала еще несколько десятков метров, но и она отстала, потому что один из англичан выпустил в воздух очередь и крикнул ей, чтобы не смела приближаться. Мы не раз потом слышали эту историю и от нее. Сожаление, прощание, расставание с сестрой – всё это замутило ей память. Что осталось, так это слово «изгнание», да еще ее победа над Пниной и Рахелью, которые «из-за их неправильного питания» утомились после короткого бега, тогда как она, благодаря вегетарианству, могла бы даже обогнать эти грузовики, еще до Хайфы, если бы английские солдаты ей не помешали.
– Хорошо, что доктор Джексон не явился попрощаться с твоей сестрой, – сказал отец. – Он бы, безусловно, вплавь обогнал английские корабли, еще до того, как они прибыли в Австралию.
Юбер-аллес перегнулась через борт грузовика. Ее удаляющийся взгляд исчезал вместе с затихающим криком:
– Не сердитесь на меня… Не забывайте… До свиданья…
Золотисто-каштановая голова скрылась за брезентом. Колонна всё удалялась и вскоре совсем растаяла за поворотом и в тумане. Жених подогнал «пауэр-вагон» к трем лежавшим на земле сестрам.
– Нужно возвращаться, – сказал он. – Дождь усиливается, будет очень плохо, если мы застрянем.
А в то же самое время – дождь все усиливался, и колонна все удалялась, и Апупа неистовствовал на сеновале, расшвыривая вокруг сено, разрывая веревки и круша доски, и Амума уже поняла, что чувствует человек, который умер, – в те же ранние утренние часы все крестьяне Долины вышли грабить дома изгнанных немцев. Они прогнали сторожей, взломали дома и коровники, расхватали телеги и плуги, повели за собой лошадей и коров, повезли упряжь и мебель, рабочие инструменты и посуду.
Когда Апупа наконец успокоился, он услышал необычные звуки, доносившиеся из-за стен Двора. Открыв ворота, он увидел, что это Шустеры возвращаются к себе домой, ведя телегу, нагруженную всевозможной добычей, с привязанными сзади четырьмя дородными немецкими коровами.
Шимшон Шустер крикнул:
– Видис, Йофе, сто мы забрали у твоих насистских родственников: пианину, сифоньер, свейную масину, коров и посуду.
Апупа затрясся. Звуки этого пианино, что стояло сейчас на Шустеровой телеге, не раз доносились до него в те ночи, когда он стоял во тьме возле дома Рейнгардтов, надеясь услышать голос дочери или хотя бы увидеть ее тень. Ни секунды не медля, он отвязал свою лошадь и как был, без узды и седла, направляя ее одними коленями да похлопыванием по затылку, поскакал обратно в Вальдхайм.
На улицах поселка грабители были заняты хлопотливой загрузкой телег, взаимными ссорами и спором с упрямыми немецкими коровами, которые не хотели понимать указаний на иврите и пренебрегали приказами на идише и на арабском. Апупу позвали, крикнули, что хватит на всех, но он даже не оглянулся и проскакал напрямую к усадьбе Рейнгардтов. Все его тело дрожало. У него вдруг возникла странная мысль, что его дочь не ушла в изгнание со своим Гитлерюгендом, а в последний момент все-таки передумала, сбежала, и спряталась, и теперь вот-вот выйдет к нему из какого-нибудь подвала, и он уже видел в мыслях, как он обнимает и прощает и как его дочь, обнятая и прощенная, возвращается к своей семье и к своему народу, и сердце его наполнялось тем волнением, которое у людей с куриными мозгами леденит позвоночник.
Двое парней и женщина копались там на складе. Один из них загородил ему дорогу:
– Это наше! Поищи себе в другом месте!
Апупа отбросил его в сторону и ударил кулаком его товарища. Все трое тут же исчезли, и больше он ни на кого не обращал внимания, только бродил по безмолвным комнатам, протискивался в кладовки, спускался в подвалы, взбирался на чердаки, осмотрел все места, где дочь может прятаться от отца, и звал ее, стиснув зубы, чтобы другие не знали, что он готов простить.
Но Юбер-аллес, которая упрямо отказывалась участвовать в галлюцинациях своего отца, никак не появлялась, и Апупа, наливаясь яростью, стал бить тарелки, из которых она только вчера ела, и рвать одеяла, только вчера ее укрывавшие. Он ломал двери, которые она только вчера открывала, крушил зеркала, только вчера ее отражавшие и так страшно опустевшие теперь.
Он начал копаться в одежных шкафах и вдруг – за миг до сознания – понял всё своим остановившимся сердцем. В одном из шкафов открылась его глазам та «одна рубашка на теле», что была на ней в тот день, когда она бежала из дому. Не воспоминание, не предвидение, не надежда, не что-нибудь из всего того, чем Йофы привыкли облегчать себе примирение с реальностью, а вот эта «одна рубашка на теле», висящая вместе с еще несколькими платьями, которые – так сказали ему их длина, и запах, и талия, и фасон – тоже принадлежали ей все до единого.
Ноги его подкосились. Он зарыл лицо в ткань и вдохнул всем телом. Помни меня, укрепи меня, только один этот раз, шептало ему ее сердце. И, стоя на коленях, он раскинул руки на всю ширину шкафа, а потом сблизил их друг с другом, сгребая в охапку все висевшие там платья. Потом выпрямился, стиснул их все в талии и так, одной рукой держась за гриву лошади, в другой сжимая добычу, поскакал домой.
Так получилось, что все крестьяне деревни приобрели себе новые телеги и плуги, а также коров, которые были, правда, антисемитками, но не утратили от этого дойность и плодовитость, а мы приобрели кучу старых платьев. И еще годы спустя говорили в деревне, что это было началом распада семейства Йофе, потому что крестьянин, который берет платья вместо лошадей и предпочитает воспоминания плугам, – такой крестьянин обречен.
Вернувшись домой, он показал Амуме свою добычу. Она не сказала ничего, но поняла то, чего не понял ее муж, – свою «рубашку на теле» их Юбер-аллес оставила из мести. С того дня Амума начала надевать платья своей дочери, одно за другим. В первый день куриные мозги Апупы наполнились радостью и волнением, на второй день он начал немного понимать, а через неделю уже почувствовал муки своей сожженной кожи. Он понял, что уже никогда не будет знать покоя. Но он не знал еще, что ждет его впереди.
* * *
И в те же дни, когда Батии уже не стало, а Пнина раз за разом откладывала свадьбу с Ароном «еще на несколько дней», и Рахель то и дело ездила в Тель-Авив, к Хане Йофе заявился гость по имени Мордехай Йофе – человек, которому предстояло стать моим отцом. То был молодой парень, за несколько дней до того поселившийся в деревне, – худой, бледный, еще не вполне оправившийся после тяжелого ранения. Но у него была приятная улыбка, радовавшая всех, кто ее видел, а его инвалидность многим щемила сердце. Есть что-то такое в безрукости, сказала мне как-то Алона – она никогда не видела моего отца, но я не раз замечал, как она рассматривает семейные фотографии, – что воспринимается тяжелее, чем отсутствие ноги или слепота глаза, потому что не знаешь, что печальней: отсутствие этой руки или одиночество ее подруги. «Это как ампутированная грудь», – заключила она.
Так или так, но Мордехай Йофе поселился в пристройке во дворе одной деревенской семьи, и все начали высказывать на его счет всевозможные догадки и рассказывать о нем всевозможные истории.
Выдвигались самые разные предположения касательно тех обстоятельств, при которых он потерял руку, тех мест, где он родился, богатства или бедности его родителей, но главное – относительно женщин, что были у него в прошлом.
Оно и не удивительно. У отца была такая особенность, что любая одежда казалась будто специально для него сшитой, и шаг у него был легкий и спокойный – шаг человека, который, несмотря на всё, простил своему телу. Женщинам хотелось утешить его и расспросить о пережитых страданиях, дети улыбались ему, а что касается мужчин, то некоторые напрягались, но другие ощущали радость, потому что в их глазах он был посредником, который выходил от их имени на любовные сражения. Он отличался неким особым чувством юмора, и уже тогда, добавляла Рахель, у него был странный взгляд, в котором еще сохранялась прежняя веселость, но уже «подернутая печалью предстоящей разлуки». Все полагали, что он печалится из-за потерянной руки, но на самом деле он вспоминал не свою руку, а любовь, которая была у него когда-то и ушла. То была замужняя молодая женщина, оставившая его после того, как ее муж погиб на фронте.
– Свою пристройку он убрал, как девушка, – повесил вышитые занавески, поставил цветы в вазе и разложил книги стихов.
Вскоре он узнал, что окруженный стенами двор на вершине холма называют «Двор Йофе», по его собственной фамилии. Из любопытства он поднялся туда, нашел ворота закрытыми, постучал и не получил ответа, обошел кругом и увидел высокую и угловатую девушку в огромной соломенной шляпе, которая трудилась в огороде.
– Ты из семьи Йофе? – спросил он.
– А кто это спрашивает?
– Я тоже Йофе. Может, мы родственники?
Хана выпрямилась, сняла соломенную шляпу, оперлась на ручку тяпки со щегольством, неожиданность которого гость даже не мог себе представить, и спросила наглеца, что такое «квас» и что такое «холо-калё».
Мордехай ответил, что первое напоминает ему что-то из Шолом-Алейхема, а второе что-то из «Одиссеи», и Хана, которая не читала ни одной книги, кроме «Всегда здоров» доктора Джексона, вернула шляпу на ее прежнее место и постановила, что, судя по его ответам, он им не родственник.
Мордехай сказал: «Нет, так нет», – и начал полоть с ней между грядок. Только тут она заметила, что у него не хватает одной руки, и смутилась.
Так же ли и ей не хватает его сегодня, как мне? Не знаю. Никогда не спрашивал ее об этом. Но я – уже пятидесяти пяти лет от роду и потерявший отца больше тридцати лет назад, – тоскую по нему по-прежнему, и моя любовь к нему только возрастает. Больше, чем любого другого из знакомых мне людей, его было радостно, даже легко любить. На него приятно было смотреть, к нему приятно было прикасаться, его приятно было слушать, и даже сегодня, когда он мертв, его всё еще приятно вспоминать и о нем легко тосковать. Он умел рассказывать истории, он знал, когда меня обнять, а когда оставить в покое, и, хотя он не был красив, женщины любили его совсем как я: с благодарностью, с радостью, с волнением и с легким предчувствием каждодневной неожиданности.
От него всегда исходил, стелясь перед ним, добрый запах цитрусовой корки. В детстве это меня не удивляло. Как от дедушки исходил запах поля – можно было спрятать лицо на его груди и сказать, какое время года, – а от Жениха запах металла, и карбида, и машинного масла, а от Рахели запах пуха и акций, так было естественно, что от консультанта по выращиванию цитрусовых должно пахнуть лимоном и апельсином. И лишь годы спустя мне открылась правда: отец любил давить и мять в пальцах цитрусовые корки и даже тереть ими лицо и волосы, чтобы их аромат перекрыл те запахи любви, что оседали на нем во время его визитов к «цацкам». Я понял, улыбнулся, и, поскольку нас с ним донимала одна и та же женщина – которую судьба назначила мне в матери, а ему в жены, – и я тоже изменял ей, и тоже научился заметать свои следы, – я его простил.








