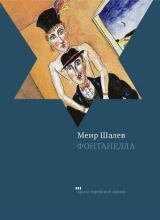
Текст книги "Фонтанелла"
Автор книги: Меир Шалев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Обнаружив, что сарай взломан и пуст, Амума бросилась к дочерям и сообщила им, что их сестра «убежала в одной рубашке» и «надо присмотреть за отцом, чтобы он не наделал глупостей». Она боялась, что Апупа бросится в Вальдхайм и сгоряча поубивает там всех, но Батия знала своего отца лучше, чем Амума – своего мужа. Давид Йофе объявил всему большому семейству Йофе, что его дочь умерла, и попросил распространить это сообщение. Он даже спустился для этого в деревню и прикрепил траурное объявление на доске у супермаркета, и, хотя никогда не был религиозным и не выполнял ни одной заповеди, на этот раз отрастил траурную бороду, которая удивила всех не только самим ее появлением и скоростью роста, но также своим цветом: ему еще не было пятидесяти, и сил он еще не растратил, у него были крепкие зубы и каштановые, как в молодости, волосы на голове, а борода выросла белая, как снег, и это был первый признак всего предстоявшего.
Побег Батии был начальным в череде других скандальных происшествий, и вскоре Апупа оказался в эпицентре бури, которая может выпасть только на долю отца таких дочерей, как у него: через несколько дней после побега сестры Пнина сообщила, что хочет отложить «на несколько дней» свою свадьбу с Ароном, а будучи спрошена, сколько составляют эти ее «несколько дней», сказала: «Начнем, а там увидим». А Рахель, младшая из сестер, вернулась из очередной поездки к Заднице и с той же своей постоянной кабачково-серьезной наивностью, но более упоенным голосом – тем, который, как тут же определила Амума, рвется изо рта, отведавшего первый поцелуй, – объявила: «У меня есть парень».
И поскольку она произнесла эти слова серьезно и поскольку побег Батии и поведение Пнины и без того достаточно накалили страсти, Амума не выдержала и закричала: «Что значит парень? Что, у него нет имени?» – а потом: «Достаточно у нас неприятностей и без этого твоего парня!» – и голос ее был полон гнева, отчаяния и слез:
– Почему в этой безумной семье всё должно случаться одновременно? Ну почему? Ты что, не можешь подождать?..
Что осталось сегодня от этого анекдота? Осталась страшная горечь, из которой родилась ненависть Амумы к мужу и ее отчуждение от него, что еще более углубило его боль и укрепило его упрямство, и остались тоска, и изгнание, и разлука, и осталась белая борода, так и не сбритая с того самого времени. По сей день в нашей семье спорят, что горше – судьба Пнины, что живет взаперти, или Батии, что живет вдали, или их родителей, которые уже никогда больше не спали в одной постели.
– Меня, конечно, забыли, – сказала Рахель. – То, что мой Парень вскоре погиб, это им не важно. То, что происходит с кабачком, это не важно и не страшно.
Амума повторяла свое «убежала в одной рубашке», а Апупа отсидел семь дней траура на полу и всем Йофам, приезжавшим его успокоить, сообщал, что не примет «ее» обратно, даже если она приползет на четвереньках.
Тридцать дней растил он свою белую бороду, а когда пошел в «свой угол», чтобы ее сбрить, послышался крик, который до сих пор звучит в наших воспоминаниях и рассказах: «У меня ушло отражение!»
– Мое отражение пропало! – кричал он. – У меня исчезло лицо! Посмотрите в зеркало – видно только белое!
Хана, Пнина и Рахель поспешили в угол. Они отодвинули циновки, прикрывавшие душ, и Апупа открылся им в своей могучей наготе, с покрытым пеной лицом, стоящий против жестяного зеркала, подвешенного к стенке шкафа.
– Но вот же ты, папа, – сказала Рахель, – вот ты в зеркале. Белое – это пена и борода. Вот твои глаза и вот нос.
– Я ничего не вижу! – И Апупа сел, внезапно почувствовав ужасную слабость. – Это только вы видите.
И объявил, что сейчас, потеряв дочь, отражение и любовь жены, он остался совсем один.
– Перестань говорить глупости, папа, – сказала Хана. – Ты не один. Мы с Пниной здесь с тобой.
Апупа погладил ее по голове, сполоснул лицо, вытерся, оделся и несколькими ударами кулака сломал «свой угол».
И последующие годы оба они, и он, и Амума, уплатили сполна, полновесной ценой любви, здоровья и мести. Она свалилась под двойным ударом побега Батии и несчастья Пнины, которое уже подстерегало за воротами Двора, а главное – под стонущим бременем собственной ненависти. А он – его сердце стало таким жестким от горечи и таким тяжелым от раскаяния, что втянуло в себя все его тело и тепло души и в конце концов сделало его таким, как он выглядит сегодня: холодный, как труп, тяжелый, как свинец, маленький, как младенец. А две другие дочери – что ж: Хана все больше замыкалась в своем огороде, а Рахель – в своей любви. Она не замечала растущего отчуждения Амумы, потому что с появлением Парня, так она мне сказала, разом проросли все семена, ожидавшие в ее теле: вся ее привлекательность, ум, страсть и любовь.
– Твоя мать назвала меня «кабачок»? Ну, вот, пожалуйста, кабачок расцвел, – рассмеялась она.
«Одиннадцать лет назад я подарила букет Черниховскому, – писала она Заднице, – а сейчас получила от него в подарок твоего брата».
Брат и сестра приехали навестить нас, и, поскольку Рахель снова иредстави ла его как «моего Парня», нам так и осталось неизвестным его имя. Вначале мы называли его «Парень Рахели», а потом просто «Парень», с большой буквы, а он со своей стороны удивил всех в конце трапезы тем, что, когда ему предложили на сладкое пудинг, сказал: «Но я люблю компот».
* * *
Ночью неожиданно прошел первый летний дождь. Алона, лежит, по своему обыкновению, на спине, широко раскинув ноги, дышит тихо и глубоко, со спокойствием хозяйки мира, и говорит:
– Хорошо, что ты их не посеял. Сейчас бы они сгнили.
– Кто?
– Семена тех анемонов, что ты насобирал.
– А те, что посеялись естественным путем, на природе? – спрашиваю я ее. – Разве они не гниют сейчас в земле?
– У природы свои цели, и свой ритм, и свое время, – говорит она. – А мы, люди, спешим увидеть результаты. Хотим увидеть что-то раньше, чем умрем.
Неужели ей удалось взломать мой код? И когда я молчу, она добавляет:
– Что природа? Ты живешь сейчас на природе? На природе сейчас идет дождь, все животные мокнут до костей, а ты здесь со мной, под неестественным одеялом, под неестественной крышей над головой.
Я подымаюсь и гляжу в окно. Платье из капель серебрится под фонарем, и две фигуры, одна белая, одна темная, медленно бредут по двору. Это Пнина и Арон возвращаются со своей ночной прогулки, наполняя мне сердце грустью. Пнина красива, как в дни своей юности, но ее походка – походка женщины ее возраста.
– Куда ты идешь? – спрашивает Алона.
Я не отвечаю ей. В кухне я потихоньку капаю несколько капель оливкового масла на ломоть хлеба, намазываю творог, посыпаю грубой солью и откусываю очищенный зубчик чеснока. Так я подкрепляюсь. И потом, подкрепившийся, возвращаюсь к Алоне и растягиваюсь возле нее.
– Ты ел чеснок…
– Да.
И сразу пытаюсь спасти положение с помощью цитаты: «В общем, я понимаю, что насчет перепихнуться нечего и думать, так?»
Грубые слова неприятны мне, но эта фраза – концовка очень любимого Алоной анекдота, а «перепихнуться» предпочтительнее «любовного акта». Но она, вместо того, чтобы улыбнуться, вдруг сердится:
– Ты всё испортил. Надо было думать об этом раньше. Теперь от тебя воняет, как от грузчика на рынке.
И вот я воняю себе в одиночку в неестественной кровати под неестественной крышей, и рядом со мной неестественная женщина, укрытая одеялом, которое естественным образом принадлежит гусям, а не мне, думаю о смерти Ани и узнаю капли: ту, что ударяется по черепице, ту, что барабанит по жести, ту, что падает на землю, ту, что слышна лишь моей фонтанелле, так ощутимо, что моя голова инстинктивно отдергивается, и ту, что опускается на сухой лист, и ту, что ударяет по мокрому листу, и ту, что падает с полновесным и глухим «плюхом» прямо в лужу, и ту, что течет по Жениховым трубам для сбора и заготовки, которые он проложил здесь несколько лет назад. Привез во «Двор Йофе» экскаватор, выкопал большой колодец возле западной стены, обложил его стены толстыми полиэтиленовыми листами, которые сварил друг с другом одной из своих древних горелок, и установил систему водостоков и труб, которая собирает и проводит к нему каждую каплю дождя, падающую с крыши нашего дома. Точно такой же огромный колодец, как тот, из нержавеющей стали, бак для горючего, что закопан в другом углу двора. Почему из нержавеющей стали? Потому что раньше это была использованная цистерна молоковоза, которую дедушка приобрел, чтобы ему не нужно было идти каждое утро на деревенскую молочную ферму и видеть там Шустеров. Он поставил эту цистерну на колеса во дворе, и Жених построил для нее систему охлаждения, а когда Рахель подсчитала, что никакой надой не окупит Апупе эти капиталовложения, он сказал ей, что готов что угодно уплатить за то, чтобы сразу же с утра не видеть Шустеров.
После того как Амума умерла, а Апупа лишился сил и Рахель ликвидировала коровник и продала коров, Жених отмыл цистерну, закопал ее в землю во дворе, и она стала баком горючего для аварийного положения, и теперь у нас есть резервуары с запасом бензина, запасом воды и запасом газа, а также большой дизельный генератор, который Арон тоже давно уже привез и установил, и система подземных туннелей и укрытий, которые он роет сейчас, – и все они ждут своего часа, потому что кто знает, что будет завтра и на кого можно будет положиться, но уж безусловно не на это правительство, а уж на этот народ и подавно, и очень скоро, говорит Жених в тысячный раз – а мы, в тысячный раз, смеемся и продолжаем вместе с ним, – «здесь произойдет ужасное несчастье», и тогда – подымает он черный палец, а мы все кудахчем следом за ним, – и тогда «вы все еще скажете мне спасибо».
Вокруг – маленький и красивый городок, весь из плиток и асфальта, и падающий на него дождь – не что иное, как один сплошной, стелющийся шорох. А здесь, во «Дворе Йофе», как и «в те времена», царят порядок и раздельность: каждая капля докладывает, куда и на что она упала. И иногда я выхожу наружу, на дождь, и стою и жду, пока такая капля упадет на мою фонтанеллу. Тогда я слышу слабый гром, за которым следует молния, в обратном обычному порядке и притом не электрическая, а болевая. И тогда, если ветер не слишком шумит, мне удается услышать и более далекие капли, чем эти, – капли, которые падают в другом времени и в других местах: на мягкость диких цветов в саду, на миртовый забор вокруг ее дома, и те, что падают на ее свежую могилу в Иерусалиме, и те, что падают на каменный памятник летчику – когда-то он был в центре поля, а сегодня прячется в тени кипариса на самой окраине шикарного квартала вилл нашего маленького городка.
* * *
Подобно рабочим пчелам в улье, Йофы освободили Арона от всех работ и забот, чтобы он мог заниматься изобретательством. А Жених, со своей стороны, не отдыхал и не покладал рук: размышлял и чертил, планировал и проверял и благодарил Бога и своих родителей за то, что дали ему такого замечательного тестя, который снял с него все заботы, связанные с ведением дел и счетов.
В конце недели траура по Батии Жених починил пролом, который она сделала в стене сарая, и вернулся к своей работе. Послюнив кончик своего карандаша, он вообразил, а затем изобразил образцы новых, усовершенствованных плугов, кранов, клапанов и инкубаторов. Придумал новые всасывающие насосы, новые нагнетательные насосы, новые безопасные брудеры [75]75
Брудер – устройство для обогревания выведенных в инкубаторе птенцов домашних птиц.
[Закрыть]для цыплят и еще одну, совсем маленькую металлическую вещицу, поглядев на которую никто не мог бы сказать, что это такое и зачем оно нужно, но которое на самом деле было прототипом первой в мире конической передачи.
Иногда он отправлялся, как он это называл, в «посещения на дому». Водительских прав у него еще не было, но «трафик» британской полиции подстерегал нарушителей только на шоссе, а его «пауэр-вагон» хорошо проходил и по грунтовым дорогам в полях. Арон даже изобрел себе простое устройство для самовыручки – этакий широкий ремень, что наматывался на завязшие в грязи колеса. Годы спустя мы с Габриэлем взяли его с собой в армию, где эта новинка произвела сильное впечатление.
Эти его «посещения на дому» родились, понятно, из нужды в деньгах, но еще более – из его убеждения, что правильный путь к изобретению начинается не с идеи, а с потребности. Даже суповой примус для Апупы он изобрел лишь после того, как услышал, как Амума кричит на мужа:
– Так встань из-за стола и ешь свой суп прямо из кастрюли на плите!
И поэтому каждый раз, когда его звали что-нибудь починить в том или ином доме или хозяйстве, он расспрашивал крестьянина о расписании его работы, о распорядке и потребностях его самого и его жены. Так он выяснял, что людям нужно, в чем их проблемы, чего им не хватает, – и только тогда садился за стол, чтобы подумать и придумать.
Сообщение Пнины о желании отложить свадьбу его совсем не обеспокоило. Напротив – отсрочка даст ему еще немного времени для изобретений, и он сможет заработать еще немного денег, чтобы стать более достойным женихом для своей невесты. Именно тогда родилось у него целое семейство устройств поджигания для самых разных целей – в печах пекарен, в полевых кухнях и в горелках для уничтожения вредителей в птичниках, – основанных на знаниях, которые он приобрел в мастерских британской армии, когда доводил там до ума свой походный примус для супа.
Не прошло и нескольких недель, как «Двор Йофе» посетили двое людей из Хаганы, и с этого времени Арон начал проектировать также глушители, осколочные мины и взрыватели замедленного действия. Но кульминацией его тогдашнего творчества стал новый гидравлический резак, который он изобрел несколько лет спустя, уже будучи женат на Пнине: этот резак работал на таком малом количестве гидравлической жидкости, что она умещалась в его полой ручке, а для приведения его в действие достаточно было маленького поршня и «такой простой передачи, – усмехался он, – что, когда она получит известность, даже пятилетняя девочка сможет резать железные прутья одним нажимом своей маленькой руки и многие другие изобретатели будут рвать на себе волосы». А если к нему приставали с вопросом, когда же мы наконец удостоимся увидеть этот резак, он заявлял, что опытный образец у него уже готов и работает, но, чтобы запустить его в массовое производство, необходимы материалы более высокого качества, чем ныне существующие, иначе челюсти резака не выдержат огромную силу давления.
Кто никогда не приставал к нему, так это тетя Рахель, которая, напротив, принялась широко распространять слухи о новом приборе, стараясь придать им аромат доверительности, и начала тайком продавать будущие права на этот резак, причем в каждый договор не забывала записать оговорку насчет «достаточно прочного металла». Так постепенно у нас сложилась небольшая ежегодная церемония, существующая и по сей день: ворота «Двора Йофе» открываются, в них медленно втягивается вереница шикарных лимузинов и Габриэль, оценив каждую из них насмешливым взглядом, указывает затем на дряхлый «пауэр-вагон» и спрашивает наше: «А чего не хватает Ханеле?» – и потом все эти адвокаты, металлурги, техники и инженеры пробираются между старыми плугами и телегами, уклоняются от нападений гусей, оставшихся у нас с тех дней, когда Апупа кормил Габриэля белками из гигантских яиц, и Жених берет образцы привезенного ими металла, уносит для проверки в свою мастерскую, появляется снова и говорит: «В следующий раз попрошу лимон», а Рахель объясняет: «Металл недостаточно прочный».
– Нельзя ли узнать, что это ты там проверяешь? – злобно поинтересовался однажды кто-то из специалистов.
– Я проверяю, достаточно ли он прочен.
– А нельзя ли узнать, как именно ты это проверяешь?
– У меня есть метод.
И вот так он по сей день продолжает размышлять над этим своим резаком и возможностями его улучшения – точно так же, как он бесконечно продолжал размышлять над способом заточки лезвия до толщины всего в одну молекулу, который нашел лишь недавно, и как Пнина бесконечно продолжала откладывать дату их свадьбы.
А раз в неделю, в среду после обеда, он садился в свой «пауэр-вагон» и ехал через поля в Вальдхайм. Там он сидел в бир-штубе, потягивал пиво с немецким кузнецом и его рабочими, рассказывал истории о кузнечных мехах, судачил о токарных станках, учился и учил новым вещам. И уже в конце траурной недели по Батии позвал его Апупа к себе для беседы.
– Когда ты поедешь к своему немецкому кузнецу, – сказал он (новая белая борода придавала его лицу неожиданную разумность), – поинтересуйся, что там происходит с девочкой. – И сразу же добавил: – И не говори никому ни слова, особенно ее матери.
А Амума, которая тоже знала, что Арон по-прежнему ездит в Вальдхайм, начала с тех же слов: «Когда ты поедешь к своему немецкому кузнецу… – но потом продолжила: —… Возьми кое-что для девочки».
И сразу же добавила:
– И не говори никому ни слова, особенно ее отцу.
В течение нескольких недель Жених докладывал Амуме и Апупе, порознь и по секрету, об их дочери, рассказывал каждому из них по мере своих способностей и по мере их потребности и был достаточно умен, чтобы понимать, что они не будут сравнивать сказанное одному со сказанным другой, а затаят, каждый и каждая, в своем сердце. Но потом, пока Амума советовалась с ним, как ей организовать тайный визит, который она задумала, Юбер-аллес и ее Гитлерюгенд сорвались с места и исчезли.
По наказу Апупы и по просьбе Амумы Арон принялся разыскивать их следы, расспрашивая о них всех знакомых немецких кузнецов, рабочих, подмастерьев и барменов. Все они, как один, сказали, что парочка сбежала из-за вдовы Рейнгардт, которая непрерывно оплакивала своего связавшегося с еврейкой сына и двух погибших от руки еврея псов. Но в отношении местонахождения Иоганна и Юбер-аллес мнения разделялись: были такие, что видели их в Вильгельме, тогда как другие заметили их в Шароне, между тем как третьи клялись, что они живут в Немецком квартале в Иерусалиме, а кое-кто даже утверждал, что беглецы почему-то объявились в кибуце Мишмар а-Эмек.
Однако не одно лишь семейство Йофе – британская разведка тоже начала в то время расширять свои поиски в немецких поселениях. За несколько лет, прошедших со времени прихода Гитлера к власти, многие из тамплиеров стали его приверженцами. Немало их сыновей уехало на родину, чтобы вступить в немецкую армию, тогда как другие начали учить арабов изготовлять бомбы и мины. В их поселках можно было увидеть нацистские флаги, на рукавах появлялись свастики, слышались приветствия «Хайль Гитлер», возникали нацистские партийные ячейки.
Арон обратился за помощью к своему другу Джорджу Стефенсону – английскому инженеру, жующему «чингу» и одетому в юбку, который со времени супового примуса продолжал часто нас навещать. Он всегда приезжал на своем черном «ситроене траксьон-аванте», вызывавшем восторг всей деревни, и всегда привозил Жениху какой-нибудь презент – редкий, дорогой или новый рабочий инструмент, – излагал ему проблемы из их общей области и даже пробовал заинтересовать задачами, выходящими за пределы техники и прикладной механики.
Стефенсон был любителем поэзии и природы, читал наизусть многие стихи, знал и рисовал птиц, но все это не интересовало Арона. Не заинтересовал его даже комплект свистков и дудочек, которые англичанин спроектировал и выточил собственноручно и которые способны были воспроизвести звуки ухаживания, предостережения и бедствия всех птиц Страны Израиля. Только «ситроен траксьон-авант» интересовал его всерьез. Но когда однажды ему стало известно, что этот Стефенсон – родственник того Джорджа Стефенсона, создателя паровоза «Ракета», который положил начало паровым железным дорогам, его восхищению не было границ. Даже стеснительная улыбка английского инженера и его робкое замечание: «Незаконный потомок…» – не охладили восторг Арона, ибо кровь – это то, что считается, совсем как у нас в Семье.
В начале Второй мировой войны англичане огородили Вальдхайм и Бейт-Лехем, построили там казармы из красного кирпича, в которых поселили охрану, и превратили их в закрытый лагерь в преддверии высылки жителей из Страны. Все это время Стефенсон проддолжал разыскивать Батию и каждый раз возвращался с новыми сообщениями и слухами в руках. Однажды он рассказал совсем уж фантастическую историю, что Иоганн находится в Египте, в Эль-Аламейне, в немецком подразделении Пальмаха, а Батия, чтобы быть как можно ближе к нему, открыла в Александрии лавку мороженого. Но куда бы Жених ни приезжал проверить, оказывалось, что его свояченица с мужем или еще не прибыли, или уже были и уехали, и в конце концов всем пришлось признать победу реальности: любимая дочь Апупы исчезла, и его боль стала такой сильной и мучительной, что в его присутствии о ней нельзя было даже заговорить, потому что достаточно было простого упоминания о Батии, чтобы у него на коже раскрывались гнойные трещины.
* * *
Только через пять лет после нашей женитьбы обнаружила Алона мое открытое темечко. Мы тогда сидели на кухне у моей матери, пригласившей нас на один из летних вариантов «правильного ужина» доктора Джексона, то бишь такой еды, после которой, «если бы все люди ели ее вечером, мир наутро был бы намного лучшим местом».
К чести доктора Джексона надо сказать, что он не делил мир на правых и заблуждающихся и его «правильный ужин» предоставлял верующим свободу выбора, слегка смущавшую мою мать, – например, выбора между «зеленым салатом с хлебом из цельной муки с хумусом» и «четвертью кило персиков с десятью – двадцатью очищенными миндалинами». Алона выбрала миндаль, потому что была на восьмом месяце беременности, а я – хлеб с хумусом, чтобы не умереть с голода через полчаса после еды. Что бы ты ни выбрал, ужин всегда подавался не позже восьми вечера, чтобы «не затруднять тело перед сном», и не содержал никакого питья, потому что оно «разрежает желудочные соки» и стимулирует «пищеварение с помощью бактерий» вместо «пищеварения с помощью энзимов».
Тишина царила за столом. Мама ела молча, чтобы не мешать «нашему другу-слюне». Алона молчала, чтобы не мешать матери в «первичном разложении углеводов». Я молчал, потому что мне не было с кем и о чем разговаривать. И только мой отец говорил, вернее – насмехался:
– Что это значит «десять – двадцать миндалин», Хана? Что за распущенность? Надо было установить точно – двенадцать миндалин, пятнадцать или девятнадцать.
Его голос немного потускнел и пригас, как это иногда бывает с теми, кто ушел, – но я, который и себя слышу через свою фонтанеллу, хорошо его различал.
– Глупости, – ответила ему мама, жуя со сжатыми губами, – надо прислушиваться к организму. Организм сам решает, сколько он хочет между десятью и двадцатью.
– Организм – последний, на кого можно полагаться, – возмутился отец. – Дай ему сегодня самому решать по поводу миндаля, завтра он решит, что ему хочется черного кофе или белого яда, а то и обниматься с чужими женщинами в саду.
Так он предупредил, растаял в воздухе и снова исчез.
После ужина я убрал посуду со стола, а обе женщины, моя мать и моя жена, начали говорить обо мне, а точнее, о моих порочных привычках. Хотя я присутствовал там собственной персоной, обо мне говорили в третьем лице – «он», – и, когда они обсудили «его» питание, «его» одежду, а также «его» усердие и «его» образование – то и другое нуждается в улучшении, если не в коренном преобразовании, – Алона сообщила, что «в последнее время у него появилась перхоть в волосах», а мама сказала: «Ты хорошо сделаешь, Алона, если помассируешь ему голову оливковым маслом».
На этот раз «его» фонтанелла не задрожала, а застыла, как лед.
– Нет нужды, – сказал я поспешно. – Я не хочу никакого масла в волосах.
«Он» готов подойти к медсестре в амбулаторию, там наверняка найдется что-нибудь против перхоти.
Тут они заметили мое присутствие и даже обратились ко мне во втором лице. Мама сказала:
– Сестра вотрет тебе в голову какой-нибудь яд, который проникнет в мозг.
А Алона добавила:
– Ладно, я помассирую тебе голову оливковым маслом.
– Не так сильно, – сказал я через несколько минут, уже дома. Но она дважды надавила на мое темечко, не обратив внимания, и мое тело содрогнулось, сдерживая крик.
– Что случилось? – спросила она.
– Ничего.
На третий раз она почувствовала. Ее пальцы, которые думали, что знают каждую складку, и выпуклость, и впадину в моем теле, на минуту задержались, удивились, вернулись снова, прошлись вдоль разделительной линии на моей макушке и с силой нажали на темечко.
Искры посыпались у меня из глаз, слезы боли втекли в носовую полость.
– Что это? – испугалась женщина, жившая со мной уже пять лет. – Ты знаешь, что у тебя дырка в голове?
– Это не дырка, – сказал я. – Это мое темечко.
Испуг прошел. Его сменило раздражение:
– Чего это вдруг у тебя открытое темечко? С каких это пор?
– Всегда. У каждого младенца есть такое.
– Что значит?
Если я еще раз услышу это их «что значит?» – я встану и уйду.
– У каждого младенца есть такая дырка, – сказал я. – Сколько раз нужно тебе повторять?
– Прекрасно, Михаэль. Но у каждого младенца это закрывается.
– А вот у меня не закрылось. Ты можешь гордиться, твой муж – единственный в мире человек, у которого голова осталась открытой.
– Ты ходил к врачу?
– К врачу? Чего вдруг? Я записался в очередь к штукатуру.
Алона враз превратилась в мою мать:
– Не вижу ничего смешного. Это опасно и нездорово.
– Алона, – я сбросил ее руки со своей головы, швырнул пропитанное маслом полотенце через плечо, встал и повернулся к ней, уже закипавшей от ярости, – я живу с этой дыркой уже больше тридцати лет, и пока ты не попробовала всунуть туда внутрь палец, мне не угрожала никакая опасность.
– Это не только опасно, это еще и противно, – сказала она.
– Так не трогай!
– Я и не собираюсь трогать, но сейчас я знаю, что это там.
Тишина напряглась, как проволока, неожиданно преградившая путь. «Супружество в опасности».
– А почему мне до сих пор не рассказали? – спросила она через несколько минут.
– Кто это «не рассказали»?
– Ты, например. Твоя мать. Твоя семья. Почему никто не сказал мне, что это не закрылось?
– Тебя обманули, – известил я ее. – Тебе подсунули испорченного мужа. Но ты можешь меня вернуть, у Йофов есть гарантия.
– Не люблю я эти ваши йофианские штучки. Все семейство у них обязательно перфект, а если кто-нибудь не совсем перфект, так они скрывают.
– Йофы скрывают? Новое дело. У нас все открыто, все известно, все секреты вываливают прямо на пол.
– Не интересуют меня ваши секреты. Меня интересует, что я беременна и это может перейти по наследству.
– Тогда у тебя будет то, чего хочет каждая женщина, – муж и дети с дыркой в голове. Ты сможешь заглядывать к нам внутрь и знать о нас все. – И поскольку она не ответила на шутку, я попытался смягчить ее суровость: – Это не так уж важно, Алона, правда, большую часть времени я этого даже не чувствую.
На ее лице отразилась тревога:
– А когда да?
Когда я чувствую запах гари, когда я иду по полю, когда я вижу девочку Айелет с голубеньким зонтиком и пшеницу в пламени, когда черные змеи скользят меж моими ногами, а огонь жжет мое тело, когда я кладу голову, а там уже нет плеча и груди, «и когда моя голова у тебя между ног! – кричу я в пересохшем сердце, – и твой запах наполняет мой нос, и это не-по-хо-же!».
Ни на Аню, ни на Анин запах, ни на Анино тело. Ничто не похоже, ничто не сравнимо.
– У меня есть еще кое-что, о чем тебе не рассказали.
– Да? Что?
– Мой не-шрам.
– Что-что?
– Место, где у меня нет шрама от пожара.
– У тебя нет никакого шрама от пожара. У тебя есть только шрамы от пуль из армии, и их я как раз люблю.
– Ты не понимаешь. Шрамы от пожара уже исчезли, а не-шрам остался.
– Хватит болтать глупости, Михаэль! – Она отворачивается от меня, ее огромный живот колышется. Алона забеременела точно тогда, когда хотела.
– Я влипла с одного раза, – сообщала она с гордостью, не зная того, что уже знал я, – что у нее в животе близнецы.
Родились Ури и Айелет. Алона проверяла их каждый день, и когда их фонтанеллы закрылись – раньше у него, потом, со сжимающим сердце запозданием, у нее, – наконец успокоилась. Но моя открытая фонтанелла все еще не дает ей покоя. Несколько дней назад она вдруг сообщила мне, что говорила с «врачом-специалистом», мужем одной из «пашмин», как же иначе, «и он будет очень рад осмотреть нашу голову».
– Нашу? Дырка в моей голове тоже часть супружества?
– «И здоровье и в болезни, в радости и в беде» [76]76
Слова из текста свадебной клятвы, произносимой под хупой.
[Закрыть].
– Нет нужды осматривать, – сказал я. – В пятьдесят пять лет уже поздно что-нибудь исправлять.
Иногда она помахивает передо мной пачкой страниц, напечатанной статьей:
– Ури вытащил для меня из Интернета. Судя потому, что здесь написано, ты должен был умереть в пять лет.
Меня наполняет веселье.
– Ты даже не знаешь, насколько ты права.
– Ты знаешь, как это называется по-иностранному? – спрашивает она.
– Нет! – Я пугаюсь. – Я не знаю.
– Фонтанелла, – улыбается она. – Кто бы мог поверить, что у такой противной вещи будет такое красивое название.
– Это имя любви. – Я сажусь. – Помни и не забывай!
– Ты знал, Михаэль, что у индусов есть поверье, что оттуда вылетают души праведников?
– Попробуй организовать движение в защиту женщин, у мужей которых не заросло темечко, – предложила ей Айелет несколько лет назад, услышав, как она рассказывает «пашминам», что Йофы всучили ей мужа с дырявым черепом.
И не только рассказывает. Однажды она сообщила мне, что ее «пашмины» «хотят потрогать». Я тут же почувствовал старую хватку грудной астмы. Положил вилку в тарелку, принял «вентолин» и пошел к Габриэлю и дедушке. Гирш Ландау играл на деревянной веранде, «Священный отряд» что-то варил, тяжелая железная кастрюля качалась над костром.
– Ты ужасно выглядишь, – сказал мой двоюродный брат. – Что тебе дать поесть, что тебе выпить? Мяса полегче? Винца покрепче? Рассказать тебе историю? Сделать тебе рукой? Сыграть тебе представление?
Единственный нормальный человек в семействе Йофе. Вот что я такое. Единственный нормальный в семье.
* * *
Габриэль и я были призваны одновременно и служили в одной части. Я помогал ему в чтении карты и запоминании координат, а он подталкивал меня на крутых подъемах и тащил «МАГ» [77]77
«МАГ» (полное название FN MAG 58) – бельгийский автомат, находящийся на вооружении израильской армии и войск НАТО.
[Закрыть]и ящик с боеприпасами. Оба мы спали в палатке, выделенной для разведчиков, но вскоре я заметил, что Габриэль проводит всё больше времени с тремя новыми товарищами – юношей из Иерусалима, который в начале службы был религиозным, и двумя красавцами кибуцниками из долины Бейт-Шеан, которые были похожи друг на друга и на самого Габриэля и на удивление хорошо умели играть, и варить, и бегать, и стрелять, и петь на два голоса. В части их вскоре начали называть габриэлевской «командой голубых», потому что их отношения не ограничивались обычными проявлениями мужской солдатской симпатии – дружескими потасовками с их общей кучей конечностей, голов и криков, а также прикосновениями, похлопываниями и прижиманиями в холодные ночи, – и всем стало ясно, что здесь не просто дружба. Когда наш сержант начал было насмехаться над религиозным иерусалимцем и даже попытался однажды раздеть его возле флагштока, Габриэль и двое остальных из его команды устроили этому сержанту «темную», закончившуюся сломанной ногой. Военной полиции не удалось найти виновников, но в части знали всё, что нужно. Габриэль и его команда были приговорены к неделе ареста и принудительным работам на территории лагеря, а замкомроты, который после освобождения из больницы хотел было вернуться в часть, нашел дверь в свою комнату заколоченной.








