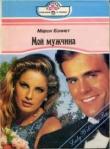Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 37 страниц)
Она бесцельно прошлась по комнате, легла, снова встала, подошла к окну. В огороде цвели сиреневые астры. Огромная тыква выставила на солнце пожелтевшее брюхо. Куры, вырыв под кустами ямки, дремали в тени. Все то неподвижно, как нарисованное, стояло у нее перед глазами, то скользило, проплывало мимо. «Я не могу без него жить», – сказала она громко.
Она не могла оставаться в комнате, вышла в огород, постояла бесцельно, потом вернулась в школу. Пахло свежей краской. Полы были завалены золотой стружкой, работали плотники. Под потолком жужжали злые осенние мухи.
С Лапкиной здоровались те, кто ее еще не видел, она отвечала, пожимала руки, разговаривала, рассказывала. Никто не замечал ее состояния, только вечером, когда к ней пришли гости и пили чай с липкими подушечками, учительница Марья Ивановна спросила:
– Что с вами, Олечка? Вы такая бледная.
– Я больна, я совсем больна…
– Вы устали с дороги, вам надо отдохнуть, выспаться, – посоветовала Марья Ивановна и стала собираться уходить.
Лапкина испугалась, что Козаков задержится, поспешно предложила:
– Я провожу вас. На воздухе мне станет легче…
Козаков молча взялся за фуражку. На лице его было оскорбленное выражение. Лапкина старалась не встретиться с ним взглядом.
Втроем они вышли на улицу. Ветер гнал по небу беспокойные облака, освещенные луной. Лапкина взяла Марью Ивановну под руку и прижалась к ее широкому, крутому бедру, а Козаков шел чуть в стороне и молчал.
Марья Ивановна громко говорила о том, что она всегда ждала того дня, когда качество учебы, качество воспитания станут главными в работе учителя, – и вот этот день наступил.
– Я завидую вам, Оля, что вы были на совещании, слышали все своими ушами. – И прибавила: – Да, да, качество учебы – это все. И так понятно: мы победили в войне и нам нужны культурные, грамотные люди, достойные нашей победы…
А Козаков молчал.
– Это очередная кампания, – наконец вымолвил он. – Мало ли их было, уважаемая Марья Ивановна! Ольга Петровна по легкомыслию, по молодости пришла в восторг, но вы-то?.. Хотел бы я знать, что нового могу прибавить к теореме Пифагора. Как ни крути, а никакой идейности я найти в пифагоровых штанах не могу, увольте…
– Но все зависит от вас, от педагога, – возмущалась Марья Ивановна, и ее зычный голос слышен был далеко вокруг. – В своем предмете, в географии, я найду возможность средствами самого предмета повысить идейно-политический уровень учащихся. Я…
– В географии – может быть, не спорю, но в математике…
Ольга Петровна силилась вслушаться в их спор. Козаков считался очень сильным математиком. Когда ей удавалось сосредоточиться, она, соглашаясь с Марьей Ивановной, с жаром начинала мечтать, как совершенно перестроит свое преподавание, но наплывали мысли о Федотове, все заслоняли, и Ольга Петровна с ужасом думала о том, какая она жалкая и мелкая: в такую великую для каждого учителя годину занята своим, личным.
Муки ее возрастали.
С раздражением смотрела она на Козакова, на его поблескивающие в лунном свете очки, слушала его монотонный голос, не понимая слов, которые он произносил, только догадываясь по протестам Марьи Ивановны, что тот, несмотря на свой ум, говорит неумно и зло.
И все-таки, борясь с раздражением, подавляя его, она старалась быть справедливой: «Что с ним? Ведь он вовсе не такой. Это он нарочно, со зла на меня, из желания пооригинальничать».
Лапкина положила голову на плечо Марьи Ивановны и с умилением подумала о том, что та до седых волос дожила, а в свое дело влюблена до самоотверженности и что такой вот, как Марья Ивановна, и должен быть каждый честный учитель.
– Ах, милая Марья Ивановна, милая, милая Марья Ивановна! – с отчаянием сказала она.
– Что с вами, голубчик?
Лапкина отвела глаза.
Они проходили как раз мимо дома директора – там было светло и шумно.
– Очевидно, Николай Петрович принимает гостя, – насмешливо сказал Козаков. – Угощает наливкой и поет песни.
Колени у Ольги Петровны задрожали.
На перекрестке Козаков попрощался.
– А ну его, вашего Козакова, – сказала Марья Ивановна, когда он скрылся за углом. – Не люблю я его, не обижайтесь на меня…
– Я не обижаюсь, – ответила Лапкина печально. – И вовсе он не мой…
Она проводила Марью Ивановну до ее дома. Та на прощанье сорвала ей с грядки простеньких белых пахучих цветов, но Лапкина потом букет бросила. Ей показалось, что это смешно – идет по улице женщина с цветами, влюбленная, но нелюбимая. Она снова прошла мимо дома директора, где светились окна. Наверное, Федотов все еще там. Сидит, молчит, курит, ужинает. Может, ухаживает за кем-нибудь. У директора гостит внучка, юная студентка. И вся история с Федотовым показалась ей вдруг такой банальной, простой, глупой, пошлой, что она похолодела от стыда. Вместе ехали, сошлись, разошлись… «Что же мне теперь делать? – думала она. – Как я буду жить, если больше не уважаю себя?»
Вся улица уже спала, ставни на окнах были закрыты, свет погашен. Где-то далеко в саду пели. В чьем-то сарае, проснувшись, замычала корова. Ветер зашевелил свисающие над забором ветки. Листья тихонько шелестели что-то свое, невеселое. «Сон ты мой золотой», – думала Ольга Петровна. Она стояла у чужого забора, смотрела на неосвещенную улицу и понимала, что никуда отсюда, не уедет, это невозможно – уехать, надо жить, как жила, работать, руководить драмкружком. Но сердце болело, она твердила: «Я не могу без него, не могу».
Она подошла к школе и испугалась. Кто-то стоял у ее крылечка.
– Это вы? – спросила Лапкина, слабея. – Я думала, директор вас не отпустит.
– Нет, зачем же, я пришел к вам…
Федотов взошел вслед за ней на крыльцо, прошел через сени в комнату. Она села. Он стоял виновато, как ученик. Так приходили к ней ученики, мялись на пороге, тискали в руках шапки, а она спрашивала, как умела, строго: «Ну, что тебе? Двойку хочешь исправить?» Сейчас она ничего не спрашивала. Не могла.
И опять он произносил не те слова, не то, что ей было нужно. Рассказывал, как понравился ему директор, очень толковый и занятный старик, критиковал постановку военного дела у них в школе, но не заикался о будущем, об их судьбе. Ей хотелось быть гордой, презрительной, независимой, она вытащила папиросу, закурила. Бодро рассказывала, как встретили ее ученики, как много скопилось работы, пока ее не было: она ведь должна будет сделать доклад о совещании на учительском собрании, надо серьезно подготовиться. Ольга Петровна как бы защищалась, хотела показать: вот она, моя трудовая жизнь, вот оно, мое дело, ты не смеешь меня презирать за то, что было в лесу. Но рука ее, державшая папиросу, дрожала.
– Интересно было в гостях?
– Внучка у директора, оказывается, хорошо поет…
– И у меня были гости… правда, не пели…
– А я люблю…
– Ваша жена поет?
– Поет, – ответил Федотов. – У нее контральто. Очень сильный голос.
– О, я очень рада, что у вашей жены сильный голос, – сказала Лапкина с издевкой. – Мне очень интересно было это узнать.
– Но вы же сами спросили, – с недоумением ответил Федотов. – Вы спросили, я ответил…
– Ну вот, я тогда спрошу, а вы скажите, раз вы такой откровенный и честный: что вы думаете обо мне? Вы меня не уважаете, да? Женщину, которая сошлась с незнакомым мужчиной, конечно, нельзя уважать.
Силы изменили ей, и она заплакала.
– Ну, зачем? – растерялся Федотов. – Зачем вы плачете?
– Я плачу, – рыдая, говорила Лапкина, – я плачу… Для меня любовь – это такое большое, такое великое… и мне больно… и стыдно, что вы…
– Зачем вы себя мучаете? Я все эти дни вижу, как вы мучаетесь. И сам мучаюсь. А ведь было так хорошо, по-честному. Правда, было хорошо?
Он подошел ближе, обнял ее, но не поцеловал, а только прижал к себе.
– Вы скоро уедете? – спросила она. И не стала ждать ответа. – Вы скоро уедете, а я останусь… Осень начнется, зима…
– Может, еще и увидимся, – неуверенно сказал Федотов.
– Вы меня забудете, – не слушала его Лапкина. – Я знаю, вы меня забудете. Может, вспомните когда-нибудь: мол, была и такая… Девушки еще были в окружении… Расскажете кому-нибудь…
– Нет, не расскажу… Это совсем иное.
Они стояли, тесно обнявшись, словно обоим страшно стало той большой, сокрушающей силы, которая шла из их сердец и грозилась все смести на своем пути. Ветер разогнал облака, и бледная луна осветила кусты под окном и листья, вытканные на тюлевой занавеске.
– Очень вы мне стали близки, – сказал Федотов, сокрушаясь. – Я и сам не знаю, что нам теперь делать…
– Вы мне ни одного слова не сказали, – упрекнула Лапкина. – Вы ничего не сказали, как вы относитесь ко мне.
– А разве и так не понятно?
– Я исстрадалась. Измучилась.
Она прижалась к его груди и слушала, как бьется сердце. От гимнастерки хорошо пахло шерстью, табаком и цветочным одеколоном. Очевидно, брился перед тем, как пойти в гости. Она провела рукой по его щеке. Щека была выбрита.
– Что это вы? – спросил Федотов.
Она не ответила. Но горячие слезы полились на его руку, которую она держала в своей.
– Не плачьте, – говорил он ей, как маленькой. – Не плачьте…
– Мне так хочется знать, что у вас на душе…
Он не умел объяснить. Чувствовал, как его заполонило любовью, и от этого было радостно, а рядом умещалась боль от сознания, что легко мог уехать, уйти, не заметив, не разглядев любви.
Федотов вздохнул.
– И без того у меня все пошло кувырком, как демобилизовался. Я уже про это говорил: надо мне определиться в мирной жизни… Думал: посмотрю, как тут у вас, что, а на месте все бы и решил… Но встретил тебя. Я и не знал, что такое бывает. Вот не хотел, а и жене, и тебе принес несчастье…
– Нет, счастье, счастье, – возразила Лапкина и закрыла ему рот рукой.
Но он отвел руку.
– А если я не вернусь? Тогда?
Она молчала.
– А вдруг ребенок?
– Хорошо, если ребенок…
– Что ж хорошего, если будешь одна, без меня…
Она, как в бреду, бормотала:
– Ты всегда будешь со мной, если даже не вернешься…
Он пожал плечами.
– Я жене честно все скажу, и пусть она решает. А так я ведь не имею права ее обидеть.
– Право у того, кого любят. Но ты честный человек…
– Все-таки она меня ждала все эти годы.
– А я разве тебя не ждала? – живо спросила Лапкина. – Я только не знала, кто ты…
Он поцеловал ее сухие, горячие губы:
– Славная ты, очень славная… Я…
– Не надо, не говори, – отозвалась она.
Ей уже не нужны были те слова о любви, о которых она так тосковала. Не в словах дело. Она торопилась, показывала ему свои тетрадки и книжки, дневник, конспекты, план работы. Он близкий, родной, он все должен знать. И Федотов с любопытством покачивал головой, удивляясь ее образованности.
– Да, серьезная у тебя работа, – говорил он с уважением. – Нельзя стоять на месте, надо все время двигаться вперед…
– Теперь мне ничего не будет трудно, – сказала она, успокоившись. И спросила: – Но ты вернешься?
– Если я и не вернусь, то знай, я одно хочу тебе сказать…
Но она положила ладонь на его губы.
– Не надо ничего говорить…