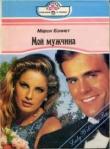Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
– Я твое нетерпение понимаю, – сказал Самарин с нескрываемой завистью. – Ну, бывай, Горлов…
Послышался троекратный звук поцелуя. Потом сдавленным голосом Горлов попросил:
– Жена моя здесь остается с ребятишками. Совсем глупая баба. Разрешите ей обратиться к вам в случае чего…
– Сделаю все, что в моих силах, не сомневайся… – Самарин посоветовал: – Ты там, на фронте, песню, шутку не забывай. Шутка раззадоривает бойца… Пиши, какие недостатки увидишь в нашем обучении.
Через окно я увидела, как Самарин вышел провожать плечистого, румяного Горлова, как долго смотрел ему вслед, каким хмурым взглядом оценивал бойцов у забора, как подозвал кого.-то движением руки.
Подбежал молоденький кудрявый младший командир, и оба вошли в дом.
Вот этот кудрявый Черенков и будет замещать Горлова. Черенков говорит чуть не плача, что он не справится, разве может он справиться после такого опытного человека, как Горлов…
– А я говорю – справитесь, – настаивает Самарин. – С любыми вопросами можете обращаться ко мне шесть дней и шесть ночей подряд, на седьмой будете действовать самостоятельно…
Может, Жолудев и хотел насолить Самарину, поселив меня по соседству и переложив на него все заботы, но мне тем самым он оказал неоценимую услугу. Интересно все-таки, что за отношения между этими двумя офицерами? Из-за чего у них вражда? Из-за жены Жолудева, это ясно!
За стенкой становится тихо. Только один или два раза глубоко вздыхает Самарин. Мне не хочется его окликать.
Мимо окна проходит грузный Кривошеин в стеганке и стучится в дверь к Самарину. И Самарин сразу же, как будто ждал, перед кем излить душу, повторил фразу, которую уже говорил мне когда-то в редакции:
– Я как эта самая Данаида, что заполняет бездонную бочку водой. Встречаю и провожаю – и снова открываю объятия…
– Это ты про новое пополнение? Опять загадками говоришь?
– Загадка украшает жизнь. Вот я читал одну книгу…
Кривошеина в настоящую минуту ни загадки, ни книги не интересуют. Он требует какие-то списки, листает их, кряхтит, обсуждает. Но Самарин, потолковав о списках, снова жалуется:
– Мне никогда не везло. Что другим само в руки дается, я зарабатываю горбом. Разве это справедливо? Вот проводил Горлова. Совесть не позволила задержать. Парень ценный, такие на фронте нужны.
– Кого вместо него ставишь?
– Черенкова Володю. Ценю его за любознательность и стремление к новому. Надо только ему выработать самостоятельность.
– Кипяток есть? – спрашивает Кривошеин и жалуется: – Что-то меня опять трясет. Журналистка завтракала?
– Спит, – поясняет Самарин. – Устала с дороги, спит…
– Столовую не закроют? Не проспит?
– Неудобно, – почти шепчет Самарин. – В первый же день – и в столовую. Я тут кое-что приготовил.
– А к нам нового лейтенанта прислали, – громко говорит Кривошеин. – Из училища. В штабе видел.
– Из училища – это хорошо! – радуется Самарин. – Свежий человек, свежие мысли… – И опять переходит к излюбленной теме: – А я? Ни образования, ни серьезной подготовки. К офицерству теперь предъявляются высокие требования.
Кривошеин не отвечает. Он грохочет кружкой – видимо, снова наливает чай. Потом спрашивает:
– Ты для чего этот портрет держишь?
– Подарили, вот и держу.
– Нетактично. На нервах у мужа играешь.
– Какие еще у него нервы! – бормочет Самарин.
– Доиграешься, – остерегает Кривошеин. – Смотри, лейтенант!
Хлопает дверь. Кривошеин уходит. Скрипит кровать – видимо, Самарин сел или лег на койку.
Из окна мне видно, как Кривошеин медлит на пороге, сердито мотая головой, потом идет по двору, подходит к бойцам, разговаривает, закуривает, смеется. Его кисет с табаком переходит из рук в руки. Потом Кривошеин уходит.
Новых бойцов выстраивают для утренней поверки. Суетится и бегает Черенков. Бойцы волнуются. Затем появляется Самарин, в начищенных сапогах, весь в ремнях, важный как генерал.
О чем он думает, разглядывая разношерстную толпу? Я стараюсь смотреть на пополнение глазами Самарина. Нет, это не погодки, как бывало до войны, не рослые, отобранные один к одному парни. Призывают сразу разные возрасты, война требует солдат. Кто они, откуда? Вот этот тщетно и конфузливо старается втянуть под ремень круглый живот. Наверное, служащий, человек сидячей жизни. Или этот красавец с озорными глазами, полный уверенности, что он нигде и никогда не пропадет. Или тот, до того растерянный и удивленный, что не может понять, где «право» и где «лево», как ему это ни втолковывает Черенков. Подавленный своей непонятливостью, солдат улыбается детской улыбкой. Или вот тот великан с могучими плечами. С такими долго мучаются старшины, подбирая обмундирование по росту. Или этот хилый, сонный, с торчащими ушами. Да, всех их надо в короткий срок сделать солдатами, научить держать винтовки, стрелять из орудия, окапываться, маршировать, переползать, маскироваться, наматывать портянки, чтобы ноги на марше не стирались до крови.
А Самарин все смотрит и смотрит. Так изучает учитель ребятишек, пришедших впервые в класс. Так вглядывается художник в эскизы, приступая к картине. Так перечитывает записные книжки писатель, садясь за повесть. Так знакомится парторг с членами организации.
Вот Самарин бросил окурок и с решительным видом вышел вперед. Младшие командиры уже подравняли строй, подали лейтенанту списки.
– Белацкий! Лобков! Кисель! Кто Кисель?
– Мы, – степенно ответил голубоглазый человек, тот самый, что по-детски улыбался.
– Кисель есть, очень хорошо, теперь надо ложку, – негромко пошутил Самарин. Смешок прошел по рядам. – Флегонтьев!.. Кто Флегонтьев?
– Ну, я… – небрежно ответил молодой, с безучастным выражением лица мужчина.
Самарин внимательно вскинул глаза. Что-то, должно быть, не понравилось ему в этом развалистом парне с толстой шеей. Он строго заметил:
– Как стоите перед командиром? Станьте ровно! Яцына!
Бойкий, с нагловатыми глазами, скуластый, подбористый человек весело отозвался:
– Тут я!
Перекличка окончена. Самарин говорит:
– Товарищи новые бойцы! Наша батарея не имела по сегодняшний день взысканий и замечаний, находится на отличном счету в части, хотя состав батареи менялся, обученные нами артиллерийские расчеты отбывали на фронт. Но тот, кто оставался, понимал свой долг, учил новоприбывших, не жалея сил. Репутацией дорожил. Мы и вас призываем к тому же. Помните, товарищи бойцы: в нашем подразделении не было и не должно быть плохих солдат…
Подошли командиры орудий, и Самарин стал с ними советоваться, кого из старых бойцов, оставшихся на батарее, прикрепить к новичкам. Лобков шустрый, этот сам потребует своего, с ним беспокойства не будет. Кисель слишком тих, надо его соединить с бойким человеком. А вот Флегонтьев… Пусть за Флегонтьевым последит командир орудия Черенков. Лично…
И Самарин многозначительно поднял палец.
Черенков вздохнул и, откозыряв, помотал головой. На лице его отразилось отчаяние.
Самарин привык ко мне, перестал стесняться, реже произносил витиеватые фразы. Я и в столовую ходила вместе с ним и на полигон. И теперь вот сижу рядом, читаем газеты. Он изучает сводку и положение на фронтах, очень интересуется, пишут ли что-нибудь про артиллерию и артиллеристов, нельзя ли «позаимствовать» фронтовой опыт. Видно, что сам вид газетного листа ему приятен, нравится даже запах типографской краски. Когда он рассматривал снимки и обдумывал сводку, глаза его заволокло дымкой, он прищурился и смотрел вдаль, словно забыл, где находится.
Потом очнулся и аккуратно сложил газетный лист.
Я невольно спросила:
– Романы, художественную прозу вы любите?
– Конечно! – Он удивился. Но, стесняясь признаться, что читает для собственного удовольствия, прибавил: – Даже любовный роман и тот помогает лучше понять психику бойца.
Он долго думал о чем-то, искоса взглядывал на меня и наконец спросил в свою очередь:
– А вы, извините, романов не писали?
– Нет, что вы…
– Хотелось бы увидеть человека, написавшего роман.
– Зачем?
– Ну, так. Просто пожать руку. Человек делает благородное дело, такое полезное!
– А вы? Вы разве не делаете?
– Кто? Я? У меня ведь совсем никакого образования. Вот на фронте все отдают… – Он хлопнул по газетному листу, – жизнь отдают, а мы прохлаждаемся…
Ни тени рисовки не было в его словах.
– Прохлаждаетесь? Вы? – Я развела руками.
Работает как черт, обугливается в среднеазиатском пекле, исхаживает в рыжих от пыли сапогах десятки километров в день, ползает по глине на брюхе, обучая бойцов, готовит для фронта артиллерийские расчеты в предельно сжатые сроки – и это называется «прохлаждаемся»!..
Самарин как будто понял мои мысли:
– Мне легко, я ведь работаю с людьми по особому методу.
– По какому это?
– Называется метод индукции, – таинственно сказал он. Щеки его зарумянились, глаза заблестели.
– Индукции? – переспросила я.
– Ну да. В воспитании бойца надо идти от частного к общему, надо подводить человека к цели на примере его собственной жизни… Вам понятно? Это и есть метод индукции.
Тот же плац, тот же часовой под «грибом», то же небо… И только тополь у стены неузнаваемо изменился. За несколько часов короткой весенней ночи огромная тайная работа природы закончилась, почки лопнули, словно их разорвали поодиночке, и из серо-коричневой жесткой и клейкой оболочки показались скатанные, как шинели, в зеленый тугой сверток молодые листья.
За стенкой было тихо. Самарин спал. Значит, и мне еще не надо вставать. Хорошо, что можно полежать, подумать…
Я уже многое знала о Самарине.
До войны, когда полк жил мирной обычной жизнью, то есть был постоянный командный состав, летом выезжали в лагеря, осенью проводили инспекторские стрельбы, зимой устраивали семейные вечеринки и танцевали в Доме Красной Армии, – в те давние времена Самарина очень любили в полку за отзывчивость и доброту, у него даже было прозвище – «Сберкасса. Тайна душевных вкладов обеспечена». С Самариным советовались, ему поверяли свои секреты и невзгоды не только товарищи-сослуживцы, но их жены, сестры, дети. У него брали деньги без отдачи, перехватывали до получки. Смеялись, что бездомные собаки со всей округи как-то узнают его адрес. Летом в палатке Самарина всегда оказывались то черепаха, то галка с подбитым крылом, то котенок.
На вечеринках именно Самарин крутил ручку патефона, менял пластинки и помогал хозяйке вносить самовар. Именно ему приходилось после танцев провожать на край военного городка самую некрасивую девицу, которую некому было проводить, хотя поговаривали, что ему нравится машинистка Люся.
Самарину же доставались самые трудные задания от командира батальона и неудобные, дальние полигоны для занятий.
Всем он был нужен, всем необходим, незаменим.
Когда в части появился Жолудев – это было еще до войны, – Самарин сразу же сдружился с ним, восхищаясь щеголеватостью, остроумием и находчивостью нового командира.
Через месяц-другой Жолудев внезапно женился на Люсе. Огорчило ли это Самарина, никто не знал, – во всяком случае, он на свадьбе присутствовал и даже подарил молодым огромную, как поле, зеленую скатерть. Но дружба с Жолудевым как то расклеилась – может, потому, что Жолудев пришелся по душе начальству и быстро продвигался, а Самарин так и остался командиром батареи.
С началом войны жизнь в части круто переменилась, довоенные отношения и традиции забылись, потеряли свое значение. Да и мало кто из «стариков» остался в полку. Уехали на фронт, на формирование новых дивизий. Многие погибли в боях…
Кое-что о Самарине тепло и ласково рассказал Кривошеин. Но он знал это с чужих слов или из личного дела. Сам он был новым человеком в части, до войны работал мастером на мясокомбинате. Жолудев на мои расспросы отвечал снисходительно, чуть насмешливо. Даже пожимал плечами, удивляясь, что меня интересуют такие пустяки. В его освещении Самарин выглядел недалеким, простоватым. То, что восхищало Кривошеина, Жолудеву казалось смешным. Про скатерть, про свадьбу Люси, про вечеринки сообщила мне сестра из медчасти, немолодая, деятельная женщина. Она, шепелявя, говорила намеками, не прямо:
– Люся работала машинисткой в штабе… Еще до войны… Она лучше всех знает Самарина… Вообще в части только, кажется, и остались из старых – это Люся, Жолудев и Самарин… Надо же, чтоб именно эти трое остались…
Нет, с Люсей надо обязательно встретиться.
Конечно, это не имеет отношения к теме очерка. Психологические подробности газете не нужны. Надо рассказать о трудовом опыте Самарина, о том, как он готовит резервы для фронта. Все остальное, и история с Люсей в том числе, это и есть «восходы и закаты», о которых меня предупреждал секретарь редакции. А все-таки я выберу время и поговорю с Люсей.
За стеной заскрипела кровать. Самарин проснулся.
Когда мы вышли с ним, он посмотрел на тополь, полюбовался, как он нежно зазеленел. И сказал:
– Значит, скоро лето. Начнется пекло…
Мы прошли через двор, обсуждая сегодняшнюю сводку. Вышли из ворот, окаймленных колючей проволокой. Перед нами простиралось голое пространство тускло-желтой земли. Будто нарисованные китайской тушью на старом пергаменте, торчали редкие темные голые деревья, серые развалины глиняных хибар. Под деревом у дороги сидели на корточках две узбечки – старая, темная и корявая, как дерево, и молодая, в ярком платье, смугло-розовая, с алмазными глазами под длинными ресницами.
Женщины продавали всякую всячину – семечки, тоненькие спицы зеленого лука, кислое молоко.
– Селям алейкюм, – сказал Самарин, проходя.
Старуха радостно закивала в ответ, молодая потупилась, закрылась отлитой из бронзы узкой ладонью.
Солнце разогнало туман, показалась далекая извилистая линия пологих горных вершин.
– Это мне напоминает Кавказский хребет, – сказал Самарин. – Но тот более величавый…
Лейтенант стал вспоминать долгие ночи в седле, горные узкие тропы, по которым ходил подростком. Учетчиком по животноводству, с папкой «Мюзик» под мышкой, бродил он от табуна к табуну, подсчитывая поголовье. Прибавил себе года, чтобы взяли на службу в финотдел. По ночам в горах было холодно и страшно от шорохов, вскриков, шумов. То камни, скатывались с угрюмым рокотом в ущелье, то кричали ночные птицы, то выл, рыдал голодный шакал. Самарин полностью испытал тягостное чувство одиночества, безлюдья, молчания.
Когда случалось подходить к костру, пастухи неприветливо смотрели на его папку. И он молча сидел с ними у огня, вдыхая запах горячей баранины.
Призванный в армию, Самарин ошалел от счастья: люди, люди… Все время он был на людях, с людьми!.. Отслужив срок, остался в армии пожизненно.
– И никогда не жалели об этом? – спросила я.
Самарин ответил задумчиво:
– Ну что вы! Нисколько.
По небу быстро двигались облака.
– Вот так по узкой дороге бегут овцы, когда испугаются, – сказал Самарин, – какая-то клубящаяся масса серой шерсти.
Я спросила:
– Вы тогда рассердились на меня зимой, ну, за стихи?
– Что ж сердиться на правду? – Он замедлил шаги. – Чувствуешь очень красиво, даже в горле сжимает, А на бумаге оказывается просто ерунда…
И он робко и виновато посмотрел на меня.
Облака рассеялись, теперь все сверкало, сияло, золотилось. Впереди виднелся огромный пустырь, изборожденный ходами сообщений, брустверами, ячейками, оползшими и недавно вырытыми окопами разного профиля.
Пройдет всего несколько недель, и жара сделает свое дело. Всю эту молодую, едва наметившуюся листву и траву, упорно лезущую из песка, из трещин и расселин, обожжет зноем. Но сейчас листья были еще невесомыми, легкими, не имели плоти. И цвет был не летний, не темно-зеленый, а нежный, светлый; кроны еще не сливались в сплошную массу, а трепетали, как прозрачная ткань, сквозь которую просвечивало весеннее небо.
Кое-где в траве уже вспыхивал, как яркий огонек, дикий красный тюльпан, занесенный ветром с гор.
Сегодня отрабатывали противотанковую оборону. Самарин сейчас же убежал проверять, правильно ли командиры орудий выбрали позиции.
Бойцы в желтых от глины ботинках, навалившись и покрикивая друг на друга, тащили пушку по размокшей от ливня земле. То подпирая плечом, то надсадно крича, суетился среди солдат Черенков, весь красный, взволнованный, хорошенький, как переодетая девушка.
Я узнала кое-кого из солдат. Вот Кисель, вот Лобков, вот толстый солдат со странной фамилией Обух. Я немножко гордилась своей профессиональной памятью. Но зато хорошо знала и слабость – теперь начну думать о каждом из этих людей, меня захватит и взволнует различие характеров и судеб каждого, а окажется, что все эти очень важные для меня подробности совсем не важны для дела, ради которого я приехала.
Мне, например, очень многое сказала мелочь: бойцы, тащившие на пригорок пушку, тащившие с трудом, выбиваясь из сил, все-таки объехали цветок.
Кисель, голубоглазый, добрый солдат, вытер пот со лба и, оглянувшись вокруг, сказал:
– Красота какая!.. Теплынь, а дома еще снег…
– Другая широта, другой меридиан, – авторитетно отозвался Лобков.
Рядом со мной появился Самарин. Вид у него был веселый, пилотка сидела на самой макушке. Он сказал, довольный, не сомневаясь, что я пойму:
– Черенков-то, Черенков, а? Молодчина! Местность просматривается, танкам не удастся подойти скрытно.
Он пресерьезно объяснял мне, что танки и самоходки противника могут появиться только из-за тех лачуг справа или из котловинки, откуда выехал сейчас на сером вислоухом ишачке мальчишка в тюбетейке.
Сияя кирпичным румянцем, мальчишка подъехал ближе, пяля глаза на пушку. Кроткий ишачок осторожно тянул плюшевые губы к тоненьким иголочкам травы.
Кисель улыбнулся своей мягкой улыбкой и любовно сказал мальчику:
– Ишь ты! Не боишься пушки, герой?
– Разговорчики, разговорчики! – отрывисто бросил Черенков, косо оглядываясь на Самарина.
Но Самарин молчал. Он вырабатывал «самостоятельность» в Черенкове. Еще вчера он придирчиво отрабатывал с ним и с командирами остальных орудий «тему занятия» и теперь предоставлял им полную творческую инициативу.
Когда мы с Самариным обошли участки, где занимались другие орудийные расчеты, и снова вернулись к Черенкову, бойцы окапывались. Взлетали комья земли, блестели лопаты.
– Не вижу маскировки, – прозвучало первое замечание Самарина.
– Не успели, товарищ лейтенант, – краснея от досады на свою забывчивость, оправдывался Черенков.
– Как это не успели? Противник не станет вас дожидаться. Он ударит из-за укрытия – вот оттуда – и разнесет батарею раньше, чем вы успеете произвести выстрел.
– Вот это верно! – вырвалось у Лобкова.
Кисель от удивления развел руками.
Флегонтьев, боец, которому Самарин сделал замечание уже при первом знакомстве, стоя по колени в окопчике, медленно пересыпал с руки на руку горсть земли.
– Что мешкаете? – спросил Самарин. – Знаете, какая глубина положена по уставу?
Флегонтьев нехотя разжал пальцы, выбросил слипшиеся, влажные комки.
– В нашем крае совсем другая почва – чернозем. – Он поплевал на ладони и лениво взялся за лопату.
– Вы находитесь в обороне. – Голос Самарина набирал резкость, твердел. – Каждая минута дорога. Надо готовиться к встрече противника: разведка донесла, что вражеские танки близко.
Флегонтьев ухмыльнулся. На его крупном красном лице с маленькими заплывшими глазками было написано недоумение.
– Какой же противник, кругом чистый полигон! Учеба! – пробормотал он.
– На учебе все должно быть как в настоящем бою. Иначе вы не научитесь воевать, – строго сказал Самарин и отошел.
Лобков, разгоряченный, азартный, точно выполняя указания Черенкова, наводил орудие. Самарин остановился, посмотрел, что-то поправил, объяснил. Потом вскользь спросил:
– С завода?
– С завода, товарищ лейтенант. Токарь.
– Оно и видно. Рабочего сразу видно.
Когда мы отошли, Самарин сказал мне доверительно:
– Этот ничего. А вот Флегонтьев – нет, не нравится.
– Почему? – спросила я, хотя Флегонтьев и мне не нравился.
– Тусклый глаз, – лаконично ответил Самарин. – И вот этот еще… – Он чуть вздохнул и сдвинул свои белесые брови, присматриваясь к Яцыне.
Я тоже стала приглядываться, припоминать.
Верткий, исполнительный, даже услужливый, он, как нарочно, старался попасть на глаза Самарину и выказать свое усердие. Больше всех суетился, когда перетаскивали пушку, но не толкал сам, а все забегал сбоку и спереди, смотрел под колеса, кричал и подбодрял. Ноздри его узкого хрящеватого носа трепетали. Команду Яцына понимал с полуслова, шуткам смеялся громче всех, но похоже было, что он не слышит ни команды, ни шуток, а особым чутьем угадывает, как и что надо делать. Узковатый в плечах, он все же не производил впечатления человека слабого, скорее выносливого и ловкого. Что в нем плохого заметил Самарин?
Когда командир подошел к наблюдателю – худощавенькому пареньку во взмокшей на спине гимнастерке, с таким восхищением и ужасом смотревшему в огромный бинокль, будто из котловины вот-вот и вправду появятся танки, – паренек вытянулся и со счастливым придыханием, с удовольствием доложил, что боец такой-то ведет наблюдение за передвижением противника.
Самарин жестом показал, что вытягиваться во весь рост не надо, его могут обнаружить.
– Учащийся? – спросил он, беря из рук наблюдателя бинокль и поднося его к глазам.
– Так точно! – Боец снова сделал попытку вытянуться, и снова Самарин жестом остановил его. – Так точно… Учился на первом курсе техникума.
Самарин кивнул.
И опять пошел по полигону, то пригибаясь, то перебегая от дерева к дереву, показывая бойцам, что если он от них требует точного выполнения законов боя, то и сам не позволяет себе никаких вольностей и поблажек.
Обух, тяжело и неловко ложась выпирающим животом на черенок лопаты, устраивал себе окопчик. Он сконфуженно посмеивался над свой нерасторопностью и даже слегка пожимал плечами.
Самарин отнесся к нему сочувственно.
– Тяжело с непривычки?
– Пока не жалуюсь… – принял молодцеватый вид пожилой солдат.
– Покажите руки…
Ладони у Обуха кровоточили, мокли раздавленные черенком лопаты водяные пузыри. Самарин недовольно покачал головой и, взяв из рук Обуха лопату, стал показывать, как ее надо держать.
– На гражданке кем были?
– Главным бухгалтером. Годовые балансы сдавал в срок, не спал ночей, но вот… чемодан… – Он похлопал себя по животу, но испугался, не слишком ли вольно себя держит, и опустил руки.
Самарин дипломатично сделал вид, что не расслышал. Обух спросил торопливо:
– А что сегодня в газетах? Сводка какая?
Самарин выразительно поднял брови.
– Все то же… – сказал он. – Все то же. В тринадцать ноль-ноль будет политинформация.
Политинформацию проводил Кривошеин. У меня гудели от ходьбы ноги, и я уселась чуть в стороне от собравшихся в кружок бойцов.
Кривошеин рассказал, что делается на фронте, показал карту, посоветовал выделить агитаторов. Выделили Лобкова. Чуть краснея, Самарин достал из кармана сложенную прямоугольником, стершуюся на сгибах газету и протянул ее Лобкову.
– Вот в газетке есть факт про героя-артиллериста.
Лобков читал хорошо, внятно, и Самарин снова заволновался так, будто кто-то близкий ему лично, родной остался один на один со своим орудием перед немецким танком. И мне снова показалось, что не тихий, огромный пустырь в предгорьях Средней Азии видит Самарин, а изрытое воронками поле боя.
– Поклянемся быть такими, как этот артиллерист! – пылко сказал Самарин, когда Лобков сложил газету.
– Артиллерист умирает, но не сдается, – добавил Кривошеин и полез в кисет за табаком.
Случайно я посмотрела на Флегонтьева. Он отвернулся – не то задумался, не то просто скучал.
Когда часа через два, обойдя другие позиции, мы с Самариным снова пришли к Черенкову, Флегонтьев уже совсем скис и обмяк, пот заливал его одутловатое лицо.
– Ну что, не нравится? – спросил Самарин.
– Кидаем землю с места на место. А к чему? Польза какая?
– Балованный ты, – иронически заметил Черенков и посмотрел на Самарина, ища одобрения.
– Верно, балованный, – неожиданно согласился с ним Флегонтьев, – я ведь очень хорошо жил. Домик свой, огород. Помидоры с кулак величиной выращивал, жинка на базаре продавала…
– О барышах подумаешь после войны, – сухо заметил Самарин.
– Какие же теперь барыши! – вяло согласился Флегонтьев. – Только бы живыми остаться, вот и вся выгода.
Самарин задумчиво сказал, когда мы вместе с Черенковым отошли в сторонку:
– Да, без метода индукции здесь не обойтись. Флегонтьева надо вести от частного к общему. Он же цели, идеи не видит.
– Может, еще обомнется… – Черенков попробовал было взять Флегонтьева под защиту, но тут же сердито добавил: – Да что ему обминаться? Здоровый, крепкий, как боров… Лодырь он – и все. – Юное лицо Черенкова выразило крайнюю степень негодования. Самарин промолчал.
Солнце скрылось, и сразу же выпал туман, стало холодно и сыро. Заволокло серой пеленой далекие горы, туман заполнил котловинку, откуда могли показаться танки, залил снятым молоком ходы сообщения, ячейки, окопы…
Бойцы с нетерпением ждали, когда кончатся занятия. Давно стихли разговоры, шутки. Наконец Черенков приказал строиться. Люди подравнивались молча, молча вытирали пот со лба, зябко поводили плечами.
– А ну, командуй песню! – приказал Самарин Черенкову. – Песня веселит.
Меня разбудили громкие голоса.
Как только я доплелась с полигона, так повалилась на койку и задремала. Даже позабыла задернуть занавеской окно, выходившее из комнаты Самарина на мою терраску, и оно выделялось ярко освещенным квадратом.
Самарин сидел на табуретке в гимнастерке без пояса, вымытый, и держал в замершей руке раскрытую книгу. Спина его была неестественно напряжена.
В дверях, натянуто улыбаясь, стояли начштаба Жолудев и какой-то немолодой младший лейтенант с седыми висками. Жолудев был несколько Смущен.
– Да, палаццо не очень роскошное, – говорил он, с легким пренебрежением оглядывая комнатушку с узкой, застланной шершавым одеялом кроватью. – А все-таки принимай, друг, гостя. Новый товарищ. Поселить пока негде… – Он показал бровью на мою террасу. – После переселим…
– Нет, я что же… Я не против… Я рад… – поспешно ответил Самарин, застегивая ворот гимнастерки. Он не смотрел в лицо Жолудеву, отводил глаза. Как будто врал он, а не Жолудев. Даже я понимала, что тот пальцем о палец не ударил, чтобы устроить нового лейтенанта в другом месте.
– Время военное, об удобствах думать не приходится… – Жолудев не договорил. Вытянув шею, он старался рассмотреть темный снимок в деревянной рамочке, стоявший на тумбочке. – Сохраняешь? – спросил он, стараясь вложить в эти слова как можно больше равнодушия.
– Так точно, сохраняю…
Мгновение они смотрели в глаза друг другу, потом Жолудев начальственно спросил:
– Ну что, достал новые погоны?
– Нет, ездил в военторг, еще не поступили.
– Эх, ты! – пренебрежительно укорил Жолудев. – Тогда лучше не попадайся «первому» на глаза. – Ловко, любуясь этой своей ловкостью, он откозырял, щелкнул каблуками, бросил на ходу приезжему лейтенанту: – Пока! – И только у самой двери задержался, еще раз оглянулся и сказал: – Устарелый снимок…
Самарин проводил его до порога, закрыл дверь, вынул из кармана кисет и вежливо осведомился:
– Надеюсь, вы курящий? А то я ведь курю.
Только теперь тот представился:
– Абрамов.
«Абрамов? Неужели это Абрамов?..»
Высокий, чуть сутулый младший лейтенант в новенькой, топорщившейся, только что со склада, военной форме, в фуражке с черным артиллерийским околышем, все еще казался мне незнакомым. Но эта стеснительная, чуть растерянная улыбка…
– Да вы садитесь. Я прикажу внести койку, – сказал Самарин.
Абрамов все еще стоял, как на вокзале, не выпуская из рук чемоданчика.
– Как-то я не думал, что попаду из училища в тыл. Я на фронт просился.
– На фронт!.. Еще погреетесь в Средней Азии, раньше чем попадете на фронт.
Абрамов разглядывал скромную обстановку, гитару над кроватью, стопочку уставов на полке, зеркальце, шинель на крючке. Взгляд его остановился на портрете, стоявшем на тумбочке.
– Это ваша жена?
Самарин покраснел:
– Нет, не жена. Я одинокий…
– И я одинокий. – Абрамов неловко пожал плечами. – Вернее, вдовец.
Внесли койку. Абрамов вынул из чемоданчика две-три книги, альбом с фотографиями, стопку носовых платков, бритву, мыльницу.
– И давно овдовели?
– Нет, недавно…
– А-а… – посочувствовал Самарин. – Дети есть?
– Девочки. Две… Пришлось их с бабушкой к родне отправить. Хотя сам-то я здешний. В городе у меня квартира. – Он показал на темный проем окна, за которым чернели деревья, как будто мог отсюда увидеть свою квартиру. – Я в газете работал.
Самарин встрепенулся.
– О, вот как! – сказал он с уважением. – Абрамов? Абрамов – это я знаю, из газеты. А у нас тут рядом тоже корреспондент живет. Женщина…
– Как же это? Интересно…
Я поправила волосы, всунула голову в окно и поздоровалась:
– Так это вы, лейтенант Абрамов?
– А это вы женщина-корреспондент?
– Я.
– Вы не забыли? Меня зовут Александр.
– Вы тезка моего сына. Разве я могу это забыть?
Когда я поступила здесь, в Средней Азии, на работу, девчонки из регистратуры, жалуясь на строгую дисциплин ну при новом секретаре редакции, прожужжали мне уши рассказами, как было хорошо и вольготно раньше:
«Абрамов был совсем не такой. Добрый, культурный, писал фельетоны как бог. И вообще романтик… После смерти жены ушел из газеты в журнал, чтобы по вечерам быть дома. Он сам укладывает спать дочек. И ни за кем не ухаживает…»
Однажды Абрамов привел к нам в редакцию на елку свою младшую девочку в алой плюшевой шубке, в красном капоре, с тоненькими-тоненькими ножками. Девочка недоверчиво смотрела на людей, жалась к отцу и уж никак не могла затмить моего сына…
Потом в редакции всех взволновало, что Абрамов поссорился с начальством и остался без работы. А значит, и без продовольственных карточек. Без карточек тогда было хоть пропадай! Негде поесть, разве только какую-нибудь требуху на Алайском базаре. И то за большие деньги!
Теперь Абрамов заходил чаще, и все наши ругали его, считая гордецом, который никак не хочет похлопотать за себя. Товарищи считали, что он сломился после смерти жены.
Я как-то позвала его в гости, у нас все-таки было полегче с едой, мне хотелось, чтобы он пообедал с нами. Но он обедать не стал, дичился, разговаривал только с одним Сашей. Бабушки смотрели на него и на меня неодобрительно, каждая сидела на своей кровати, сложив на коленях руки, и выжидала, когда он уйдет. Какой уж тут мог получиться разговор!
Провожая его, я все-таки сказала:
– Саша, надо бороться. Нельзя же так…
– Зачем? Я хочу только одного – в армию.
И вот он лейтенант. Младший лейтенант.
Абрамов сказал:
– Читал ваш новогодний рассказ в газете. Даже похвастал в училище, что знаком.
– Ругали?
– Нет, почему. Сюжет, конечно, условный, новогодний, но зато пейзаж, сосны настоящие…
– Это потому, что сосны я видела, а писать о войне, сидя в тылу, трудно. – И спросила: – Как ваши девочки?