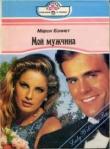Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
УМЕРЛА ЮРИНА МАМА
Повесть
Днем, пока дети в школе, в подъезде бывало так пусто и гулко, что слышен каждый шаг, каждый звук. Соседки сразу учуяли неладное. К кому же это постучали так громко? И кто вскрикнул? Не Ольга ли Парамонова? Конечно, она. И так же, как перед грозой и бурей внезапно пробегает по затихшей траве ветер и тут же тревожно начинают шуметь листья, шелестят и скрипят ветки на деревьях, так застучали и заскрипели, распахнулись тонкие фанерные двери, выскочили на лестницу женщины в шлепанцах, в домашних платьях, выбежала из своей квартиры Ольга, вся в слезах и красных пятнах.
– Юрина мама умерла, – жалобно пояснила она. – А Юра в экспедиции. Все собирался к ней в гости, так мечтал…
Ей сочувствовали, охали, спрашивали, сколько до Средней Азии ехать; выходит, на похороны все равно не успеть, даже самолетом, – так долго шла открытка. Почему открытка, а не телеграмма? Вроде теперь не девятнадцатый век… И про возраст покойной спрашивали. И кто-то облегченно вздыхал, – ну, возраст большой, ничего не скажешь. А кто-то сетовал, что для матери у сыновей никогда не хватает времени. Сбегали для чего-то в школу, сорвали с уроков Ольгиных детей, привели домой, и они топтались в квартире, полной чужих людей, смущенные и немного торжественные, и не знали, как себя держать и что отвечать на вопрос, помнят и жалеют ли они бабушку.
И там, в командировке, где был Юрий и где не скоро догнало его письмо жены, – он был в разъездах, выбирали место для строительства завода, – тоже все были испуганы, растеряны и, когда кто-нибудь из бригады, забывшись, начинал громко смеяться или вспоминал анекдот, на него шикали: мол, ты что, забыл, у Юрия умерла мать. И сам Юрий, подавленный, несчастный, говорил каждому, как бы ища защиты и поддержки:
– Мама была замечательная женщина…
Он все порывался рассказывать про мать, вспоминать, горячо оправдывался, что не смог уговорить ее переехать к нему жить. Она мягкая, но упрямая, ни за что не хотела. Конечно, надо было настаивать, просить. Но как было знать… Даже не написала, что больна…
– Да ее вся улица уважала, все соседи. И с производством она не порывала, хотя и на пенсии… Она еще в те годы, после войны, работала на тридцати восьми ткацких станках, гремела на всю Среднюю Азию, – с гордостью говорил сын.
– А ты что, разве ты из Средней Азии?
– Ну да…
– Вот не подумал бы. Из Средней Азии, а блондин…
Мать давно схоронили, торопиться ехать не было смысла, да и нельзя было прекращать работу – очень уж подпирали сроки. Он работал, как все, старался никому не навязывать свое горе, даже как будто стеснялся своего отчаяния. Все-таки уже немолодой, мужик, не мальчик.
Геодезистки и лаборантки сочувственно советовали:
– Поплачьте, Юра, вам будет легче. Вот выпейте валерьянки…
Он пил валерьянку. Он плакал. Выходил один в степь и плакал.
Все дети во дворе были до черноты смуглые, с блестящими глазами, с темными волосами, а Юрочка был светленький. И соседки очень любили его. Тискали, тормошили. Как-то спросили:
– И в кого ты, Юрочка, такой? Ни в мать, ни… Может, в отца…
Полина была хорошо настроена, шутливо подхватила:
– Нет, не в меня и не в отца. В проезжего молодца, что ли… Сама удивляюсь. Я шатенка, и Коля был шатен…
Соседки очень смеялись. И Юрочка веселился. И когда они теперь нарочно спрашивали: «Юрочка, так в кого же ты?» – он охотно кричал: «В проезжего молодца!» И заливался смехом.
Мать в конце концов рассердилась. Ей все-таки досаждали эти колкие намеки, настырные расспросы соседок. И упрекнула мальчика:
– Ты меня компрометируешь…
– Чего? – затруднился Юрочка.
– Ах, вырастешь – узнаешь…
Юра долго еще играл в проезжего молодца. Выламывал длинный прут или палку, воображал, что садится на коня, и скакал по полям, по горам, по дремучим лесам, которых никогда не видел. Но мать говорила:
– Поедешь в гости к папиной родне, – ух, там и леса…
– А когда?
– Как когда? Когда позовут…
И она начинала сердито греметь посудой.
Юрина мама никогда не сидела просто так, отдыхая. Под вечер, когда спадала жара, все женщины в тапочках на босу ногу, в сарафанах, а узбечки в ярких, блестящих, длинных, почти до земли, платьях собирались на улице. Мимо дома протекал арык, полный небыстрой, мутной воды, а все-таки от него веяло прохладой. Но Полина сюда выходила редко. Как возвращалась с фабрики, с работы, так сразу бралась за домашние дела – то стирает, то варит что-то во дворе на мангале. А то возьмет карточки и убежит отовариваться, наказав сыну:
– Ты, Юрочка, играй тут, где тети. С мальчишками не убегай, ладно? Пойду, может, на какой талон чего и соображу…
Юрочка был у матери единственным другом, главным собеседником. Она ему все рассказывала: и какая плохая пряжа идет у них сейчас в ткацкой, и какой вредный характер у мастера Зейкулова, и, наоборот, какой симпатичный и интеллигентный начальник смены Ирина Петровна.
– Она же видит, как я стараюсь, какое даю качество. Я так считаю, Юрочка, раз взялась, так надо делать хорошо, на «пять» с плюсом. Я и в школе училась на круглые «пять».
Иногда она подходила к облезлому зеркалу, выбирая среди тусклых пятен сверкающие островки, взглядывала на себя, поворачивала голову то вправо, то влево.
– Я еще ничего, верно, Юра? Да если бы я только глазом мигнула, так тот же Зейкулов… Но я не хочу. У меня сын. Ребенок. А они, – она кивала на окно во двор, где на корточках сидели возле мангалов женщины, – они хотят влезть мне в душу. Я не желаю. Может, у меня на сердце рана, но ведь не показывать же, у меня есть чувство собственного достоинства. Но ты, Юрочка, не чуждайся людей. Люди, коллектив – это все. Понял?
Юра кивал.
– Ты во всем дворе самая красивая. Это дядя Юсуф говорит. Он мне дал конфету и сказал: «Твоя мама якши…» Он мне еще принесет…
– Ты, Юрочка, не бери. Скажи: «Спасибо, у нас у самих есть…»
– А где?
– Что где?
– Конфеты…
– За этот месяц мы уже выбрали, а в том месяце еще дадут. Или посылку вдруг пришлют…
– А кто пришлет? – простодушно интересовался Юра.
– Как кто? Папина родня. А если на улице будут интересоваться, так и ответишь: мол, папина родня прислала…
Однажды Юра спросил:
– А какая она, родня? Кто это – родня?
Мать растерялась:
– Ну, бабушка – это родня. Дедушка. Дядья там, тетки. Мало ли…
Но родня все не звала к себе в гости и не приезжала. И конфет Юре не присылала.
Когда мать уходила на работу, Юра оставался один. Играл во дворе, лепил из глины домики, окруженные дувалами, вокруг втыкал веточки – получался сад. Купался с ребятами в арыке, бегал к толстой Фатиме вместе с ее детьми есть лепешки. Она давала большим ребятам по целой, ему и младшей своей девчонке, плаксивой Алиме, по половинке.
– Белый ты мой, солнце ты мое, – говорила Фатима. И радовалась, когда Юра в порыве благодарности обнимал ее за шею, утыкался курносым носишком в мягкую, как из ваты, грудь. – Якши, якши малчик, добрый малчик…
А иногда мама долго не приходила с работы. Уже вечер падал на землю, темной становилась их комнатка в глинобитном доме, из всех углов выползала темнота, как выползает из конуры лохматая большая черная собака. Юре становилось страшно. Не хотелось больше бегать, но он не шел домой, все равно скакал и скакал на коне, держась поближе к тому месту, где сидели взрослые.
Иногда женщины спрашивали, заранее зная, как он ответит:
– Ты куда едешь, беленький?
– В гости.
– К кому же это?
Юра прекрасно видел, как Лиза, соседка, подмигивает другим женщинам, скучнел, но все же отвечал:
– К родне.
– К родне? А какая у тебя родня, Юрочка?
– Папина.
– А ты ее видел? – спрашивала неумолимая Лиза.
Врать Юра не умел.
– А письма тебе пишут? А посылки шлют? Очень скрытная женщина твоя мама, да другие не глупее ее.
Но тут не выдерживала Фатима:
– Зачем грязной ногой в душу лезешь? Зачем ребенка тревожишь?
Иногда и другие соседки начинали заступаться:
– И правда, Лиза, чего ты? Какое тебе дело?
– Мне? – Лиза хохотала, закинув назад голову на худой, жилистой шее и тряся звенящими длинными серьгами. – Разве я что плохое говорю? Я и сама люблю Полинку, только зачем же скрытничать? Я принципиально…
– Хорошенькое «принципиально», – вмешивалась немолодая уже Катерина Ивановна, сдававшая комнату Юрочке с мамой. – Что было, мы не знаем, а что есть, видим. Живет честно, ребенка содержит прямо-таки в стерильной чистоте. – Катерина Ивановна работала в госпитале и любила щегольнуть ученым словцом. – Нет, Лиза, ты неправа…
– Что ж он тогда не вернулся? Похоронки Полина не получала, пенсии не имеет, придумала какую-то родню…
– Мало ли что бывает, – говорила Катерина Ивановна. – Ведь вон когда война окончилась, а у нас в госпитале до сих пор раненые лежат. Один память потерял, другой не хочет изувеченный домой возвращаться. Мало ли… Нет, ты неправа, Лиза.
Лиза продолжала хохотать, кидалась целовать Юрочку, но ему неприятны были ее поцелуи. Как будто змейку брал в руки. Ребята как-то велели подержать, но она вырвалась, и ему дали за это сильного тумака. На тумак он не обиделся, а от воспоминания, как змейка скользнула из рук, долго вздрагивал. Он подвигался ближе к Фатиме.
– Иди, иди ко мне, мой малчик будешь…
Фатима обнимала Юру, ему становилось тепло.
Потом все постепенно расходились, и Фатима уходила варить ужин своему Рашиду, и Лиза убегала слушать радио. Катерина Ивановна иногда вспоминала:
– Шел бы ты домой спать, милый…
Юра отвечал:
– Я маму подожду…
И он оставался один у арыка. Над арыком рос большой тополь. Шумел листвой. Бросал, как круг, темную тень. Юра сидел в тени, как в шатре, а на улице – в лунные вечера – было светло. И в арыке дрожала, отражаясь, большая звезда. Юра трогал прутиком воду – звезда расплывалась. Потом он сгонял обратно золотистую воду, и снова была звезда.
Мать прибегала, тяжело дыша. Еще издали слышно было, как топают по переулку деревянные подметки. Она сердилась на Юру, что не лег спать, уводила его в дом.
– Горе мне с тобой. Думала – только бы добежать, добегу и свалюсь, ни чаю пить, ни есть не стану. В цехе жара, духота, воздух тяжелый, влажный. Станки как взбесились, то тут обрыв, то там, всю смену от станка к станку пробегала, совсем не осталось сил… Но ты-то небось голодный…
И она тут же начинала хлопотать, разогревать ужин, разбирать постель. Постепенно успокаивалась, веселела.
– Это хорошо, что электричество больше не по лимиту. Я уж тут, на плитке, разогрею. Нет, ты подумай, Юрочка, какое счастье, ну куда мне среди ночи было бы мангал разводить… Это же красота – на электричестве… Письма нам не было?
– Лиза говорит, что ты, мама, скрытная…
– Конечно, скрытная. А что толку не скрытной быть? Ешь, милый…
Юра ел, что было, – то суп, то картошку, то макароны. Летом мать покупала большущие алые помидоры, лук, осенью дешевы были виноград, арбузы, дыни. «Это надо же подумать – твой папа всегда поражался, что картошка и виноград здесь в одной цене. Он просто смеялся. А я привыкла. У нас в Азии почва для картошки плохая и климат слишком жаркий, сухой…»
Юра любил картошку. И мать, накладывая ему, иногда механически говорила:
– Поедешь к папе на родину, он говорил, у них картошка рассыпчатая, с кулак каждая…
Когда Юра подрос, то перестал спрашивать: когда? И мать все реже вспоминала про родню. А к зеркалу стала подходить чаще, смотрела на себя с тревогой, подолгу, словно ждала ответа. Выдернула однажды седой волос и заплакала.
– Отгулялась я, Юрочка, все… – Потом утерла слезу со щеки, поцеловала сына и сказала: – На работе, Юрочка, я незаменимый человек. Прибавляют мне еще станки…
– А Зейкулов? – деловито спрашивал Юра. – Не возражает?
– Что Зейкулов! Утрется! Сама Ирина Петровна сказала: «Я чувствую, что ты, Полинка, свободно освоишь еще станки…»
Она в лицах изображала, как Ирина Петровна, солидная, в белой кофточке с перламутровыми пуговками под синим рабочим халатом, ласково спросила: «Ну как? Ивановские ткачихи уже дают такую цифру». И она, Полина, ответила: «Что ж, и мы не хуже людей». И пояснила сыну:
– Я ведь и заработаю больше, соображаешь?
Юра пообещал тогда, – он уже не был такой хорошенький, стал длинненький, тощенький, вытянулся:
– Я работать пойду, куплю тебе еще лучшую кофту. Вся в пуговках будет…
– Нет, Юрочка, тебе учиться надо. Был бы папка с нами, он бы тебя учиться послал. Станешь инженером, как папа собирался стать…
– Мама, – Юра решился, – а вдруг… вдруг он живой?
– Нет, Юрочка, если бы живой был, он бы нас нашел…
– Давай уедем отсюда, – горячо попросил Юра. – Уедем, где нас не знают, станем в другом городе жить.
– Дурачок, а если папка найдется?.. Может, он в плену был? Может, адрес потерял? Мало ли что! Вон какие случаи Катерина Ивановна рассказывает, и в кино показывали такой случай… – Она распалилась. – С высокого дерева плевала я на женские пересуды, понял? А папка очень обидится, если он приедет, а нас нет…
– Что ж он тогда родителям своим не написал про нас? – уже жестко спросил Юра. – Не приказал, чтобы они нас любили?
Мать ответила, как маленькая, тихо, боязливо:
– Не знаю, Юрочка…
Мальчик горделиво развернул плечи:
– А нам и не надо, правда? Нам и без родни хорошо, да?
Она так же покорно согласилась:
– Ничего нам от них не надо. Я думала, им внук, сына ихнего сын, нужен. А если так…
И она махнула рукой.
Вечером долго плакала, перебирая старые письма, одно прочитала сыну.
– Любил он меня, ты послушай, как он писал: «Дорогая моя Полина». – Она повторила: – Дорогая… «Сердце ты мое». – Мать заплакала. – Недолгое было мое счастье, Юрочка. А встретилась я с ним так… Я ведь из детского дома, сирота. Пошла на ткацкую, комнатку тут у Катерины Ивановны сняла. Если бы не война, Юрочка, я бы училась, но раз война… Работаю. Велели нам над ранеными в госпитале шефство взять. Стали мы ходить в палату. Махорки им принесем, ну, платочки постираем, посмеемся с ними, лекарство подадим. Что сестры велят, то и делаем… – Она чуть покачивалась на стуле, полузакрыв глаза. – Да что рассказывать? Полюбила я. И он меня полюбил… Мне старшая сестра сказала: «Я даже удивляюсь, какие чудеса любовь делает. Больной-то пошел на поправку». И верно. То одни глаза на лице были, такой худющий. А тут смеяться стал, краска на щеках заиграла. Возьмет меня за пальцы, держит. А у меня пальцы шершавые, ногти сбитые. А он, как никто на нас не смотрит, пальцы мои целует… – Она вдруг резко встала. – А-а, что вспоминать, недолго все длилось, но что бросил он нас – вранье. В загс, правда, не успели сходить, но он сказал: «Ты моя жена. Буду жив – под землей найду». Значит, нету его в живых. А я все равно жду. Жду и жду. Так что, Юрочка, Лизе не верь, просто не хочется мне свою душу наизнанку перед всеми выворачивать. Ты самый что ни на есть законный, ты – дитя любви. А что нет у меня мужа, так мне и не надо…
– Мам, а можно я буду твой муж?
– Дурачок, ты же мой сын…
Мать, понятно, не выдержала и рассказала Катерине Ивановне о том, что предложил Юрка, а та рассказала другим. И долго потом женщины во дворе потешались над ним. Даже его любимая Фатима.
– Молодой еще, глупенький еще. Вырастешь – не захочешь с мамой спать. Захочешь спать с молодой девочка…
Юра, сам не зная почему, вспыхивал, заливался краской. Злился на мать, что все разболтала.
Сам Юра с возрастом становился более замкнутым, сдержанным, стал не таким ласковым, как был. Сердился на мать, что произносила иногда выспренние слова. Когда пришло время вступать в пионеры и Юра заговорил о том, что ему надо знать свою биографию, знать, кто его отец, мать неосторожно посоветовала:
– Так и говори: ты – дитя любви. Тебе стыдиться нечего…
– И откуда ты слова берешь такие дикие? Дитя любви!
– А в книжке встречала…
– В какой? Какое-нибудь допотопное старье?
– Это верно, – согласилась мать. – Книжка была старая, потрепанная. Еще в детском доме когда жили, девчонки откуда-то принесли…
– Понятия какие-то истасканные…
– Почему же, Юрочка, истасканные? Дитя – это самое обыкновенное слово. А любовь? Любовь тоже не устарела. Любовь – вечное чувство. Вот полюбишь сам…
– Ну, этого-то никогда не будет! – закричал Юра злобно. – Вот этого-то уж и не будет…
– Не кричи, не клянись. Жизнь сама покажет…
Юра швырнул карандаш на стол, всхлипнул, грубо, как никогда раньше, крикнул матери: «А ну тебя с твоей любовью!» – и выскочил из комнаты.
Полина пожаловалась Катерине Ивановне. Та уж совсем старая стала, на работу не ходила, сидела дома. Ведь все равно слышит через тонкую стенку каждое слово, разве от нее скроешься? Катерина Ивановна рассудила:
– От возраста это. Подросток. Переходный возраст.
Полина очень опечалилась.
– Был бы отец, разве Юра такое закричал бы? Нет, Катерина Ивановна, у него сомнение на мой счет бродит. А разве я заслужила? Если хотите знать, я имела серьезные предложения, но всех отринула, чтобы у Юрочки отчима не было…
– А зря, – покачала головой Катерина Ивановна, – зря ты свою жизнь загубила. – И как будто небрежно спросила: – Это ты про Юсуфа?
– Что вы! – Полина даже испугалась. – При чем тут Юсуф? У него жена, дети. Нет, это другой человек, но я отвергла…
– Выпороть-то Юрия следовало бы, чтобы не дерзил, – задумчиво посоветовала Катерина Ивановна.
– Что вы! Да он сильнее меня…
– Мужчин можно попросить. Хоть того же Юсуфа…
– Нет, Катерина Ивановна, – твердо сказала Полина, – так я своего Юру не унижу, лучше умру…
– Ох, натерпишься…
Несколько дней мать с сыном дулись друг на дружку, потом жизнь как будто вошла в свою колею. Мальчик явно жалел, что нагрубил матери, тщательно стал прибираться в доме к ее приходу и даже выстирал как-то чулки и платье, вывесил сушить во дворе на веревке.
Полина пришла с работы, так и ахнула:
– Что это ты, Юрочка? Это же не мужское дело.
– А какое?
– Женское.
– А у мужчин что, рук нет?
Вещи давно высохли на жарком солнце, а Полина все не снимала, любовалась, как картиной, этими коричневыми бумажными чулками, этим пестрым ситцевым платьем. Нарочно пошла к Фатиме попросить горячих углей для утюга – у той как раз топился мангал. Не в силах не похвастать, сказала с гордостью:
– Юрий постирал. Я пришла с работы, а белье уже сохнет…
Фатима расчувствовалась, и большие ее, круглые, как намазанные маслом, глаза заблестели от слез.
– Золото – не сердце. Золото – не малчик. Ай-ай, якши малчик! Жалеет мать. А что еще надо? Покой и здоровье, ничего больше не надо…
А самому Юре мать сказала доверительно, когда сели ужинать:
– Ты, Юрочка, правильно делаешь, что жалеешь меня. Уставать я стала. Видишь, кожа на лице уже не та, волос другой стал, не блестит, не вьется. А почему? Дум много. Вырастить, выучить тебя хочется, чтобы был хорошим человеком. Это моя главная идея. И о производстве думаю. Я, Юрочка, нашу родину от всего сердца люблю. Понимаешь? Хочу своим трудом для нашей родины все, что в моих силах, сделать. Мне говорят: «Ну что ты, Полинка, стараешься? Ты стараешься, а расценки снизят, тогда что? Тогда большинству урон». Или, мол, нормы повысят. Но ведь вся наша жизнь повышается, все темпы растут, почему же мы должны отставать? Так, Юра? Ты учишься, тебе государство завтрак в школе дает, меня на доске Почета повесили, а я должна быть неблагодарной и бесчувственной? Нет, так не пойдет. Зейкулову что? У него свой участок, его жена на Алайский базар персики корзинами носит. Он смену отработал, бежит скорее к себе на участок, в свой сад… А я вся тут, на производстве, со всеми потрохами, со всей душой… Конечно, трудно. Устаю. Побегай смену возле стольких-то станков, шутка? А хочется. И еще вот ученицу мне навязали, Машу Завьялову. Хорошая девочка, но боязливая. Не знаю, обучу ли.
– Ты ведь говорила, она старается…
– Стараться-то она старается…
Мать часто теперь рассказывала Юре о Маше Завьяловой. Юра даже немножко ревновал. И спрашивал:
– А какая она?
– Как это какая? Обыкновенная. Косы у нее…
И все обещала напечь беляшей и позвать Машу в гости, да почему-то не звала. То муки не было, то денег на мясо. А однажды, когда Маша явилась, Юры не было – уехал в пионерский лагерь.
Но в Юрину жизнь она уже вошла прочно, Маша Завьялова, как входили раньше то проезжий молодец, то дремучий лес из сказки, то таинственная папина родня, которая хоть и знать их не хотела, но все же где-то существовала. Ведь только эти люди, родственники, они одни могли сделать фигуру отца реальной, показать дом, в котором он рос, картошку величиной с кулак, которую отец любил, книги, какие он читал.
Мама мало что могла рассказать Юре про отца, все жалела, что его, такого молоденького, ранили; ох, как он ужасно мучился! Но был мужественный, страдал молча, не стонал, только кусал губы. И мама, когда приходила на дежурство в госпиталь, смачивала ему водой эти искусанные, растрескавшиеся губы. И тоже молча сидела около него. Он просил: «Расскажите что-нибудь». – «А я ничего не знаю». – «Ну, про детство свое расскажите». – «Я из детского дома, – отвечала мама. – Я сирота». Он закрывал глаза. Ресницы были длинные, «как твои, Юрочка, только черные, густые и красивые, как у женщины». Того, что имело значение для мамы, как он погладил ее исцарапанные руки, как предложил: «Говорите мне «ты», Полина, меня Коля зовут, Николай», – Юре было мало. Ну, хорошо, учился на инженера, а по какой специальности? На каком факультете? Мать не знала. То, что отец пошел добровольцем на фронт, когда мог доучиваться, нравилось Юре. Но ведь тогда все сражались за родину. Он уже наизусть знал все отцовы любовные письма и записки к маме, – писались они наспех, полны были заботы о ней, жалости, тревоги. О себе отец, когда уехал из госпиталя, сообщал скупо. Нет, Юра все-таки хотел бы разыскать папину родню. Хотел подробнее узнать про отца. Он даже ходил в военкомат выяснить, куда можно написать, как навести справки. Долго стоял в коридоре, пока не попал к военкому. Тот сказал грустно:
– Данные – откуда, кто – есть?.. Ой, мальчик, мальчик! Всю Россию война перекорежила, разве найдешь? Но мы запрос пошлем. Только не обнадеживайся. Оставь адрес…
Юра оставил, но ответа все не было и не было.
Мать вспоминала теперь отца реже, хотя не раз, приходя с работы, спрашивала взволнованно:
– Почтальон со двора выходил, не от нас?
– А кто нам будет писать?
Она уже не отвечала, как прежде, «папина родня», говорила:
– Ну, кто-нибудь…
На это Юра не отзывался. Иногда, чтобы отвлечь мать, спрашивал:
– Ну, как там твоя Маша?
Мать охотно рассказывала про ученицу:
– Такая дурочка, всего боится. Тут из пряжи выскочила мышь, так она подняла крик, люди сбежались. Зейкулов уж ругался-ругался, что всех переполошила…
Юра интересовался:
– А успехи как?
Мать перебивала:
– Ты лучше про свои успехи доложи. Не хулиганничаешь на уроках?
Юра только плечами пожимал, не снисходил до ответа.
– И откуда она взялась, твоя Маша?
– Как откуда? От отца с матерью. Отец инвалид войны, мать в магазине работает. Может, тебе еще про деда с бабкой анкету заполнить?
Юра обиделся. И сказал задумчиво:
– Вот у всех есть родня, есть корень – одни мы…
– Да разве я виноватая… – Мать тряхнула головой. – Соберусь с деньгами, платье красивое крепдешиновое сошью, вот зуб себе золоченый вставлю, может, и поеду к ним… познакомиться…
– Вот еще, ради них наряжаться…
Но мать ответила твердо:
– Ну нет, чумичкой, без зуба, куда я покажусь! Только себя срамить.
– Тогда я один поеду, – вдруг решительно сказал Юра.
Мать даже засмеялась.
– А во сколько дорога встанет?
– Не дороже денег…
– А деньги где возьмем?
Юра промолчал.
Но осенью, когда класс поехал на уборку хлопка, работал как взрослый и еще остался на уборке, когда школьники уехали; сколотил нужную на билет сумму, сказал небрежно матери:
– Поехать посмотреть, что ли, на эти дремучие леса, где папина родня…
– Как же ты один поедешь?!
– Ну и что? Не маленький. Я по карте уже весь маршрут изучил…
Тогда мать решила, что надо устроить «прощальный вечер» – купить селедочку, немного винца. А кого звать? Круг соседок во дворе поредел. Давным-давно уехала эвакуированная Лиза, причем расстались с ней друзьями: Лиза в три ручья ревела, Полина даже пошутила, что арык выйдет из берегов. Но и сама плакала. Долго стояла у калитки, пока отъезжала подвода с вещами. Вторая Лиза получила по ордеру комнату в другом месте. Фатима с мужем, молчаливым узбеком в полосатом халате, в белоснежной рубахе, распахнутой на коричневой груди, купили дом под городом. Фатима раза два приходила, хвастала: «Персик – пять деревьев, гранат – три, урюк, яблоко, один большой груша столько фруктов дает, как целый ларек. Муж на работу ушел, Фатима под дерево лег, пьет кок-чай. Одно горе, одна беда – скучаю без тебя, Полин, скучаю без твой Юрочка». Потом, видимо, привыкла, перестала ходить. Юсуф привез из района свою жену, обходит и Полину, и Юру стороной.
Осталась одна Катерина Ивановна, а то все соседи новые да чужие. Ну, позвали Катерину Ивановну, зачем-то пригласили мастера Зейкулова, уважили его, позвали Машу Завьялову. Кое-кто из соседок зашел. Подоспел Яков Иванович, слесарь. Принес заказанный Полиной ткацкий крючок. Его тоже пригласили к столу. Катерина Ивановна жалела, что не затеяли плов, она любила вкусно поесть, любила гостей, застолье.
– Я так считаю: хоть день, да мой, – проповедовала она. Катерина Ивановна уже давно продала комнату с террасой, потом продала вторую, а деньги проела. То курочку купит на базаре, то масла. Теперь надеялась, что, как только Полине с сыном дадут жилплощадь от производства, она въедет в их маленькую комнатку, а свою – большую – тоже продаст. – Как медицинский работник, я знаю, как мало стоит человек. Какая-нибудь инфекция, микроб поганый или этот ужасный рак, канцер, как мы говорим, – и нет человека. Так лучше я буду вкусно питаться и не думать о завтрашнем дне…
Но Полина не соглашалась, у нее был свой довод:
– У меня ребенок, Катерина Ивановна, я такой беспечной, как вы, быть не могу…
Как прошел вечер, что говорили люди, Юра не видел и не слышал. Смутно помнил только, что сидела за столом молчаливая, застенчивая девушка Маша Завьялова, разглагольствовал мастер. Мать всем объясняла, что Юра едет в гости к родне. Что ж, пусть людей поглядит и себя покажет, это и для развития хорошо – проехаться по железной дороге.
– Ни сына своего, ни жизни своей мне стыдиться нечего… – Полина явно бросала вызов, как будто ее могли услышать там, куда ехал Юра. – Ты это, сынок, помни, достоинства не теряй. Предложат тебе на обратный билет – бери, нет – и своими обойдемся…
– Вот с этим я не согласна, – возмутилась Катерина Ивановна и оправила на себе шарф, как будто изготовлялась к бою. – Как это так? Если да если предложат… Ты, Юрий, должен прямо сказать: «Дайте денег на обратную дорогу…»
– Я не корыстная, нет, – признавалась раскрасневшаяся Полина. – Если люди ко мне с добром, то и я к ним добрая. Вот Яков Иванович мне какой рабочий инструмент изготовил – красота. Нам ведь что выдают? – Она расхрабрилась: – Ты слушай, Зейкулов, слушай, мастер. Разве можно сравнить? В том, что на производстве выдают, и упругости никакой нету, отверстие шершавое, с заусеницами, так и обрывается нить. Ну разве я не поблагодарю Якова Ивановича? Вот с получки сразу и отдам, а то на Юрку истратилась. Вы уж не сомневайтесь, Яков Иванович, при всех говорю…
Яков Иванович обиженно мотал головой.
– Я делал любовно, полировал и рукояточку как раз по вашей ладони угадал. Так разве ж за деньги? Я так… Что вы…
– Как же это просто так? – отказывалась Полина. – Вы же меня выручили. Ведь когда одновременно обрываются десятки нитей, а их надо завести как можно скорее, тогда крючок все решает. Тут уж за деньгами не постоишь, от них рабочее настроение зависит. Верно, Маша?
– Верно, тетя Поля.
– Вот видите, – засмеялась Полина, обводя гостей своими кроткими карими глазами и подвигая поближе то винегрет, то большую миску оплывающего на жаре, словно живого, холодца. – Кушайте, кушайте, не стесняйтесь. Кончилась моя молодость, то все Полиной звали, а теперь уже тетей Полей зовут…
Она высоко подняла большую бутылку красного портвейна, стала наполнять рюмки. Яков Иванович свою закрыл ладонью.
– А я не согласный, – хмуро бубнил он. – Какие же вы старые, Полина Севастьяновна, вы в самом цвету, то есть, как до войны говорили, розан…
– А как не стариться? – не слушала его Полина. – Производство трудное, шум, работа в три смены… Станки разболтанные, у каждого станка свой характер, свои капризы, несмотря на механизм одинаковый, попробуй приноровись…
– Я тебе давно советовала, – чуть свысока, удивляясь Полининой глупости, сказала Катерина Ивановна, – поищи, где легче…
– Как же, Катерина Ивановна, у нас заработок высокий, я привыкла. Все говорят – шум, – а я и не слышу. Вы мне Машу не пугайте, – сказала она. – Не слушай их, Маша, хорошая наша работа, интересная… Верно я говорю, мастер?
Зейкулов вдруг обмяк:
– Говоришь-то ты верно и работаешь хорошо. Только характер у тебя вредный, умная чересчур… Умнее мужчин, умней, чем начальник, хочешь быть. Так тоже нельзя. Лучше живи тихо, живи смирно…
Тут снова взорвалась Катерина Ивановна:
– Полина умная? Да глупее ее нет! Все для других, все для справедливости. А надо жить для себя… вот как я…
Наконец и «прощальный вечер» остался позади, и само прощание, и проводы, и вокзал, и уже отрезанное от Юры раскалившейся на солнце стенкой вагона, видное через окошко, отчаянное в своей попытке улыбнуться лицо матери. Она что-то говорила, не слышно было – что, и от этого сердце мальчика стискивалось от страха и боли: казалось, что у матери нет сил подать голос. Юра никогда еще с нею не разлучался.
Ему стало вдруг страшно, до ужаса, до испарины. Куда он едет? Зачем? Взмокшими руками он вцепился в раму окна, в какие-то ремни, стараясь устоять на месте, не выбежать, не выскочить обратно на перрон. А сам храбрился, усмехался, подмигивал матери – мол, ничего: «Мы едем, едем, едем в далекие края».
Она не могла понять, кричала в волнении: «Что? Что?» – это угадывалось по движениям ее губ. Юра стал писать пальцем в воздухе: «Мы едем, едем…» – но мать отчаянно мотала головой: мол, нет, нет, не разбираю! И вдруг откровенно зарыдала, не отворачиваясь и не утирая слез.
К счастью, поезд дернулся и покатился. Юра не сразу понял, колеса стучат или его собственное сердце. Постоял у окна, пока не проехали город и пригороды, куда он не раз ездил с ребятами на экскурсии в ближние горы. Весной все склоны покрывались мелкими яркими тюльпанами, он всегда привозил матери большие букеты.
Поезд весело устремлялся все вперед и вперед, расталкивая плотную пелену зноя. Страх куда-то отступил, так прекрасно, ново и заманчиво было вокруг. И когда он вошел в купе, сел на полку рядом с авоськой, в которой лежали огромные ленивые дыни, приятным холодком остудившие его горячий локоть, сосед-старичок спросил: