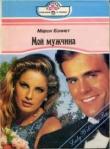Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц)
Осенним днем в парке
В КОМАНДИРОВКЕ
Рассказ
Уже перед самым отходом поезда Кущ вспомнила, что не взяла папку с выписками из личного дела Пелехатого. Она досадливо повела плечами, но ничего не сказала спутнику. Ефимочкин, худощавый, узкогрудый, в очках, в кургузой курточке, походил скорее на серьезного мальчика-шахматиста, чем на солидного работника треста. Он долго устраивался на своей полке, потом достал из чемодана книгу, комнатные туфли и уселся.
Поезд медленно плыл вдоль перрона. В последнюю минуту в купе вбежал мужчина в кожаном пальто, в руках – огромный портфель с застежкой «молния». Он плюхнулся на диван, отдышался и бодро сказал:
– Ну, тронулись-двинулись! Чуть не опоздал… А-а, старые знакомые!..
Фамилию этого человека Кущ позабыла, хотя помнила, что он работал у них в тресте и уволился вскоре после того, как она туда поступила. Фамилию назвал Ефимочкин:
– Кривцов! Откуда? Куда?
– В Балашихинск. И вы? Какое совпадение! – Кривцов жизнерадостно захохотал.
Кущ вышла в коридор к окну.
Простирались по-сумеречному печальные, прихваченные заморозками поля Подмосковья. Сады уже облетели, облиняли, утратили пеструю осеннюю красу. Все отцвело, опало, буграми лежала на огородах развороченная земля, валялись веревки увядшей картофельной ботвы.
Пейзаж был унылый, как будто в природе остались только две краски – черная и серая, но он не нагонял тоски. Кущ было весело и хорошо. И даже мысль о забытой папке не могла испортить ей настроение.
Командировка радовала ее.
Поезд бежал все быстрее. Темнело. Тьма проглатывала поселки, колодцы, дачные платформы, палисадники. В далеких домиках зажглись редкие, одинокие огоньки. Ели подступили к железнодорожной насыпи, вытягивая свои мохнатые лапы…
В купе Ефимочкин расспрашивал Кривцова:
– Что же вы теперь делаете?
– А что делать бедному крестьянину? Ха-ха-ха… Читаю лекции. От Общества по распространению… Меня всегда тянуло к теории. Вы же помните…
Ефимочкин нерешительно подтвердил:
– Ну да… – И спросил: – Но что это вам дает как экономисту?
– Как что? Ясно, как разжеванный апельсин. Кругозор, наблюдения… И заработок неплохой. А вы зачем в Балашихинск? Позвольте, Балашихинск – это же вотчина Николая Павловича Викторова…
– Была. И может быть, скоро опять будет…
– Это же прекрасный мужик, Викторов!
Кущ не увидела, а скорее почувствовала, как Кривцов глазами и движением бровей показал на нее, и Ефимочкин, отзываясь на его немой вопрос, ответил:
– Вот с Александрой Александровной Кущ, нашим инспектором по кадрам, едем на его бывшую фабрику.
– Кто же теперь директор?
– Некто Пелехатый…
– Пелехатый? Не слыхал, не знаю.
Ефимочкин пожаловался:
– Будь он неладен, этот Пелехатый! Я собирался идти сегодня на «Плоды просвещения». Билеты купил…
– Что ж, нельзя было отложить поездку? Такая срочность? – беспечно спросил Кривцов. – Не сгорела бы ваша балашихинская фабрика за одни сутки… Да и вообще… Подумаешь, какое грандиозное предприятие! Какое уж там значение имеет их продукция в общем плане треста!
– Да, фабрика маленькая, невзрачная, а вот подите, Викторов рвется обратно…
– Ну, он известный энтузиаст… Если бы не он, никто бы и не знал про эту балашихинскую фабрику.
«Он прав, – подумала Кущ, прижимаясь лбом к холодному стеклу и наблюдая, как над вершинами сосен появляется бледный молодой месяц. – Он прав, этот Кривцов. Продукция балашихинской фабрики действительно занимает очень малое место, или, как принято говорить, имеет малый удельный вес в общем плане треста. Верно, если бы не Николай Павлович, никто бы и не вспомнил об этой фабрике».
Она с удовольствием слушала, как хвалят Викторова.
Кущ мало с кем дружила в тресте. Среди сослуживцев она слыла сухой и замкнутой. Она не без гордости замечала, что ее даже побаиваются, – хотя какое же она начальство? Если приходилось заглянуть во время перерыва в буфет, прекращался хохот и шутливое ухаживание за молоденькими машинистками и никто не задерживался там после звонка. Если ей нужна была справка, сотрудницы переставали улыбаться и переговариваться между собой, принимали деловой, озабоченный вид. Ну и что ж? У нее не было ни времени, ни охоты на болтовню и пересуды.
Исключение Кущ делала только для Викторова. Из всех директоров предприятий, приезжающих в трест, она отличала его одного.
Викторов нравился ей своей простотой, даже грубоватостью, прямотой, энергией. Как будто степной ветер врывался в душные коридоры треста, когда появлялся этот шумный, веселый, напористый директор фабрики. Всем говорил «ты», всех называл по именам, угощал сливами и яблоками из своего сада. Он хвалился: «У меня жена – мичуринец. Снимает богатый урожай…»
Старые сотрудницы говорили, что раньше он был просто неотразим. Теперь чуть потолстел, огрубело лицо, поредели русые, мелко вьющиеся волосы. Но и теперь еще он выглядел молодцом – пышущий здоровьем, с богатырскими плечами, беспечный, веселый, щедрый.
Когда «балашихинский патриот» приезжал и в коридоре раздавался его зычный голос, Кущ с нетерпением ждала, что он войдет в ее узкую комнатку, заставленную шкафами и ящиками с карточками. Он обязательно приходил, приносил ей яблочко и говорил: «Самое лучшее для вас, Шурочка… пардон… извиняюсь, Александра Александровна».
Он шутил, балагурил, хохотал.
Но сотрудники не давали ему посидеть с ней, теребили его, звали, торопили. Он всем был нужен.
Викторов частенько поругивал начальство за то, что недостаточно поворачивается лицом к производству, но, странное дело, начальство все же любило его.
Если надо было докладывать в главке и на доклад вызывали с мест директоров больших предприятий, управляющий обычно включал в список и руководителя маленькой балашихинской фабрики. «Давай, давай! – подбадривали Викторова на совещании. – Послушаем голос из провинции. Интересно». Викторов, лукаво щурясь, почесывал затылок. «Что ж, но поимейте в виду – я буду критиковать невзирая на лица!» Управляющий слушал его пересыпанную шуточками и прибауточками критику, крякал, поднимал брови, крутил головой, как бы говоря: «Ну и дает, чертяка, ну и дает!..»
Викторов часто бывал в тресте – то на совещаниях, то на слетах. Его включали в бригады по изучению опыта передовых предприятий или в комиссии по обследованию. Он безропотно соглашался. Только изредка забегал в плановый отдел, просил: «Братцы, какие там сведения с фабрики? Что там у меня? Не жизнь, а карусель. Закружился с вашими чертовыми обследованиями. Вы уж меня не режьте».
Интересы своего предприятия Николай Павлович отстаивал страстно, с пылом. Ему не «завышали» план, охотно «подбрасывали» в конце квартала лимиты и фонды, а уж сырье он всегда добывал в полном ассортименте.
Викторова жалели. Жалели, что талант такого хозяйственника попусту гибнет на маленькой и старой фабричке с допотопным оборудованием, и очень обрадовались, когда стало известно, что его решено перебросить на большую фабрику, оснащенную современной техникой, одну из лучших в системе треста.
Но сам Викторов почему-то не обрадовался. «Эх, неохота мне из Балашихинска уезжать! Ой, до чего неохота! Вдруг еще не справлюсь на новом месте?» Это он сказал управляющему. Тот усмехнулся: «Скромность, она, конечно, украшает, но…» – «И Глафира моя может не захотеть. Это же надо знать, какая упрямая женщина!»
Управляющий захохотал: «У всех есть свои Глафиры. Ничего, Николай Павлович, не робей. Посоветуй лучше, кого можно выдвинуть на твое место. Кто с тобой работал? Пелехатый?»
Вот тогда Кущ впервые обратила внимание на эту фамилию – Пелехатый.
…Поезд, замедляя ход, приближался к станции. По стеклу замелькали золотые отблески огней.
Ефимочкин позвал:
– Что это вы уединились, Александра Александровна? Давайте пить чай.
Кущ вошла в купе.
Кривцов, искоса поглядывая на нее, на мгновение умолк, стараясь казаться серьезным. Он еще не знал, как будет держать себя Кущ: так же, как в отделе кадров, неприступно и сухо, или как-то по-другому. Но Кущ посмотрела на него благодушно и даже милостиво, спросила, как бы укоряя:
– Значит, бросили нашу систему?
– Да, вышел на океанские просторы.
Кривцов оживился, улыбнулся. На лице его, где странно сочеталась девичья нежность с синевой быстро растущей жесткой бороды, обозначились ямочки.
– Я ведь поссорился с шефом, вы знаете… Вдрызг. Не хотел меня отпускать. Но я… откровенно говоря, натура у меня широкая, в аппарате мне тесно.
Добродушное самодовольство, горделивое сознание собственной значительности, сквозившее в каждой черте Кривцова, мешали ему оставаться спокойным, незаметным. И когда поезд пошел, он снова сказал свое любимое: «Ну, тронулись-двинулись. Что остается делать бедному крестьянину? Надо закусить». Самодовольство выступало из каждой поры его существа, как выступал нежный, прозрачный жир на розовой семге, которую он достал из промасленной бумаги.
Кущ тоже взяла из сумочки свои завернутые в целлофан бутерброды с тусклой копченой колбасой, купленные на вокзале. Ефимочкин аккуратно разложил на салфетке взятую из дома снедь, стал разрезать хлеб на тонкие, ровные ломтики.
Он смущенно угощал:
– Прошу вас… тут котлетки свежие… пирожки… пожалуйста…
Кущ спросила у Кривцова:
– О чем же вы читаете лекции?
– Переключился на моральные темы… Но разработаны они у меня оригинально, не шаблонно… Я не люблю, когда все ясно, как разжеванный апельсин… Я ставлю перед собой задачу…
Вид у него вдруг стал озабоченный, напряженный, он быстро встал, перевесил на другой крючок пальто – подальше от разложенной еды, повернул его подкладкой наружу, любовно огладил мех на пыжиковой шапке и даже потрогал зачем-то «молнию» на портфеле.
– У меня склонность к обобщениям… Это мой конек… «Хобби», как говорят англичане.
Какая-то мысль осенила его, он стукнул себя по лбу и выхватил из карманчика автоматическую ручку.
– Это надо записать. Идея! Это же замечательный факт, новое явление в психологии советского человека: привязанность к своему месту работы. Колоссально! Я приведу этот пример в своей лекции, честное слово!
– Он даже похудел, Николай Павлович, на новом месте, так болел душой за Балашихинск, – рассказывал Ефимочкин. – Чудак! Писал, звонил, телеграфировал, жаловался. Ко всем приставал: «Думаете, моя Глафира переехала? И не собирается даже! Живу на холостяцком положении». Обращался к управляющему, но тот…
– Шеф не любит отменять собственные приказы, о нет! – подтвердил Кривцов. – Если сказал – все!
– Вот именно, – согласился Ефимочкин. – Но тут уж Макаров, начальник планового отдела, помог… подлил масла в огонь: подсунул сводку именно в ту минуту, когда управляющий сильно не в духе вернулся из главка.
Кущ не нравился этот разговор. Она лучше других была осведомлена, что произошло в кабинете управляющего. Управляющий согласился с Макаровым потому, что остро встал вопрос о выполнении плана всеми предприятиями без исключения, и потому еще, что повысились требования к качеству и ассортименту.
Устало почесывая затылок, управляющий сказал: «Надо заняться этими маленькими фабричками, будь они прокляты!» – и уставился на жирно подчеркнутые красным карандашом показатели балашихинской фабрики…
«Так Викторов же слезами плачет, просится назад. – Макаров взмахнул руками и всей своей угловатой фигурой сделал движение, будто хочет взлететь. – При Викторове фабрика гремела. А при Пелехатом, вы меня извините…» – «Ну что ж, я не возражаю. Надо это предприятие поднимать. – Управляющий вдруг внимательно посмотрел на Кущ и распорядился: – Вот вы и поезжайте, товарищ Кущ. До каких пор, понимаете, будем терпеть? Надо снимать этого прекрасного Пелехатого. Надо на его примере научить других уважать государственную дисциплину. Возьмите с собой инженера – и с богом!»
Кущ даже растерялась. Снимать директора должен был, по сути дела, заместитель управляющего, ну, в крайнем случае, главный инженер. Пусть даже маленького директора, плохого… И то, что управляющий поручил это ей, было признаком доверия и уважения. Ей не могло не льстить такое серьезное, ответственное поручение.
Конечно, она могла бы рассказать обо всем этом больше, чем Ефимочкин, если бы считала уместным обсуждать деловые вопросы в вагоне с посторонним человеком.
Ефимочкин заметил ее нахмуренные брови и попытался изменить тему разговора, но Кривцов пел как соловей, ничего не видя вокруг:
– Ну, а Пелехатый? Как же я его не помню? Старый, молодой?
– Пожилой, пожалуй, даже старый, – после некоторого колебания ответил Ефимочкин. – Он был недавно в тресте, но впечатления ни на кого не произвел. Молчит, слушает, не возражает, обещает выправить положение… Как будто там можно выправить положение без дополнительных капиталовложений! В общем, не чета Викторову. – Он покосился на Кущ. – Можно сказать, серый человек.
– Так это же ясно, как разжеванный апельсин, – с апломбом заявил Кривцов. – На современном этапе хозяйственник должен иметь ярко выраженное лицо. Директор, который не выдвигает проблем, не поднимает вопросов, – это не руководитель, не фигура. Это наш вчерашний день. О, у меня нюх на людей! Ведь Викторова я открыл… Вот с ним можно делать дела. Он откликается на каждое мероприятие, чуткий, как мембрана… Я Викторова буквально продвигал, буквально тащил…
Кущ сухо заметила:
– Викторов не из тех работников, которых надо тащить.
Ей почему-то вспомнилось, как она вышла из кабинета, получив распоряжение ехать в Балашихинск, и в коридоре увидела Викторова. Как мальчишка, которому обещан билет в цирк и он не верит своему счастью, Николай Павлович спросил шепотом, беря ее под руку и хитро щуря узкие голубые глаза: «Ну как? Выходит дело, живем? – И попросил, тесно прижимая локоть: – Вы уж там не делайте слишком строгих выводов. А? Я ведь вашу непримиримость знаю… Все-таки он симпатичный старик, Пелехатый. Останется при мне, как и раньше, заместителем, со мной он еще потянет». И засмеялся так заразительно громко, что Кущ не могла не улыбнуться.
Она вспомнила, как он в порыве чувств прижал ее локоть, и по спине ее пробежал холодок… Уже захрапел на верхней полке Кривцов, стих Ефимочкин – до этого он долго, как мышонок, шуршал в своем углу жестким одеялом, а она все не спала.
В жизни ее было мало радостей. Командировка, да еще такая ответственная, явилась для нее большим событием. Что-то новое, интересное вошло в ее жизнь. Она была честолюбива, служебный успех окрылил ее. У нее ведь не было сейчас других интересов…
После войны муж не вернулся в семью, остался с вертлявой медсестрой, которую встретил на фронте. Кущ глубоко затаила обиду, никогда не жаловалась на свое одиночество, одна растила детей.
Соседка по квартире, веселая блондинка с двойным подбородком, не раз укоряла ее: «На вашем месте я бы уже давно вышла замуж… У вас фигура хорошая. Вы занимаете определенное положение, у вас две комнаты…» Кущ отшучивалась, делая вид, что она довольна своей жизнью: «Я не гонюсь за новым ярмом. И, кроме того, за мной никто не ухаживает». – «Ухаживайте сами, разве теперь ждут, пока мужчина начнет ухаживать!»
Кущ с соседкой не дружила, считала ее мещанкой. И с детьми у нее не было особой близости. Она воспитывала их строго, приучала к труду. Дети выросли в детском саду, потом стали ходить в школу, летом уезжали в пионерский лагерь.
Работала она много, и если не успевала управиться до шести, то засиживалась в тресте допоздна, перечитывала, изучала личные дела сотрудников, отмечала прохождение по службе, наклеивала выписки из приказов. Она отлично знала все повышения в должности и переводы, благодарности и «на вид». У Кущ была своя особая система учета, которой она гордилась: сложные картотеки, списки, карточки, и на любой запрос из любого учреждения она могла ответить немедленно, лишь заглянув в свои ящики с алфавитом.
Иногда ей и во сне мерещился шорох бумаг, она искала утерянную справку. Летом за городом, поехав навестить в пионерский лагерь дочь, она шла задумавшись, услышала шелест листьев и испугалась: показалось, что это ветер сдувает со стола разбросанные документы. Тогда ей сделалось смешно, и грустно, и немного тревожно… Неужели вся ее жизнь пройдет среди бумаг? Неужели не будет у нее живого дела? Радости? Счастья?
Сегодня ей смутно верилось, что наступил перелом.
Кущ ворочалась на своей постели. Тонкий матрац сползал с полированной полки. Но дома у нее тоже был тощий, жесткий матрац. Она не привыкла заботиться о своих удобствах…
Просто не хочется спать. Так всегда: пока живешь обычным распорядком, все хорошо, а вошел в поезд, замелькали за окнами вагона елки и березы – и ты уже одинокий бродяга, забывший обо всем на свете, ты хочешь счастья, неожиданных приключений. Она и на курорты старалась из-за этого не ездить. Что там делать одной? Гулять по дорожкам, любоваться на горы, слушать рассказы соседок про своих мужей? Сама она уже давно поставила крест на личном счастье. Считала, что оно невозможно, совершенно невозможно. Поздно…
Но сегодня… Сегодня ей подумалось: «Ну а если возможно? Если не поздно?» Она чувствовала себя такой молодой и полной сил…
Если бы сотрудники не уводили Викторова из ее комнатки, если бы она хоть раз встретилась с ним вне мрачных стен треста! Какой взгляд он всегда бросал на нее! Нежный, полный значения… Просто она не разрешала себе угадывать значение этого взгляда.
Озноб пробежал по ее спине.
И вдруг под стук колес, под неясное, тревожное, как лунный свет, мерцание синей лампочки Кущ пришла в голову мысль – ошеломительная, горячая, как мольба, неожиданная, как открытие: если ей суждено еще раз испытать любовь, то… пусть это будет такой человек, как Викторов. Викторов ей нравился. Она не хотела признаваться в этом себе самой, ни за что не хотела, но он ей нравился…
От небольшого пустынного двора, официально именуемого фабричной территорией, веяло чем-то домашним и милым. Первый снег, выпавший ночью, совершил чудеса. Припорошил закопченные крыши на приземистых фабричных корпусах, стоящих в глубине; бархатной каймой лег на забор, на трубы, на карнизы окон, выступы стен; опушил ветки тонких рябинок с рдеющими сморщенными ягодами. Снегом замело огромную, как башня, поленницу дров у конторы, скамейку у входа, где примостилась забежавшая откуда-то кошка. Даже неподвижные облака на низком небе казались вылепленными из снега.
Необычайная для городского уха тишина распростерлась над фабрикой, над прилегающими улицами, над огородами и полями, начинавшимися за забором. В механическом отделении работал двигатель, и похоже было, что вздыхает и беспокойно ворочается в стойле гигантская корова.
– Я выросла в провинции, – сказала Кущ с волнением, – мне это так напоминает детство – тишина, белизна… Ну и отчаянной же девчонкой я была! С братьями голубей гоняла…
– О! – уважительно произнес Ефимочкин.
Они вошли в низкое, темное помещение. В углу жарко пылала печь, из ее открытой дверцы выбивались красные отсветы, придавая всему теплый, радостный колорит, как на старинной картине. Посредине помещения, около тускло поблескивающего металлическими частями разобранного пресса, суетились, переругиваясь и споря, несколько рабочих в промасленных спецовках. Из-под станка торчали ноги в подшитых валенках; переносная лампа, стоявшая на полу, освещала их белым, ослепительным светом.
Ефимочкин вгляделся и, не найдя Пелехатого, спросил:
– Скажите, будьте любезны, директор ушел?
Его не сразу услышали в шуме голосов, потом кто-то, вытирая пот со лба, переспросил:
– Вам директора?
И наконец снизу, откуда торчали ноги в валенках, раздался голос:
– Тут я. А в чем дело? Кто меня спрашивает?
Озадаченный Ефимочкин, как птица, наклонил голову набок.
– Товарищ Пелехатый, где вы там? Здравствуйте! Это Ефимочкин. Из треста.
– Ефимочкин? Очень, очень приятно…
Пожилой человек, кряхтя, вылез из-под машины и начал вытирать паклей руки. Ефимочкин не сразу признал Пелехатого. Здесь он выглядел моложе, коренастее, энергичнее. И глаза у него играли ярко и весело.
– Мы у себя небольшую модернизацию затеяли, – бодро заговорил Пелехатый, – укорачиваем путь движения продукции… увеличиваем число ударов штампа. Да вот… эксцентрик немного закапризничал. Кстати прибыли, товарищ инженер. Ой как кстати! Мы у вас проконсультируемся. – Пелехатый повернул голову и вдруг заметил в полутьме Кущ. – А-а… Комиссия, значит, приехала… – Тень прошла по его лицу, но он усмехнулся. – Торопились, хотели кое-какие новшества у себя ввести, а то беда: оборудование старое, заплата на заплате.
Директор старался говорить спокойно, естественно, но складка на лбу сделалась глубже, воодушевление и даже нежность, с которыми он поминал эксцентрик, пропали, голос звучал глухо, а руки все медленнее и медленнее перебирали паклю. Он повторил, словно думая о чем-то совершенно другом:
– Да, заплата на заплате…
Ефимочкин обиделся. Он оглянулся на Кущ, надеясь, что она вступится за честь треста. Но Кущ молчала. Тогда с легким оттенком неуверенности в голосе инженер ответил:
– Однако… насколько я осведомлен, заявок на оборудование вы не подавали.
– Не подавали, нет, – согласился Пелехатый. И опять усмехнулся. – Хотели еще кое-что выжать из старого. Использовать внутренние ресурсы.
Все молчали. Слесари и механики с любопытством смотрели на приезжего инженера. Кущ почудилось что-то недоброе в их настороженном любопытстве. И задорный вид Ефимочкина ей не понравился. Она вмешалась:
– Мы пока познакомимся с документацией. Вы не возражаете?
– Что ж… – Пелехатый попросил механика: – Леша, будь добр, проводи. Скажи Верочке, чтобы открыла мой кабинет.
Они вышли из цеха. Первое впечатление нетронутого зимнего царства уже развеялось. Во дворе гудел грузовик, выбрасывая из выхлопной трубы струйки синего ядовитого дыма. Хрупкую белизну снега избороздили глубокие колеи от колес.
Механик Леша, рослый красивый парень в матросской тельняшке, видневшейся из-под спецовки, с открытой, несмотря на мороз, шеей, догнал их и спросил:
– Тут Николай Павлович приезжал. Викторов. Так говорил – вроде хотят дать нам кое-какое оборудование… Обещано будто…
Кущ удивилась:
– Разве Викторов приезжал? Когда это?
– Только-только уехал. Супруга у него здесь… ну, и на фабрику заходил. – Он прибавил с иронией: – Соскучился, говорит…
Поднялись по ступенькам крыльца, вошли в контору. Верочка, молоденькая девушка в красной вязаной кофточке, с чернильными пятнами на руках, встретила приезжих с нескрываемым детским интересом.
Она засуетилась, забегала, открыла дверь в кабинет – тесноватую комнату с письменным столом и еще одним, узким, для заседаний, с холодным, неуютным, обитым дерматином диваном. Обычный кабинет руководителя небольшого предприятия – с диаграммами, групповыми снимками и образцами продукции в шкафах.
Кущ сказала Ефимочкину:
– Ну, что же вы? Устраивайтесь. Вы займетесь техническими вопросами, я – организационными…
Они уселись за столы.
В кабинет входили люди: начальник заготовительного цеха, завскладом, старший мастер, бухгалтер. Верочка вносила и выносила груды отчетов и дел. Не показывался Только Пелехатый.
Было уже под вечер, когда Ефимочкин отважился пошутить:
– Неужели мы так и останемся без обеда сегодня?
Кущ пожала плечами. Обычно заботу о так называемом бытовом устройстве командированных берет на себя директор. Но Пелехатый забыл о них.
В эту минуту дверь отворилась и вошла свежая с холода, румяная женщина с крупным носом и высоким начесом темных волос надо лбом. Она была в платке и мужском пальто, накинутом на плечи.
– Что же это такое, люди дорогие? – сказала она, поворачиваясь то к Ефимочкину, то к Кущ и протягивая к ним растопыренные, унизанные перстнями пальцы. – А ну, по-простому, по-советскому… складывайте бумажки, и пойдем обедать… Как же так? – играя глазами, говорила она. – Сослуживцы моего Николая Павловича – и не хотят зайти до нашей хаты. Так, товарищи, не годится… У меня же все свое – и гуси, и картошка, и огурцы, и наливка. Николай Павлович на развод подаст, если узнает, что я вас не накормила. Я Пелехатого еще утром предупредила, что вы обедаете у меня.
Ефимочкин галантно поклонился, но Кущ отказалась:
– Нет, мы не можем.
Ефимочкин постарался смягчить:
– Очень жаль, но у нас срочные дела.
– Да разве их можно переделать за один день? Все равно нельзя. Я ведь по-простому, без церемоний… – Женщина прекрасно понимала, что все зависит от Кущ, и обращалась теперь только к ней: – Где же вы пообедаете с дороги? Рабочая столовка уже закрыта, в ресторане у нас очереди, невкусно, пьяные. Разве там место для такой серьезной сотрудницы, как вы? И ночевать останетесь, у нас все удобства, телефон. С Москвой можете переговорить.
Она то улыбалась, поблескивая золотыми зубами, то скромно поджимала губы. Круглые, как вишни, глаза искрились. Она сдернула с вешалки пальто, готовая силой напялить его на плечи упрямой Кущ, потом, опомнившись, повесила обратно.
Ефимочкин не знал, куда деваться от смущения.
– Вы нас извините… кажется, Глафира…
– Семеновна, – подсказала женщина. – Ну что ж! – вздохнула она. – Напишу Николаю Павловичу, что вы побрезговали моим борщом…
– Мы пойдем сейчас в город, – перебила ее Кущ.
– Пешком? – удивилась Глафира Семеновна. – Да что вы? – И взялась за трубку решительным движением человека, привыкшего распоряжаться. – Нюша, – уже другим тоном, властным и жестким, сказала она в телефон. – Нюша, дай конный двор. Конный? Петров? Слушай, Петров, запряги сейчас же в пролетку Буланчика и подъезжай к конторе. – Она опять заулыбалась. – У нас здесь просто, без бюрократизма.
Кущ и от пролетки отказалась. Ефимочкин слегка пожал плечами, но смолчал. Глафира Семеновна проводила их до ворот, постояла немного и с горечью сказала:
– Разве при Николае Павловиче так было? Теперь все запущено, все кое-как… Вон, глядите, на заборе краска облезла… Вахтер ворон ловит… – И, как будто ей больно было на все это смотреть, отвернулась. Опустив угол подкрашенного рта, посмеиваясь над собственной слабостью, она прибавила: – Коля мне всегда говорит: «Тебе-то что за дело? Ты-то здесь при чем?» И может, верно – при чем здесь я?
…Когда они уже шли по плохо освещенным улицам окраины, Ефимочкин сказал:
– Странно все-таки, что Пелехатый не зашел… Хорошо еще, что жена Викторова догадалась о нас позаботиться.
– Хитрая женщина эта жена Викторова, – вдруг резко ответила Кущ. – Можно только удивляться… – Она не договорила и ускорила шаг.
Ефимочкин был голоден и зол. Зол на Кущ, на Пелехатого, которого почему-то надо снимать с работы, на эту унылую улицу с редкими фонарями и редкими прохожими, на ветер, забиравшийся в рукава пальто, на то, что не попал на «Плоды просвещения» и не знал, кому жена отдала второй билет. Он был ревнив.
– Какая же хитрость? Скорее простодушие.
– Много же вы понимаете в людях! – насмешливо, почти презрительно сказала Кущ.
Ефимочкина взорвало.
– В женщинах, представьте, я кое-что понимаю! – вскинув подбородок, высокомерно заявил он. – И если хотите знать, она не меньшая балашихинская патриотка, чем сам Николай Павлович.
– Сравнили! – иронически сказала Кущ.
Ефимочкин сразу остыл. И пробормотал:
– Конечно, я не утверждаю… Но мне кажется…
В центре, в освещенном квартале между аптекой и кино, где толпились гуляющие, уже висели большие рукописные афиши, извещавшие о лекции Кривцова. Ефимочкин уважительно поднял короткие брови.
Они вошли в ресторан при гостинице. Народу было мало, официанты, утомленные дневной сутолокой, лениво, с безразличным видом передвигались по залу. За стеклянной перегородкой щелкала на счетах кассирша. Время обедов уже кончилось, начиналась пора ужинов. На невысокой эстраде сидели, пересмеиваясь, музыканты. Отдыхали. Только один, молодой, с большой шевелюрой, тихо наигрывал нежную мелодию, всматриваясь в ноты, лежавшие на пюпитре. Он раскачивался и резко вскидывал голову. На стене металась огромная кудлатая тень…
Кущ редко слушала музыку, плохо знала ее, но простые, печальные мелодии волновали ее до слез. И сегодня ей, усталой, иззябшей, вдруг под негромкие звуки скрипки, полные жалоб на обманутые надежды, примерещился осенний пейзаж. То ли желтые деревья в саду, то ли река… Она вспомнила, как еще девочкой до поздней осени, почти до заморозков, бегала на реку, смотрела, сидя на берегу, на темную, холодную воду. Шелестел пожелтевший камыш. Коричневый плюш на камышинках, такой нарядный летом, осенью полинял и облез, как на жакетке, которую ей перешили из бабушкиного салопчика. Из коротких рукавов высовывались ее исцарапанные красные руки. Ветер гнал по берегу листья из редкой рощи, что тянулась вдоль берега. Листья глухо шуршали на вытоптанной земле. Выгибая белые шеи, шипели и гоготали тяжелые гуси, выщипывали последние травинки. Что ей нравилось тогда на берегу, чего она ждала там часами? Какого чуда? Пришло ли оно, это чудо, сбылось ли?..
– Не знаю. – Она покачала головой.
– Что вы сказали? – спросил Ефимочкин.
– Я? Музыка хорошая…
Ефимочкин казался несколько удивленным.
– Вы любите музыку?
Кущ поколебалась, стараясь быть честной.
– Люблю…
Скрипач увлекся, заиграл громче. Музыканты перестали болтать, слушали. Перестала щелкать костяшками кассирша.
Кущ машинально сгребала ножом крошки на скатерти.
Замер последний томительный звук скрипки, вспыхнула люстра под потолком, озаряя позолоту на стенах, и бодрый, оживленный Кривцов влетел в зал, как будто только дожидался этой минуты. Он весь сиял. Сверкали золотые зубы, глаза, очки, шелковый яркий галстук. Он радостно бросился к столику, за которым обедали Кущ и Ефимочкин. В зале, точно это Кривцов внес оживление, задвигали стульями, заговорили, засмеялись. В оркестре настроили инструменты.
Кривцов с подкупающей искренностью расспрашивал:
– Ну как, друзья? Как ваши дела? Тронулись-двинулись? В горкоме были? Нет? Председатель горсовета здесь мировой мужик, мы с ним подружились. Вдрызг. А каким оказался этот ваш Пелехатый? Как вы его нашли?
Ефимочкин засмеялся:
– Нашли в весьма непрезентабельном виде – лежал в старых валенках под станком.
– Шутите?
– Нет, не шутим, – подтвердила Кущ.
Кривцов сделал серьезное, полное сочувствия лицо.
– Но это же злая карикатура на руководство…
Он поманил к себе официанта, привычным жестом ткнул в меню, показал что-то на пальцах, и оживившийся официант, наклонив голову набок, резво побежал в буфет.
– Обязанность директора не в том, чтобы чинить и всякое такое. Это ясно, как разжеванный апельсин. Искусство руководить, между прочим, в том и состоит…
– Нет, не скажите, – вдруг перебил его Ефимочкин. – Я сам наблюдал, что на маленьких предприятиях очень, уважают директора, который умеет показать, как надо сделать…