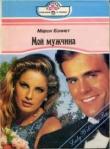Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
По радио передавали первые сводки.
Последняя надежда на то, что все минет, как дурной сон, исчезла. Это была война.
Несколько дней Матвей Борисович провел как в чаду. Он суетился, дежурил в домоуправлении, рыл траншеи-бомбоубежища, сидел на совещаниях. По ночам были воздушные тревоги, светили прожекторы, били зенитные орудия. Пять или шесть бомб упало на город. Уже были жертвы, убитые и раненые. К утру все стихало, измученные люди вылезали из подвалов и траншей, веря, что это больше повториться не может. Но приходила ночь, и все повторялось сначала.
Матвей Борисович забыл о дочери.
Жена сказала ему виновато:
– Сонечка такая слабенькая… Не совсем удачно. Ей пришлось обратиться в больницу.
Матвей Борисович хотел затопать ногами и закричать на жену. Он только сейчас понял, что произошло, но голос прервался. Он всхлипнул. Он шел в больницу, ссутулившись, ему было стыдно, казалось, что все знают о его позоре.
Соня лежала на больничной кровати, измученная и жалкая.
– Зачем ты это сделала? – спросил отец. – Как мы ему посмотрим в глаза?
– Сам виноват, – упрямо сказала дочь. Эти слова, видно, были ее железной опорой, она цеплялась за них.
– Срам, – сказал отец. Это слово всегда произносила его покойная мать, когда он воровал сливы в соседском саду или не хотел молиться. И оттого, что отец, никогда не говоривший с детьми сердито, произнес это слово, Соня заплакала.
– Папа, это страшно… это так страшно… – твердила она. – Хуже этого нет на свете…
Матвей Борисович не понимал, что говорила дочь, но ее страх и волнение передавались ему, он тоже плакал.
А в коридоре стонали раненые. Их везли с границы. Бегали врачи и сестры, сбиваясь с ног.
– Я как собака, – сказала Соня, – никому не нужна. Там люди с фронта, а я?..
И она опять заплакала.
Матвей Борисович ушел из палаты вечером, когда Соня уснула. В коридоре было полутемно, стояли кровати, он пробирался меж ними и вдруг увидел Королева. Руки, голова его были забинтованы.
Матвей Борисович вышел на крыльцо. Луна светила, и ее ровный блеск лежал на холодных каменных ступенях крыльца. Все окна в больнице были тщательно занавешены. И так странно было, что все виденное в палатах и коридорах осталось за тяжелой дверью, а здесь – луна, деревья и тишина. На крыльце сидела женщина. Она не думала о том, как сидит, ноги ее были раскорячены, спина согнута. Так сидят плотники после тяжелой работы. Матвей Борисович узнал Королеву.
– Мадам Королева, – сказал он, – какое несчастье…
– Он выживет, он здоровый, крепкий человек… я в него верю… – Королева сказала это как будто спокойно, но вдруг добавила: – Вы не знаете, что за человек Королев. Этого никто не знает, кроме меня… От его батальона осталось несколько человек… Он один держал их два часа… я ведь все видела в бинокль…
– Вы не слышали… как Бабченко? – спросил Матвей Борисович ненатуральным голосом.
– Убит…
– Этого не может быть…
– Ребенок вы, что ли? – грубо закричала Королева. – Не понимаете, что такое война? Ну ладно, – хрипло сказала она, – они за все заплатят, эти сволочи, за все!..
Она долго сидела, раскачиваясь и бормоча такие крепкие ругательства, что Матвей Борисович испугался, не помешалась ли она. Или он сам сошел с ума. Потом Королева умолкла и вдруг заговорила тихим, звенящим от нежности голосом, как будто это была не она, а совсем другая женщина:
– Как он меня любил когда-то, мой муж… Я интересная была, косы, шея как у лебедя… Мое чувство к нему не переменилось, нет. Ну, а его ко мне – этого я не знаю…
– О чем вы думаете в такое время, даже странно и дико слушать… – упрекнул Матвей Борисович, не понимая, как он передаст дочери, что Бабченко убит. – Любит – не любит. Был бы только жив…
– Был бы жив, это конечно, – согласилась Королева. Но потом, как будто передумав, прибавила: – Нет… Когда все полетело к чертовой матери… Я хочу знать, зачем я жила, с кем жила? Любит ли? Ничего мне теперь, кроме правды, не нужно.
В городе завыла сирена, оповещая о тревоге.
– Опять, – сказала Королева и встала.
В больнице никто не спал, больных переносили в подвал. По коридору прошел высокий седой доктор, крича:
– Еще с вечера нужно было всех перенести! С вечера! Заблаговременно!
Старшая сестра виновато твердила:
– Но в подвале сыро… Я надеялась…
Где-то далеко разорвалась бомба, зазвенели стекла, захлопали двери. Больные выползали из палат, держась за стены. Плакали разбуженные дети. Раненый красноармеец с обвязанной головой закричал на всю больницу:
– Тихо! Порядочек! Передавай детей по цепи!
Матвей Борисович взвалил на руки легкую Соню, но и эта ноша была тяжела для него. Он спотыкался, нес дочь осторожно, как носил часами в детстве, когда она не спала, мучимая детскими страхами, а мать кричала, что это капризы, ее нужно заставить спать. Он чувствовал, как дорого ему это костлявое, осиротевшее тело. Подумал о ребенке, чей отец был вчера убит. Только теперь, пробираясь с Соней среди толкавших его людей в темный подвал, обливаясь потом, натыкаясь на стены, – он понял, что ни ребенка, ни Бабченко больше не будет.
Матвей Борисович положил Соню на солому. Она молчала. Отец пожал ее руку и произнес, не зная, что сказать:.
– Он замечательный человек, Бабченко.
– Да, Коля замечательный, человек…
Зенитки били густо, одна за другой, было нестерпимо трудно усидеть в темноте. Матвей Борисович пошел наверх. По коридору еще носили больных. Королева вела рослого красноармейца, он опирался на нее всем телом, почти падал, она несла его, покрикивая:
– Крепче держись, Соколов, крепче!
Матвей Борисович знал Соколова: это был его ученик.
– Обопритесь на меня, Соколов, – сказал он и подставил плечо.
Он не помнил потом, сколько раз прошел с Королевой по палатам: она командовала, он подчинялся. Из операционной вышел доктор, руки его были в крови, лицо воспалено. Он давно не спал. Доктор прислонился к косяку двери и неловко, стараясь не испачкать папиросу кровью, закурил.
– Как Королев? – спросила жена тревожно.
Королев лежал в операционной.
– Плохо, – ответил доктор. И повторил: – Плохо!
– Он крепкий, он здоровый, – поспешно сказала жена. И, взяв доктора за руку, пыталась объяснить ему: – Он два часа один их сдерживал.
Доктор посмотрел на нее понимающими глазами, бросил окурок и вернулся в операционную. Он отчетливо сказал:
– Давайте следующего!
Королева припала к двери, чтобы быть ближе к мужу. Матвей Борисович потянул ее за рукав, она оттолкнула его.
Матвей Борисович снова вышел на крыльцо. Темнота, стоны, звенящее от взрывов стекло, грохот – он не мог больше этого выносить, должен был увидеть небо.
Оно висело над миром, огромное и голубое. Матвей Борисович поднял к нему руки, но душа его была пуста. В городе пылало зарево. Больница была на окраине, в огромном саду. Столетние дубы и вязы стояли недвижимо. Вдруг воздух заколебался, как в грозу, что-то толкнуло Матвея Борисовича в грудь, ослепило его, и он упал. Золотой конь командира полка проскакал над ним.
Он очнулся. Уже светало. Было очень тихо, только шелестели листья на сломанном дереве. Он слабо шевельнул рукой. На его одежде, на руках, в волосах – везде была земля. Он лежал на траве.
Он не был ранен. Его оглушило. Бомба упала где-то здесь, неподалеку.
Матвей Борисович встал. Корпус больницы был невредим. Он нашел свою дочь: она все еще лежала в темноте, на соломе.
Сияющая Королева крикнула ему, пробегая по коридору:
– Он будет жить, уверяю вас! Я увезу его сегодня куда-нибудь подальше. В тыл…
«В тыл, – подумал учитель, – в тыл… а мы что, разве мы фронт?»
Какими смешными казались ему теперь разговоры с ветеринарным врачом в столовой, планы, которые они чертили, военные доктрины, которые они выдвигали. А как раскачивались тогда старые сосны за раскрытыми окнами, как пахли лесом необструганные дощатые стены, как проходили по столовой командиры и бережно, чтобы не расплескать, несли из буфета кружки с пивом! Он уехал из лагеря, смятый событиями, ему казалось, что он ничего и никого не видел, но теперь он все вспомнил. Он вспомнил, как садились люди на коней, гневные и молчаливые. Бабченко наклонился и поправил под седлом потник. Командир полка сдерживал коня, пропуская мимо себя полк. Он туго натянул поводья. Конь поднял морду. По шелковым ногам, как зыбь, скатывалось сверкание солнца.
Командир полка убит. Бабченко убит. Королев ранен.
Война казалась когда-то Матвею Борисовичу грубым делом. Он с чистой совестью освободился в молодости от мобилизации в армию – хотел служить искусству, быть скрипачом. Никто из его знакомых не воевал. Он не рад был, когда в гражданскую останавливались в его квартире на недолгий постой войска, он не любил шум, запах махорки. Это мешало ему читать. Он был доволен, когда квартира освобождалась.
А теперь он видел, как ушли родные ему люди для того, чтоб умереть. Он добивался права называться их учителем, долго выяснял, кто он – полковой учитель или старший полковой учитель. Это слово – «старший» – очень занимало его. А все – и понятие «старший», и обиды, и плохая квартира, которую он все время хотел переменить, чтобы было больше места для его книг, – все это пустяки по сравнению с тем страшным, что происходило. Зверь занес над ним лапу. Так что же делать – взять рогатину и пойти на зверя?
Он не мог долго размышлять, нужно было пойти домой, нужно было взять из больницы дочь, – он пошел. Но неотступно думал о словах Королевой. Он понимал, что она права, – теперь надо знать правду о себе и других. Час страшного испытания пришел.
Центр города горел, пожарища дымились, около них копошились люди, спасая свой скарб. Тротуары во многих местах разворотило, асфальт так нагрелся, что нельзя было пройти. Матвей Борисович пошел по тихим, немощеным уличкам, с покосившимися домами, где он жил в детстве. Но и здесь полыхали пожары. Где-то в огне пищали котята. Матвей Борисович узнал тот дом, где жил мальчиком, потому что на улице, у ворот, рос дуб. Женщины и дети шли по дороге, навьюченные узлами. Матвей Борисович знал этих женщин, они учились у него когда-то, знал их детей. Это был его родной город.
Он пришел к себе домой. Дом уцелел. Жена сказала:
– Надо уезжать… немец близко.
– Я не уеду…
– Папа, все уезжают… – сказал сын. – Есть распоряжение…
Жена и сын складывали вещи, совещались. Матвей Борисович ничего не понимал.
Почему он должен уйти из своего города, где учительствовал тридцать лет, из дома, где родились его дети, со своей земли? Он помнил, как пахнет эта земля, жирная, черная земля, как светят звезды в его небе. Он не мог уйти. Стоял посреди маленького кабинета, уставленного полками, и смотрел на любимые книги, которые собирал всю жизнь. Он не был дома два месяца. Книги запылились: без него никто не брал их в руки. На полу стоял его чемодан в чехле, расшитом петухами, лежал футляр со скрипкой. Он потянулся к скрипке, но передумал и махнул рукой.
Жена громко сказала в столовой:
– Скрипку надо взять, она пригодится.
– Я не поеду! – закричал Матвей Борисович. – Дайте мне умереть там, где я хочу.
Жена, ломая руки, стала умолять пожалеть ее: куда она поедет одна? Ему вдруг стало жаль ее. Он вспомнил ее молодой, с тугими щеками. Она сняла пушинку с его рукава. Она рожала ему детей. Вон там, в спальне, рожала она, крича от боли.
Он сдался.
Достал подводу и поехал за Соней. Они долго сидели на вокзале, дожидаясь очереди на посадку в вагоны: налетели самолеты и обстреляли вокзал. Потом начальник милиции узнал Матвея Борисовича и сказал с упреком:
– Вы же знаете, товарищ учитель, интеллигенцию мы эвакуируем в первую очередь.
Жена не преминула вставить:
– Он никогда не пользуется своими правами. Он давно мог получить квартиру в новом доме, уверяю вас…
Начальник посмотрел на нее удивленно. Ее мысли шли еще по привычному кругу.
Люди лезли в вагоны, втаскивали, мешки, кричали.
По дороге поезд обстреливали, состав останавливался. Пассажиры убегали в лес. Потом машинист давал гудок, и все собирались. Едкая летняя пыль забивалась во все поры, пахло потом и горем. Мужья потеряли жен, матери – детей. На станциях вдоль вагонов бегала женщина, надрывно крича:
– Леня, ой, боже мой! Леня!
Одни говорили, что Леня ее сын, другие, что муж… А навстречу все шли воинские эшелоны и красноармейцы.
Дыхание войны уже не чувствовалось. Кое-где убирали спелый хлеб. На полустанках продавали масло. На беженцев смотрели с любопытством и страхом, – они врывались в мирную жизнь, грязные, потные, в шубах, как вестники страшной, немыслимой беды.
Матвей Борисович, сидя на своей котомке, послушно ел, когда ему давали поесть, стоял в очереди за кипятком, когда его посылали, но все это делал механически, не понимая, что делает. Он ни о чем не жалел, не страдал от неудобств, не страшился будущего. Как в бреду вспоминал ту ночь у костра, в лесу, когда переломилась его жизнь, когда так близко от него была правда.
И не мог смириться с тем, что каждый поворот колес удаляет его от места, где остались его ученики: они дерутся, гибнут, а он… Мысли его были как морской прибой – однообразный, тревожный и неотвратимый.
А жизнь в эшелоне уже входила в свою колею. Как в большой корзине, все уминалось и перетряхивалось, сжималось, находило свои новые места.
Жена говорила с гордостью, как купец, расхваливающий свой товар:
– Мы же семья военнослужащего. Ее муж командир. Она беременна, – и показывала на дочь.
А поезд все шел и шел. Вагон мотало по рельсам.
Уже создавался свой особенный быт. Народ называл их военкуируемыми. Их то жалели, то ругали, делились с ними последним и жадно прятали от них еду.
Сын утратил свою обычную флегму, бойко бегал за кипятком и папиросами, аккуратно делил хлеб, выгодно обменивал полотенца на сало.
Жена все время вспоминала имущество, которое она оставила. И во всем вагоне негде было укрыться от ее голоса, когда она хвалила свои простыни и плюшевые одеяла.
Дочь лежала пластом, не пила и не ела.
Вид Матвея Борисовича был страшен и отвратителен. Бороденка его стала серой, рубаха обвисла. Он ни с кем не разговаривал.
Наконец он не выдержал: сошел на станции и пошел туда, где за косогором желтели поля и мельница выставила на запад, как руку, черное неподвижное крыло.
Матвей Борисович слышал, как слабо, словно по обязанности, кричала жена:
– Он сошел с ума, верните его, верните!
Он не оглядывался и все шел и шел, размахивая палкой.
МЕТОД ИНДУКЦИИ
Рассказ
В войну командировочный фонд редакции был невелик, нам редко удавалось ездить в дальние гарнизоны. Чаще отправлялись рабочим поездом в запасные полки, расквартированные недалеко от города.
Такое путешествие предстояло и на этот раз.
Давая задание написать очерк об образцовом командире батареи, секретарь редакции строго предупредил:
– Только, пожалуйста, без восходов и закатов. И покороче, умоляю… самую суть, опыт…
Как будто я сама не догадалась бы, что нельзя злоупотреблять описанием среднеазиатской природы. Формат газеты военного округа был сокращен из-за нехватки бумаги чуть ли не вчетверо.
В ту пору сотрудники редакции как бы делились на две категории – военнослужащих и вольнонаемных. Военнослужащие носили форму, имели воинские звания, ходили на строевые занятия, в любой день ждали отправки на фронт, во фронтовые газеты. Вольнонаемные, большей частью приезжие, эвакуированные, были, похоже, на втором плане и занимались не главным, а информацией, маленькими фельетонами, коротенькими рецензиями на кинокартины, литературной консультацией – одним словом, четвертой полосой.
Задание написать очерк для отдела боевой подготовки – о, это была большая честь. В отделе мне посоветовали:
– Возьмите лейтенанта Самарина. В его подразделении нет ни взысканий, ни замечаний. Кроме того, Самарин активный корреспондент.
– Еще бы, я вам его и сосватала, – не без гордости напомнила я.
А познакомились мы так…
Я сидела за правкой заметок в своем закуточке, отгороженном от узкого коридора. В редакции было тихо. Смеркалось. Потемнел ствол дерева, заслоняющего окно, – солнце переместилось ниже. И как-то сразу стало грустно.
Кто знает, отчего и как приходит к человеку тоска? Вероятно, и на это есть свои законы. Когда-нибудь их откроют, как открыли радио и электричество. Ведь и они существовали, когда никто о них еще не подозревал.
Как бы там ни было, но тоска навалилась невыносимая. Шел уже второй год, как я жила в эвакуации с ребенком, матерью и свекровью, оторванная от привычного уклада жизни, от мужа, от работы, от своего дома. Дом был далеко, где-то на другом континенте. Письма приходили редко, непонятные как ребусы… Они шли так долго, что отвечать, что-либо выяснять было бессмысленно – все равно что стучать кулаком в каменную стену. Обида наслаивалась на обиду, недоразумение на недоразумение.
По сравнению с Москвой – с бомбежками, с близостью фронта, с надоеданием – все, чем жили мы, казалось очень мелким – все эти хлопоты о керосине или ордерах на саксаул и на уголь. Наш бивачный быт утомлял и унижал, не хватало подушек, простынь, кастрюль, вилок…
Но ведь так было и вчера, и позавчера. Почему же я затосковала сегодня, почему именно сегодня так остро почувствовала себя слабой и беззащитной!..
Неужели из-за злосчастной коврижки?
Был канун праздника, и военнослужащим разнесли продовольственные пакеты. Расщедрился наш шеф – зав издательством, невысокий человек в галифе и сером пиджаке, никогда не снимавший кепки. Таким он и запомнился мне – в кепке и калошах поверх сапог, хотя вряд ли в среднеазиатскую жару он носил калоши.
Итак, военнослужащие получили пакеты и давно уже ушли домой очень довольные, с деланно серьезным выражением лиц, и унесли подарки, тщательно замаскированные старыми газетами. Журналисты-военнослужащие всегда чувствовали себя неловко, когда их в чем-нибудь отличали от нас. Нам, вольнонаемным, пакетов, видимо, не полагалось… А мне так хотелось вернуться домой не с пустыми руками!
Не знаю, как это случилось, но я положила голову на стол и тихонько заплакала. Можно было подумать, что именно все, чего мне не хватало в жизни в те дни, воплотилось в этой выданной к празднику медовой коврижке, напоминавшей, кстати, о меде только коричневым цветом. Но я принесла бы эту несладкую коврижку своему мальчику, увидела, как блеснут искорки интереса в его глазах, услышала похвалу бабушек. В те суровые дни 1942 года я была главой семьи.
И вот, когда я постыдно оплакивала эту коврижку, свою «второсортность», свое одиночество, на пороге появился маленький белобрысый военный. Он был в аккуратной, выжженной здешним жгучим, въедливым солнцем, много раз стиранной гимнастерке, туго подпоясанный, с мальчишеским хохолком светлых волос на затылке.
– Разрешите обратиться? – вполне серьезно спросил он.
Я прикрыла слезы ладонью. Но вошедший ничего не заметил, он тоже был смущен. Стараясь скрыть это смущение, он сказал бодро:
– Тут я стишки к вам присылал, продергиваю, так сказать, Гитлера и его вассалов. Хотелось знать результат…
– Ваша фамилия?
– Самарин…
Я достала толстую папку и нашла рукопись. Стихи были очень плохие. Самарин слушал меня не мигая, добросовестно стараясь понять свои ошибки. К сожалению, дело было не в частностях, – ну просто это и не похоже было на стихи…
Я старалась говорить мягко:
– Вы человек пишущий. Почему бы вам не связаться с нашим отделом боевой подготовки? Поделиться опытом?
– Это можно, – согласился Самарин и посмотрел куда-то в сторону. – Газета дает нам руководство в повседневной жизни…
Он выражался витиевато, книжно, но тон был искренний и правдивый.
Уходя, Самарин мужественно пошутил:
– Значит, стихи больше не присылать? Не надо?
– Присылайте, пожалуйста. Только уж не обижайтесь…
Самарин удивился:
– Как можно обижаться?.. Такой привычки у меня нет.
Я подписала ему пропуск и попросила:
– Так обязательно, обязательно пишите для отдела боевой подготовки. Ведь вы кадровик?
Самарин помрачнел:
– Я как эта самая Данаида, что заполняет бездонную бочку водой. Подготовил для фронта четыре маршевых роты, а сам остаюсь здесь… Тут не только стихи сочинять, тут слезами начнешь плакать.
Больше он в редакцию не приезжал, во всяком случае ко мне не заходил. И стихов не присылал. Однако с отделом боевой подготовки Самарин действительно связался: раза два или три мы печатали его толковые материалы об опыте обучения солдат артиллерийской стрельбе.
Когда я сошла с пригородного поезда на станций, откуда до расположения части надо было пройти километра полтора, то первый, кого я увидала, был Самарин. Конечно, это был он – маленький, чистенький, как воробушек, с хохолком на затылке. Но Самарин почему-то отвел глаза в сторону.
С ним шла женщина – молодая, белокурая, беременная, с лицом в желтых пятнах, в пестром широком платье из узбекского шелка. Самарин был нагружен основательно. Он вел женщину и тащил сумки, чемоданчик, даже большой эмалированный таз.
Незадолго перед тем в Красной Армии ввели офицерские звания и по гарнизону был отдан приказ о соблюдении офицерского достоинства. Среди прочих «запрещается» был пункт, что офицерам нельзя носить тюки, мешки и авоськи. Может, именно по этой причине Самарин не хотел, чтобы его увидели.
Ну что ж… Я пошла по дороге одна.
Начальник штаба, щеголеватый, с красивыми выпуклыми глазами, долго разглядывал мое редакционное удостоверение, потом сказал не то с сожалением, не то с укоризной:
– На фото вы моложе…
– Это довоенный снимок…
– А-а…
Он понимающе вздохнул, как будто «до войны» – это было в прошлом столетии. Потом вынул зеленую расческу, причесался, деловито спрятал расческу в кармашек и представился:
– Капитан Жолудев. Намерены здесь пожить? Хм, с жильем у нас катастрофа. Ведь дислоцируемся, можно сказать, прямо на песке. Как виноградные лозы… – Видимо, он уже не раз повторял эту остроту. – Впрочем, пока вы в политотделе утрясете с Кривошеиным кандидатуру вашего героя, я что-нибудь соображу…
Хоть я не в первый раз приезжала в воинскую часть, но так и не научилась преодолевать чувство неловкости. Журналист предпочитает вообще оставаться неузнанным, держаться незаметно. Но как можно остаться неузнанной, незамеченной, когда вокруг сотни солдат и офицеров и среди них ты одна женщина… В лучшем случае в санчасти еще бывает медсестра или машинистка в штабе… Но к ним уже все привыкли, на них никто не оглядывается.
С тем же чувством неловкости вошла я в политотдел, где сидел майор Кривошеин, немолодой уже, очень симпатичный, в накинутой на плечи телогрейке, и с удовольствием пил из жестяной кружки чай. Он не стал смотреть удостоверение, нисколько не удивился моему приезду и сразу спросил:
– Кок-чай уважаете? Прекрасная штука. Вышел ночью без ватника – и вот простыл… чаем только и спасаюсь.
Я порылась в сумочке:
– Хотите аспирину?
– Нет, не признаю.
Кривошеин со вздохом отставил кружку, от которой шло живительное тепло, передернул плечами, поправил телогрейку и перешел к делу:
– Значит, про Самарина хотите писать? Ну что ж! Офицер честный, смелый, прекрасный товарищ, хороший коммунист, командир без пятнышка. Устраивает? – Он засмеялся: – Родом с Кавказа, кажется, из пастухов…
И крикнул в соседнюю комнату:
– Жолудев! Самарин у нас из пастухов, что ли?
– Из пастухов, – чуть высокомерно ответил начштаба и появился на пороге. Он картинно прислонился к притолоке, достал портсигар, постучал по деревянной крышке папиросой.
– Одна беда, – продолжал посмеиваться Кривошеин, – рапортами нас замучил, на фронт просится. Жолудев, не дай соврать – сколько раз Самарин рапорта подавал?
– Раз восемь, – все тем же чуть высокомерным тоном отозвался Жолудев. Изящные голубоватые кольца дыма полетели по комнате. – Я уж ему сказал: «Слушай, Самарин, ты что, боишься, на фронте все ордена раздадут, на твою долю не останется?..»
Кривошеин недовольно сдвинул брови:
– Ну, это тоже не разговор, хочет-то ведь он от чистого сердца. – И прибавил с оттенком грусти: – Все мы через эти настроения прошли. Когда первый маршевый батальон без меня уехал, я совсем духом пал. Отчего? Да почему? Почему это я недостоин?..
– Однако командир полка какую резолюцию наложил на рапорте?.. – Жолудев посмотрел на меня многозначительно. – «Разъяснить лейтенанту Самарину важность подготовки резервов для фронта…»
– Разъяснение разъяснением, а душа душой… – Кривошеин позвал вестового: – Живой ногой слетай за лейтенантом Самариным!
– Есть слетать!
– Ну, выполняй, дуй…
Прошло несколько минут, прежде чем появился Самарин с мокрым хохолком на затылке.
– Вот он, наш красавец, – по-домашнему весело сказал Кривошеин, как только Самарин доложил, что явился по его вызову. – Примите к сведению, не пьет, не курит, пока что холост.
Я удивилась:
– Холост? А я подумала, вы встречали сегодня жену. Я ведь вас видела, товарищ Самарин, на станции.
Самарин вдруг вспыхнул. И Жолудев почему-то побагровел.
Я почувствовала, что совершила бестактность. Но, не зная, как спасти положение, опять сказала не то:
– Наши мужчины из редакции, офицеры, тоже переживают. Не идти же рядом с женой и смотреть, как она тащит сумки из распределителя. А ваша спутница так много привезла. И чемодан. И этот замечательный белый таз…
– Надо полагать, что лейтенант сопровождал мою жену и тащил ее вещи, – насмешливо сказал Жолудев.
– Так точно, капитан, – хотя Самарин рапортовал, как положено по уставу, в тоне его зазвучал вызов. – Я нес вещи вашей жены, поскольку ее никто не встретил.
– Что же вы хотели, лейтенант, чтобы я понес таз и прочие дамские шмутки? – Жолудев пожал плечами. – Удивляюсь, как вас не заметил комендантский патруль…
– Ну и что? Я бы дал надлежащие объяснения.
– Такое отношение к слабому полу делает вам честь. Удивляюсь, что Люся не сумела оценить вашу преданность раньше.
В словах капитана таился такой ядовитый намек, что у Самарина запылали кончики ушей. Нет, дело тут вовсе не в нарушении приказа. И по тому, как морщился Кривошеин, ясно было, что и он это понимает и что ему, как и мне, мучительна эта сцена.
Самарин круто повернулся к Кривошеину:
– Вы меня вызывали?
– Ну, садись, отдыхай, – добродушно сказал Кривошеин.
Самарин сел. Но Жолудев все еще не успокоился:
– Лейтенант!
Самарин вскочил.
– Слушай, лейтенант, – небрежно заговорил Жолудев, испытывая явное удовлетворение от того, что Самарин обязан перед ним «тянуться», – тут вот корреспондентка приехала. Так в твоем палаццо имеется закрытая терраска, может, окажешь гостеприимство?
– Слушаюсь, товарищ капитан. – Самарин смотрел мимо Жолудева, на меня. – Только как бы вам не было шумно. Плац рядом.
– Это пустяки. Если только вас не обременит… – попыталась вставить я.
– Им нужен покой, тишина, условия для умственной работы.
Жолудев бесцеремонно остановил Самарина:
– Ну ладно, ладно. Так я распоряжусь насчет койки.
И, сделав легкий поклон в мою сторону, Жолудев удалился.
Кривошеин облегченно вздохнул:
– Петухи, настоящие петухи в Испании. Или это бой быков в Испании, а?.. Так вот, – не дожидаясь ответа, строго сказал он, – поскольку товарищ прибыл из газеты, а пропаганда опыта – наше общее дело, то ты того… не скромничай и отвечай на все вопросы.
– Говорят, ваше подразделение не имеет ни взысканий, ни замечаний, – вмешалась я.
– Факт, – подтвердил Кривошеин. – Дисциплина у него высокая.
– Вот именно сейчас я опасаюсь, – таинственно крутанул головой Самарин, как бы высвобождая шею из воротника, – опасаюсь, что положение может в корне измениться: принимаю новое пополнение.
Кривошеин дипломатично поправил его:
– Опасения – это еще не реальный факт. А на сегодняшний день твое подразделение лучшее в полку.
От комнатки Самарина меня отделяла тонкая перегородка с окном. Я отлично слышала его шаги, вздохи, щелканье выключателем, даже тихий разговор с собачонкой, вертевшейся под дверью, выходившей, как во многих азиатских летних постройках, прямо во двор. Самарин оделял собаку кусками, что-то ласково бормотал, посвистывал, только выговорил за то, что снова вся извалялась в пыли.
Крытая терраска, тесная и душная, напоминала запыленную стеклянную банку. Мутные окна припорошило песком. Я вынула полотенце, поставила на столик карточку сына, спрятала под подушку маленького зайца, которого он велел взять с собой в дорогу. Достала карандаши и бумагу.
На новом месте мне не спалось.
Сквозь голые, с набухшими почками ветки тополя смотрела на меня яркая звезда. Блеск холодный, далекий, зеленоватый. Будто в душу она мне глядела, эта ледяная звезда…
Глядела, а что видела? Может, волнение? Всегда страшно, даже когда заметку собираешься писать. А тут очерк… Ведь совестно перед людьми, у которых отнимаешь время. Или горькое недоумение, к которому нельзя привыкнуть, разглядела звезда? Идет огромная война, а ты, которой всегда верилось, что будешь там, где происходит самое главное для страны, ты живешь где-то далеко-далеко, в глубоком тылу, и только жадно слушаешь сводки.
Материальные лишения, работа в тыловой газете, в подшефном госпитале – это так немного, чтобы успокоить совесть. А семью покинуть невозможно. Вот и сейчас, хотя они ночуют под мирным небом, под прочной крышей, гнетет тревога. Как там мой мальчик? Проспит ли спокойно до утра, не проснется ли, не заплачет?
И последняя мысль, перед тем как задремать, – застану ли я, когда вернусь, письмо из Москвы? Выслан ли вызов? Как тяжко в такое грозное время жить врозь. Меняешься чуть ли не с каждым часом, становишься старше, мужественнее, может даже мудрее. Открываешь в себе все новое и новое. Как будто идешь дальней, трудной дорогой и не знаешь – выведет ли тебя эта дорога снова к дому, к старым отношениям, и будешь ли ты сама такой, как прежде? И спутник твой, останется ли он таким, каким был когда-то? Ведь и он идет по трудной дороге, когда день равен месяцу, а месяц – году…
Я встала, едва рассвело, с трудом распахнула разбухшую раму. Благодатной широкой струей потек на терраску свежий воздух…
Над огромным двором висело туманное небо, видны были казармы, домишко штаба и политотдела, вещевой склад, столовая. Под «грибом» стоял часовой. Из конюшни вывели смирную сивую лошадь, впрягли в фургон – видимо, собрались в пекарню за хлебом. Лошадь меланхолично, как старая балерина, перебирала ногами.
На деревянном щите висела наша газета.
У забора кучкой, на сундучках и чемоданах, поеживаясь от утреннего холодка, сидели бойцы, с любопытством оглядываясь по сторонам. Это, видимо, и есть новое пополнение.
Слышно, как за перегородкой встал Самарин, скрипнул сапогами, звякнул пряжкой ремня. Кто-то постучал к нему в дверь, вошел. Говорили шепотом, чтобы не разбудить меня. Потом я расслышала, что это какой-то Горлов пришел прощаться: уезжает на фронт.