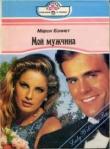Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Его как будто осеняло:
«Ты посмотри, как он ходит. Как петух, как индюк, как я не знаю кто… Он весь лоснится от самодовольства… Это профессиональный муж, понимаешь? В этом смысл его существования, ведущая идея… Его гордость, если на то пошло».
«Неправда, он любит и ценит Лелин талант, ее творчество… Он помогает ей жить…»
И я сказала потом Владимиру Ивановичу:
«О да, ты прекрасный человек и в поэзии знаешь толк, ты предельно честен и добросовестен. Но почему ты никому не принес счастья, почему всем нам так плохо – и мне, и твоей жене, и твоим детям?..»
Женя виновато улыбнулась, как бы извиняясь, что стала рассказывать о себе. Она ничего не умела скрыть, а может, и не хотела – гордая, храбрая Женя.
Я спросила у нее!
– А почему Орест не предложил вам жить в их пустом доме? Зачем же вам снимать мансарду?
– Думаю, что не догадался. Просто не пришло в голову…
– Ему в голову приходит только то, – сказала я, торжествуя, – что полезно или нужно самому.
– Неправда, вот уж неправда! – закричала Женя. – Он много раз предлагал мне деньги…
– И вы брали?
– Нет, – кротко ответила Женя, – я не хотела брать деньги. Зачем? Я не хотела примешивать к нашим отношениям что-нибудь материальное…
– Вот видите. – И осеклась. Ну что я лезу в чужую душу? Только сказала: – И все-таки я не понимаю, хоть убейте, как Леля вышла за такого человека, как Орест, и, как вы говорите, даже полюбила его…
– …В Оресте были доброта и преданность, которых Леле так не хватало всю жизнь. Это не любовь-поединок, не любовь-подчинение, которой она бы не стерпела, как терпела я. Женственная натура Ореста нужна была Леле как воздух, как тепло, как солнце, а сам Орест – парадоксально, да? – становился при Леле больше мужчиной. Учился у нее тому, чем не владел сам, или, вернее, владел, но в малой степени. Широте ее взглядов, размаху души, если можно так выразиться. Орест, что ни говори, был артистичен, восприимчив…
– Но расчет все-таки был?
– Нет, – запротестовала Женя, – не расчет. Только не расчет. Он много зарабатывал сам, писал сценарии для научно-популярного кино. И очень ловко. Но душа его жаждала художественного творчества. И он любил Лелю.
– А будь она не знаменита?
– Ну, не знаю. Не уверена. Но он ее любил. Он был активно добрым, возил к ней докторов, доставал из-под земли лекарства, смешил ее. Я встретила Ореста осенью, в сырое, туманное утро – он бежал на рынок за цветами. «Когда Леля проснется и увидит в пасмурную погоду яркие цветы, ей будет не так тоскливо». Нет, мой Владимир Иванович был на такое неспособен…
Тут даже я дрогнула.
– Может, и правда любил? Вот была известная французская певица Пиаф, Эдит Пиаф, немолодая уже, некрасивая. А муж-мальчик любил ее за одаренность. Молодых смазливых девчонок, в сущности, много…
– Мне не везло в любви, – сказала Женя просто. – Никаких таких особенных чувств я ни у кого не вызывала. Леля считала, что я не умею за себя постоять. Но, – она развела руками, – я считаю, какая же это любовь, если за нее нужно бороться…
Мне стало совестно, что я заставляю уже немолодую женщину так раскрываться, «выкладываться». Я спросила:
– А Леля была верным другом, она умела дружить?
– Смотря как понимать, что такое дружба. Сестра считала, что Леля меня бесцеремонно эксплуатирует, ну, чисто в бытовом плане. Сестра посмеивалась всегда, что Леля мне редко подарки привозит. Но я так не считала. Разве дружба в этом? Леля давала мне возможность подниматься до себя, до своих интересов…
И только тут, спохватившись, что время уходит и что Орест действительно с минуты на минуту может появиться, я стала спрашивать о главном. Женя раньше упомянула о трагедии Лели: как она это понимает? Леля писала спекулятивно? Лакировала действительность? Я не представляла, как теперь, в наши дни, можно волноваться у Лелиных картин, хотя сама когда-то – не так уж давно – очень увлекалась ее произведениями. Считала их оптимистичными, масштабными. Я сказала:
– Мы так выросли за эти годы. Многое из того, что нравилось, теперь кажется фальшью…
Женя согласно кивнула головой. Я хотела понять:
– Она что, хотела дешевого успеха? Боялась правды?
– Правда не всегда бывает красивой…
– А по-вашему, надо рисовать красиво? – допытывалась я.
– Не то чтобы красиво, – ответила Женя, – и не то чтобы возвышенно… – Она подыскивала слово. – Но писать надо высоко, вот именно – высоко. Некрасивую правду я и сама вижу каждый день. А у Лели был размах…
– Но я все-таки за правду. Хотя не отрицаю, что размах в картинах Лели был…
Ах, эти волшебные краски, неистовость, праздничность! Эти веселые сюжеты, чуть-чуть слащавые… Я уже ломала голову над ними когда-то, то восхищаясь, то ужасаясь. Как они были неожиданно нарядны, ее сюжеты, смелы, невозможны в реальной жизни! Тогда и возник мой интерес к личности Лели. Может, я пристаю теперь к Жене с расспросами только лишь по старой памяти, по инерции сохраняя жгучий интерес, ища ответы на свои давние сомнения. Дело ведь, в сущности, не в Орике, а в Леле.
Я сказала это Жене, стараясь, чтобы она поняла, чем объясняется мое любопытство, настойчивость, даже бестактность.
Она мотнула головой.
– Я понимаю, иначе бы и разговаривать откровенно не стала…
– Надо ведь не просто изображать правду, надо уметь видеть правду.
– Леля любила успех, но она не притворялась, нет. Мы иногда спорили. Леля говорила так: «У меня бешеная интуиция. – И раздувала ноздри. – Если бы я была геологом, я чуяла бы ископаемые, нюхом». Такое чутье у нее было и на общественные явления. Ее очень ценили. Она умела угадать…
– И угодить, – уже дерзко сказала я.
– Она не угождала, – с болью сказала Женя. – Это получалось само собой. Я иногда говорила: «Леля, мне кажется, рисовать надо только свое, выстраданное, только свое выживет и пройдет проверку временем». А она смеялась. Даже не раздражалась, а смеялась надо мной… Леля не любила несчастных, слабых людей. Сама была сильная и изображать хотела сильное, яркое, героическое…
– Как это не вяжется с ее собственным образом жизни, с характером Орика…
Женя вздохнула:
– Все-таки с Ориком она была счастливее, чем одна.
– Кто знает…
– Я знаю, – твердо сказала Женя. – Я-то знаю… Леля часто дарила мне свои наброски, этюды. А иногда я сама подбирала клочки, которые она бросала. Есть такие зарисовки, такие интересные куски, совсем не те, что попадали на полотно. Но потом Орест все у меня забрал…
Я даже закричала:
– Зачем же вы отдали?
– Ну, как зачем? У него порядок – папки, шкафы. И все-таки больше прав, чем у меня.
– Но подарено было вам?
Она развела руками. И сказала задумчиво:
– Судить всегда легко. А если ты жил и верил, что живешь правильно… и писал честно то, что думал, что казалось тебе нужным и полезным людям…
– У нее был неплохой советчик, у Лели: кто-кто, а Орест знал, что кому полезно, какие эскизы надо использовать, а какие отбросить…
Женя ничего не ответила. Задумалась. Потом сказала тихо:
– Я все простила Оресту, когда увидела его у могилы Лели. Он стоял, засунув руки в карманы плаща, растрепанный, толстый, с обиженным выражением лица, какое бывает у толстых мальчиков, и плакал. А ветер все сильнее трепал его волосы. Он пришел без цветов, в то время как ему, если бы он играл роль неутешного вдовца, полагалось держать или огромную охапку, или хотя бы одну-единственную белую розу. А он просто стоял на ветру, несчастный, и рыдал… Вот тогда я по-настоящему примирилась с ним.
Потом я помогала ему разбирать Лелино хозяйство, и мы нашли дневник. Каждая страница этого дневника была полна любви к Оресту. Он был добрый человек. Просто добрый. И, я вам уже говорила, я готова поклониться ему за это до земли. За то, что он вызвал меня на похороны, – ведь мог забыть обо мне. И потом я у него бывала. В квартире по-прежнему висели Лелины картины, Лелины портреты, все оставалось на своих местах. Он так следил, чтобы все сохранялось в порядке. Леля была права. Он действительно устроил ее посмертную выставку, выпустил сборник воспоминаний…
– А Зоя?
– Что Зоя? Те, кто предсказывал, что он тут же женится на хорошенькой, едва только Леля умрет, ошиблись. Он женился не скоро. На девушке, которую Леля знала, которой покровительствовала. И Орест по-прежнему ходит на кладбище и ухаживает за могилой. А в доме, как и раньше, Лелин культ. Орест долго был безутешен. Только когда у Зои прорезался голос, талант, Орест ожил и повеселел. Стал хлопотать, ухаживать, устраивать ей выступления и концерты…
В это время в конце аллеи показался Орест. Женя встала. Она уже не летела, не рвалась к нему, просто сделала навстречу несколько шагов.
– Орест, – сказала Женя, сразу лее забыв обо мне, – Орест, что будет с домом? Отдай им, раз они так хотят, они ведь тоже родня…
Лицо у Ореста окаменело, он стал похож на римского патриция, как их изображают в учебниках истории.
– Орест, ты должен отдать им дом…
– Это память о Леле, – отрезал он. – Мне там дорога каждая половица. Сколько угодно денег, только не дом. – И сделал жест, из которого можно было понять, что уговоры бесполезны. И даже бестактны.
Женя не стала настаивать.
– Я так хочу послушать Зою, – сказала она.
Орест оживился:
– Зал неплохой, акустика приличная. Я во всем убедился сам. Прощай, Женя. Прощай, верный друг. Как хотелось бы посидеть, поговорить, узнать, как ты и что. Но я тороплюсь. У Зои три выступления, в Ленинграде погода неверная, так легко простудиться… – Он зябко пожал плечами и запахнул на шее пуховый шарф, как будто он должен был петь, а не Зоя.
Когда Орест ушел и Женя, взволнованная и немного огорченная, вернулась, я сделала последнюю попытку:
– Почему Орест не предложил вам контрамарку?
Женя даже не ответила.
Открыли кассу, мы взяли билеты, и Женя вспомнила про свою авоську с банкой, все еще висевшую на спинке скамьи. Солнце ушло, стекло больше не сверкало, почти слилось с тенью, падавшей от дерева.
– Совсем вылетело из головы. Я ведь еще должна купить сметаны к обеду…
Много времени утекло с той поры, как мы сидели с Женей в парке в тот осенний день. Больше мы никогда не виделись, хотя я много раз обещала ей приехать летом. А теперь она что-то перестала отвечать на поздравительные открытки, которые я упрямо посылаю. Боюсь даже думать, почему она молчит. Надоело? Заболела? Стала ко всему равнодушной? Справиться не у кого, связь с домом тетки давно оборвалась.
Время, годы смягчают людей, как морской прибой обкатывает и шлифует камни. Я уже не так безапелляционна, не так уверена в том, что знаю, как надо жить, как поступать, решать. Часто, вместо того чтобы твердо сказать «плохо» или «хорошо», уклончиво отвечаю: «Мне это было интересно». То есть моя категоричность в суждениях уступила место длительному раздумью. Теперь я гораздо больше ценю заботливую дружбу, порядочность, доброту. И вот тут нередко вспоминаю о Жене. Все-таки я многим ей обязана. Она умела относиться к людям справедливо, непредвзято. Я склоняюсь к мысли, что Женя была права: не так уж мало, если человек умеет любить и служить тому, кого любит. Это тоже своего рода талант…
СЛОВА
Рассказ
Областное совещание учителей подходило к концу, когда Ольгу Петровну Лапкину позвали к председателю отдела народного образования товарищу Кучеренко. В президиум. С бьющимся сердцем она свернула в трубку тетрадь, куда записывала все интересное, что говорили ораторы, что казалось ей наиболее важным и полезным: примеры из педагогической практики, обобщения, цитаты, теоретические и иностранные термины – все, что она любила когда-то в институте и что со временем, в деревенской школе, стало забываться.
Совещание проводилось в Доме учителя, и чего только не успела передумать Лапкина, пока пробиралась через ярко освещенный, жаркий, битком набитый зал бывшего барского особняка к сцене, где сидел президиум. Может быть, Кучеренко, слышавший ее отчет о работе, заинтересовался их школой? Или она допустила в своем докладе ошибки? Но какие? Ей ведь так громко и долго аплодировали. Нет, скорее Кучеренко ее похвалит. Может, попросит о чем-нибудь. Да мало ли… Но какая-то перемена в ее жизни должна наступить. Обязательно перемена. Она уже, как передатчик на позывные, настроилась на волну счастья. Удачи. И остановилась перед председателем, красная от смущения, волнения, надежд.
Но Кучеренко, пожилому, с очень усталым лицом человеку, видимо, наскучило именно то, что вызвало такой восторг у Лапкиной: он ведь не раз уже слышал все это на многих других совещаниях и инструктивных беседах. И пришел сюда лишь затем, чтобы самим фактом своего присутствия подчеркнуть важность разбираемых вопросов. Мысли его были далеко. Близилась осень, а план заготовки топлива для школ был выполнен только наполовину. Каково-то несытым, плохо обутым детям сидеть на уроках в холодном помещении. Не хватало учебников, школы не были укомплектованы учителями. Это надо же – три пожилые учительницы, в то время как молодые чахли без мужей, вздумали рожать, взяли декретный отпуск. И, как нарочно, все три из самых дальних сел, куда и замену-то не скоро найдешь… Кроме того, ныла плохо зажившая после ранения рука.
Обо всем этом и размышлял Кучеренко, глядя куда-то мимо худенькой женщины с встревоженными серыми глазами на обветренном лице, молча стоявшей около него. И только когда секретарь представил Лапкину, Кучеренко опомнился:
– Ну, так вот, дорогой товарищ Лапкина. Мы к вам направляем одного человека… только что из госпиталя…
Секретарь подсказал:
– Федотова.
– Ага, Федотова. Он поедет к вам проверить, как у вас налажено военное дело. Дня на два, на три. Военному обучению мы придаем серьезное значение. Человек он у нас временный, отдохнет немного, подкрепится и снова уедет. Так что передайте директору, пусть по возможности создаст условия товарищу…
– Федотову, – опять подсказал секретарь.
– Я помню, – недовольно отозвался Кучеренко.
– Но ведь к нам часть дороги надо идти пешком, – торопливо, словно в этом виновата она, сказала Лапкина. – Можно, конечно, доехать на попутной, но это если повезет…
– Военного человека трудностями не напугаешь…
Лапкина подождала немного, но счастливая волна, видно, отхлынула, пошла на спад. Кучеренко молчал. Лапкина сказала упавшим голосом:
– Хорошо, я передам директору.
– И пусть не задерживает сведения, как там у него с топливом. Заготавливает ли дрова? Осень, видите, какая ранняя…
Лапкина кивнула.
– А с жильем у вас как? – потеплев, спросил Кучеренко. – Плохо живете?
Лапкина опять утвердительно кивнула, пожала плечами, как бы извиняясь, что снова вынуждена его огорчить.
– Знаю, знаю, что плохо. Главные наши беды – топливо и жилье для учителей. Бегут от нас люди. Сами-то вы не собираетесь бежать?
– Нет, – сказала Лапкина, – уезжать я не собираюсь…
– Знаем, что плохо с жильем, да нет пока никакой возможности, – не слушая ее, но ласково говорил Кучеренко. – Не обижайтесь. Нету пока жилья. А на нет, как говорится, и суда нет…
– Но я ведь не обижаюсь, я понимаю… – Лапкина еще немного подождала: надеялась, что он скажет ей что-нибудь еще, очень важное, главное – как растить в тяжких послевоенных условиях маленького человека, – дрова и даже ее плохое жилье как-то не вязались с ее приподнятым настроением, с высоким накалом чувств и мыслей. Но Кучеренко опять замолчал.
Немного разочарованная, Лапкина медленно пошла на свое место. Тоненькая струнка возбуждения еще трепетала, вибрировала в ней, еще с удовольствием она вбирала в себя последние впечатления – речь московского профессора о методике преподавания родного языка, свет хрустальных старинных люстр, заключительный концерт местной самодеятельности, оживленный смех, прощание с новыми знакомыми, библиотечку с надписью на бумажном пояске «Участнику совещания учителей», – но уже исподволь подступали будничные практические заботы: да, надо собираться в обратный путь, надевать разношенную обувь, чтобы не так трудно было идти, получить по ордеру мыло и ситец. И еще ей очень хотелось, выстояв любую очередь в буфете, купить колбасы или рыбных консервов, каких-нибудь конфеток, что ли. Ведь обязательно, когда она вернется, набегут учительницы порасспросить, послушать ее рассказы. Но много покупать тоже нельзя: и денег оставалось чуть-чуть, и тяжело нести. А тут вдобавок этот Федотов, как еще они будут добираться…
Лапкина встретилась с Федотовым, как было условлено, возле главного почтамта. Он был высокий, плечистый, лет тридцати пяти на взгляд, может быть сорока. Он показался ей довольно красивым, вернее, очень симпатичным, она даже немного смутилась. О чем говорить в дороге и что этот роскошный подполковник станет делать в их школе? Да еще такая трудная дорога, как нарочно…
Они ехали поездом, тряслись на попутном грузовике, а на ночь пришлось остановиться в полуразрушенной избе на берегу реки.
До войны это был колхозный дом приезжих. Он и теперь именовался так, но был запущен, неприбран, койки и топчаны стояли старые, сено в тюфяках сбилось, наволочки давно не сменялись. Когда они пришли, их встретила морщинистая, беззубая тетка, показала, где спать, спросила, нет ли курева для ее хворого старика, и тут же собралась уходить.
– А ключи кому потом сдавать? – спросил Федотов.
– Да какие там ключи! – удивилась тетка. – Замок-то давно проржавел. Нет, – сказала она, потуже завязывая платок, – к нам, почитай, никто и не заезжает. Уполномоченные если, те прямо к председателю едут, там и ужинают, партийные – те, наоборот, у нашего секретаря ночуют. У нас же ни заварки, ни хлеба. Был титан, так на сев взяли и не вернули. Я уж жалилась председателю, а он смеется: «Подожди, Марковна, скоро все будет. И тебе, говорит, куплю форму с золотым шнурком на вороте, будешь встречать приезжих. Жаль, говорит, ты не мужчина, без бороды. Я до войны еще в Москву ездил, так там в гостинице старик весь в золоте и с бородой…» Так и не отдал титан.
Федотов все-таки укорил:
– Но веник-то могли бы связать, вон у вас лес рядом, береза…
– Веник был, исшаркался… – Сторожиха успокоила Федотова: – Я велю своему мужику, он нарежет. Вот только здоровьем он слабый…
В одной комнате на койке кто-то спал, с головой накрытый потрепанной шинелью, вторая койка пустовала. Через коридорчик была еще одна комнатка. Лапкина прошла туда, села на топчан, прислонилась затылком к прохладной стене. Славно. Федотов что-то говорил ей, она кивала, ничего не понимая; да-да, она дождется чая, который он непременно хотел вскипятить на плите, и тут же, сидя, уснула, как мертвая.
Когда она открыла глаза, уже светало, четко проступало то, на что она и не посмотрела вчера, – облупившиеся стены, оклеенные плакатами, стол, деревянные табуретки. Солнце еще не взошло, все, что было за окнами, – темная кайма дальнего леса, вершины высоких елей на опушке, – сливалось в густую зеленую массу. Но какие-то пушистые ветки, какие-то острые верхушки все-таки выделялись, стояли наособицу, и за ними уже возникал золотой солнечный ореол. Золота, сияния становилось все больше, на березках, что росли недалеко от избы, уже весело сверкала роса, торжественно светились белые, тонкие, почти не замшелые стволы. Береза была любимым деревом Лапкиной. И еще клен, у клена каждый лист как будто сделан художником. Почему-то у них в деревне не было кленов…
Она вдруг неожиданно для самой себя обнаружила, что кто-то подложил ей под голову обернутую в чистое вафельное полотенце подушку, снял с нее башмаки и укрыл ее же собственным стареньким, измявшимся в поезде пальто.
Она носила это пальто, еще когда училась в институте. Чудом каким-то они купили с бабушкой такое славненькое пальто. Она любила его и особенно узенький меховой мягкий воротничок – так приятно было трогать пушистый ворс подбородком. Пальто служило все сезоны. Когда ей бывало весело, она вспоминала один старый роман. Много таких старых, затрепанных романов было в их городской библиотеке, когда она еще жила дома, и однажды, подростком, она обнаружила в книге записку: «Тот, кто найдет эти строки, – отзовись». И подпись: «Одинокая душа». Записка пролежала в книге так долго, что отзываться было бессмысленно, но Оля Лапкина часто силилась представить себе этого человека, эту одинокую душу. Она старалась угадать: кто он? Чего и кого искал? Почерк был скорее мужской, твердый и крупный. Так вот, в книге, где лежала записка, упоминалось, что в Париже наступила весна, продавщицы и швейки, фабричные работницы уже ходили простоволосые, с цветком, засунутым в прическу, но дамы из высшего света еще кутались в меха. «Я ношу меха даже ранней осенью», – смеялась Оля. И студентки, которые ее любили, говорили: «Вечно ты со своими фантазиями, Оля». Те, которые не любили, фыркали: «Ну и воображала ты, Лапкина!»
После института она очень надеялась на новое пальто, но не было денег, а тут еще и мех вытерся, пальто теперь свободно Можно было носить даже летом. А уж в войну…
…Тут до нее дошло, что она заснула одетая. Неужели это Федотов снимал с нее туфли, укрывал ее? Как неловко… Хорошо еще, если в дороге не протерлись чулки. Тогда вообще все ужасно.
Она взглянула – чулки вроде целые.
Все-таки она поскорее вскочила, одернула юбку, обулась. Дверь в коридор была широко распахнута, и дверь в комнату, где ночевал Федотов, тоже была раскрыта. Человек, спавший под шинелью, должно быть, ушел.
На стуле была аккуратно развешена зеленая гимнастерка. Федотов спал на спине, подложив руки под голову. От его крепкой, белой, незагоревшей шеи, видневшейся в круглом вырезе сорочки, веяло какой-то детской чистотой.
Она долго стояла и издали смотрела, Как он безмятежно спит. Не то любовалась, не то старалась узнать в нем кого-то или вспомнить. Даже странно, что она, такая дикарка, вдруг прикипела к этому едва знакомому человеку. Вчера они едва-едва обменялись несколькими фразами. Он мало спрашивал, а если спрашивал, то все о деревне: какая теперь там жизнь, восстанавливается ли хозяйство и тому подобное. Она, как умела, отвечала. Ни о чем таком, что касается лично ее, разговора вроде не было. И она не расспрашивала, кто он, откуда к ним попал и зачем едет в их школу.
Но все равна она бы поверила всему, что он скажет, пусть самому невероятному: такие люди не лгут. Вот это она знала твердо.
Лапкина вдруг испугалась, что Федотов почувствует ее взгляд и проснется. Она вышла на крыльцо.
В кустах пронзительно и весело посвистывали и щебетали птицы.
Дом приезжих стоял на опушке, среди берез и рыжих, выгоревших сосен. Лапкина прошлась по лесу, нашла несколько сморщенных грибов и куст сухой мелкой земляники. Утро было тихое, спокойное, по-осеннему чуть печальное, с желтеющими листочками, беспокойными облаками над головой и напоминающим скипидар запахом опавшей и высохшей за лето хвои.
Она умылась из ручья и вытерлась носовым платком.
Это тоже показалось ей прекрасным, как земляника, и трепещущие на ветру березовые гибкие ветки, и небо. И все время она вспоминала совещание, заново переживала то, что передумала и перечувствовала за эти четыре дня в областном городе. Она вчера сказала Федотову:
– Мне этой зарядки хватит надолго.
– Какой именно? – уточнил он.
Ей не захотелось объяснять подробно, она просто улыбнулась в ответ. Как скупец, она побоялась открыться, таила накопленные сокровища, хотела приберечь воспоминания на длинные осенние вечера, на глухую зиму.
Окончив пединститут за год до войны, она не колеблясь поехала в деревню. И никогда не жалела об этом. У нее заранее было решено, что учительствовать она будет в деревне, но, конечно, скучала по городу, по театру, по свежим журналам. Иногда, когда плохо натопленные печи выстывали к утру и становилось так холодно, что страшно было вылезать из-под одеяла, она начинала как чудо вспоминать студенческое общежитие, где были паровое отопление, душевая с серым выбитым цементным полом, электричество. Она куталась в вылинявший купальный халат с широкими рукавами, и школьная уборщица, украинка, ядовитая и языкастая женщина, говорила: «У вас ряса, Ольга Петровна, як у попа». Как все молодые учителя, Оля Лапкина дала себе поначалу слово не опускаться, следить за книжными новинками, устраивать со школьниками спектакли. И, как все, она не успевала ни следить за литературой, ни изучать языки. А потом началась война. Война все перемешала, не до самообразования было. Ей жилось очень трудно.
Много работы было и в школе, и в сельсовете, и в райкоме партии, и в райисполкоме. Всюду считали, что «учителя – наша культурная сила». Не было ни одной хозяйственной или политической кампании, которая могла бы пройти без учителей, следовательно, и без ее участия. Она писала письма на фронт, читала вдовам похоронки и плакала вместе с ними, иногда работала в поле. Всюду не хватало рук.
Оля Лапкина сознавала, что тупеет, забывает теорию, загруженная практическими делами, и что она никогда уже не соберет материалы для той работы по педагогике, которую она задумала, когда была студенткой. Какая уж там педагогика! «Не до жиру, быть бы живу, – говорили ей старые учительницы. – Выжить бы… Хорошо, у вас нет семьи на руках». И верно. Не было еды, а если и была, то грубая, скудная. Картошка, картошка, чай из смородинового листа, похожий на глину хлеб. Она ведь не держала коровы, не сажала овощи, как делали семейные. Ела всухомятку, кое-как. Но руки все равно огрубели и лицо обветрилось, стало не таким тонким, не таким нежным, как было.
Совещание в областном центре всколыхнуло ее, встряхнуло, освежило. «Я глотнула озона, – думала она. – Я полна новых сил».
Когда она вернулась в избу, Федотов уже не спал.
– А знаете, какая штука неприятная, – сказал он озабоченно. – Я ходил, узнавал. Мост, оказывается, разобрали, а теперь какая-то неполадка, будет готово только завтра…
– Вот те и на! – прямо-таки закричала Лапкина. – Значит, придется ждать?!
Она положила на стол грибы и землянику. И вдруг почувствовала, что нисколечко не огорчена: что ж, она с удовольствием отдохнет денек, разберется в своих мыслях.
Она приготовила завтрак, потом просматривала книги из библиотечки, полученной на совещании, а Федотов спал, ходил зачем-то в деревню. Он принес свежей соломы на кровати, открыл забитое окно. Стало свежо и приятно.
Разговаривали они мало.
Лапкина, немного теряясь, завела было беседу о новых задачах в воспитании детей, о современной педагогике, об Ушинском. Но Федотов интереса к этим темам не проявил.
О себе Федотов говорил мало. Вскользь сказал, что попасть домой сразу после войны не пришлось, служил за границей в советских войсках, заболел, долго лежал в госпитале, вышел и вот почувствовал, что война как-то уже подзабылась, все заняты восстановлением, работают. Пошутил, что уже никто не встречает его с цветами и оркестром, как встречали других фронтовиков, а ему надо определиться в мирной жизни, найти свое место. Хочется ему оглядеться перед тем, как отправиться домой. К семье. Семья у него небольшая, есть жена, к которой он и поедет. Жена, он сказал это с гордостью, бывшая спортсменка, очень волевая. И Лапкиной почему-то был неприятен оттенок гордости в его голосе. Чуть надменно, как ей представлялось, она завела разговор о литературе, о книгах.
Но этого разговора Федотов не поддержал.
Оле Лапкиной казалось, что для нее не существуют люди, которые не любят искусства, и из всех учителей их района она выделяла только математика Козакова, который, немного, правда, фальшивя, играл на скрипке и уверял, что любит французскую живопись и стихи Симонова. «Что бы там ни писали критики, поэзия немыслима без любви. А в его лирическом дневнике есть живая женщина. Я как будто слышу стук ее каблуков». Козаков был худ, неопрятен, очень близорук, из-за этой близорукости его и не взяли в армию, но только с ним Лапкина могла отвести душу, поговорить об отвлеченном, о постороннем, не только о школе. И все окрестные учительницы подозревали, что у них роман.
Романа, однако, не было, хотя заумные разговоры о любви как таковой, какие-то намеки на чувство, полуслова все-таки имели место. Но Козаков был женат. И жена его, издерганная, чуть истеричная, с огромными, чуть навыкате глазами и завитушками, нависавшими на уши, женщина, которая преподавала географию в младших классах, всегда смотрела на Лапкину со страхом. Как будто Лапкина могла подойти сзади и всадить ей меж лопаток нож.
Лапкина очень огорчалась и старалась быть как можно любезнее, на что Элеонора, жена Козакова, тоже отвечала показным великодушием и с лицом великомученицы, но нервно хохоча зазывала Лапкину в гости:
– Муж так любит разговаривать с вами о литературе, приходите. Он ведь известный болтун. Бедненькая, вам тоскливо одной…
– Да не тоскливо мне вовсе, я так занята. – Лапкина содрогалась при одной только мысли, что ей придется пойти к Козаковым, в их грязную, неряшливую комнату, где муж будет увлеченно разглагольствовать, а Элеонора то неестественно хохотать, то смиренно говорить о том, как хорошо Лапкиной: живет одна, может хоть минутку выкроить для чтения, а у нее дети, муж, огород. Мужа ведь это не касается, она освободила его от домашних забот.
Лапкина не раз давала себе слово оборвать знакомство с Козаковым, ограничиваться при встречах в школе словами «добрый день», «как здоровье» или «всего хорошего», но ее тянуло к нему, потому что больше не с кем было обменяться мнениями о прочитанном. Он хоть знал, о чем пишут в газетах, что на фронте, слушал радио.
Как раздражали ее другие учительницы с их мелкими интересами, склонностью к сплетням, их усталостью и заезженностью, тем, что смирились и согнулись под тяжестью забот и трудных условий жизни. Исключение она делала только для Марьи Ивановны Орловой, но та по натуре была резкой, даже грубоватой, ничего не признавала, кроме служения долгу, твердила: «Ну, милая, ты же сама такую профессию выбрала – учитель. Теперь терпи…» А Оле Лапкиной еще хотелось жить, любить, хотелось какого-то взлета.
Был еще директор, очень славный человек, но старый, больной. Он преподавал историю, в войну служил интендантом и сам признавался: «Позабыл я за войну эту свою историю, да и на многие вещи смотрю шире, приходится очень много готовиться к занятиям». Работы в школе было по горло, чтобы сплотить учителей, общаться с ними, чаевничать, даже в мыслях у него не было. Он все хотел подбить колхозников на то, чтобы отремонтировать школу. Здание построили незадолго до войны, но без ремонта помещение обветшало. То падала с потолков штукатурка, то дымили печи.
Искусством и литературой директор совсем не интересовался.
Не похоже было, что литературой и искусством интересуется Федотов.