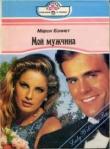Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
– Я такая стала уродина. Просто неловко.
Она хотела причесаться. Иван Васильевич сам взял гребенку и причесал ее. Люся даже испугалась. Потом на глазах ее выступили слезы.
– Больно?
– Нет, наоборот. Хорошо.
– Понятно, – согласился Иван Васильевич. – Ведь операция уже позади.
– Нет, хорошо, когда рядом родной человек.
Потом Люся стала поправляться. Спустила ноги с кровати и, опираясь на Ивана Васильевича, прошлась по палате. Потом начала выходить в коридор. А потом и домой вернулась.
Первые дни она лежала на тахте и, поставив рядом телефон, трезвонила подругам, опять и опять рассказывала с новыми подробностями, как прошла операция, что она почувствовала, когда ей дали наркоз, детство вспомнила – и каким замечательным человеком оказался Иван Васильевич. Можно прямо сказать, что он спас ее. Она так тронута.
– Вот видишь, – укорила Вера.
– Что я вижу?
– Как что? Он замечательно к тебе относится.
– А почему он должен ко мне относиться плохо? Я же была на грани смерти… я смотрела смерти в глаза…
Но время шло, и Люся понемножку начинала замечать, что жизнь входит в свою колею, как река после разлива входит в берега. Опять Иван Васильевич был молчалив и оживлялся только тогда, когда ходил к морю. Возвращаясь с лицом, исхлестанным ветром, он рассказывал, какие суда пришли в порт и какие стоят под погрузкой. Потом его оживление угасало, он становился самим собой. Уже был недоволен, что жена подолгу говорит по телефону:
– Может, кто-нибудь нам звонит, а всегда занято…
– Кто же нам звонит?
– Мало ли…
– Никто нам не звонит! – крикнула Люся, вспыхивая, как когда-то. – Мы живем как в пустыне…
А все-таки Люся перестала надолго занимать телефон.
Уже Иван Васильевич несколько раз был недоволен ее покупками, заметил, что котлеты из трески сильно пережарены, хотя сказал, что вообще-то был рад рыбному обеду. Он укорил, что занавески на окнах не очень чистые, – видимо, забыл, что Люся недавно после операции, что она могла умереть. Это было теперь уже где-то позади. Люся хотела было напомнить, но сдержалась, не напомнила.
– Ты прав, – сказала она мужу, сознавая, что ничего в общем-то не переменилось и не переменится, что жизнь будет такой же монотонной и однообразной, как была, что они и дальше будут, подчиняясь неписаным законам семейной жизни, выполнять свой долг. – Ты прав, пора затевать генеральную уборку…
– Да, нельзя распускаться. Будет лучше для самой же тебя…
Люся взяла мужа за руку, как любила делать в больнице, и, перебирая его пальцы, сказала с легкой печалью:
– Надо жить, раз выжила. Что ж делать? Вот уберусь, освобожусь и стану ходить с тобой каждый день к морю. Ты же не против? Будем делать свои десять тысяч шагов.
ТРАНЗИТНЫЙ ПАССАЖИР
Рассказ
Виктор входит в купе, милиционер идет за ним. Виктор швыряет рюкзак, кладет теннисную ракетку, опускается на свою скамью. Милиционер пристраивается рядом. Сидящие напротив женщины, старая и молодая, хорошо, даже богато одетые, с интеллигентными лицами, удивлены. Пожилая как будто невзначай передвигает поближе к себе пузатую кожаную сумку, стоящую на столике. Виктор смотрит на нее ненавидяще. «Вот, обратите внимание, – говорит он милиционеру, стараясь усмехнуться, но только зло кривит рот, – попутчицы боятся, думают, что я преступник». Той, что помоложе, неловко. «Никто так не думает», – в сердцах говорит она.
По загорелому лицу милиционера, как легкие всплески ряби на ленивых водах медленной реки, пробегает то недоумение, то жалость, то любопытство. Потом лицо его снова твердеет, становится строгим.
– Ладно, – уже решительно просит Виктор. – Даю слово, что уеду. Да и зачем мне оставаться…
– Лучше уж я дождусь. Как бы опять не уронили себя, – не соглашается милиционер. Он садится поудобнее, подтягивает голенища, любуется новыми, тугими сапогами. – Только, – сомневается он, – есть ли у вас курево на дорогу? Может, сходить купить?
– А если я тем временем сбегу? – дразнит Виктор.
Милиционер обижается.
– Будто я не понимаю, кто вы… – Он вдруг признается: – Я всегда довольный, когда наряд на стадион, люблю… Это высшее из высшего – спорт. – В голосе его сочувствие. – А тут такая с вами неприятность…
– Так вы из уважения сопровождаете меня? Вот как…
Виктор начинает хохотать. Он смеется резко, громко, кадык у него дрожит, и милиционер опасливо тянется к графину с кипяченой мутной водой.
Виктор с трудом останавливается, отрицательно машет рукой:
– Да не стану я пить эту теплую бурду…
Провожающих просят выйти. В вагоне поднимается суета. Кто-то, опаздывая, протискивается с чемоданами, кто-то выходит, кричат проводницы. Гремит радио.
– Ну, бывай, – уже по-дружески говорит милиционер. И трясет Виктору руку. – Конечно, мы обязаны пресекать. Как поют, работа у нас такая. Но душа-то, как положено людям… Тем более я и сам увлекаюсь игрой… – Он показывает бровями на ракетку.
Виктора осеняет:
– Возьмите, мне она теперь ни к чему… так же, как и душа…
Милиционер не может скрыть своих мук, весь вспыхивает. Ему очень хочется взять ракетку, но, кажется, это неудобно. С какой стати человек станет дарить такую дорогую вещь? Он пытается облегчить свою задачу, найти объяснение неожиданной щедрости Виктора:
– Вам что, после соревнования выдадут новую? Положено?
– Душу или ракетку? – Виктор мотает головой. – Я же сказал, они мне больше не нужны. Точка.
И, не дожидаясь, пока милиционер выйдет из купе, ложится на жесткую скамью лицом к стенке. Он не поднимается, когда поезд трогается. И не отвечает, когда проводница спрашивает, нужна ли ему постель. За него решают спутницы:
– Конечно, нужна!
– Так ведь… рубль, – мнется проводница.
Старуха предлагает:
– Пожалуйста, я заплачу.
Виктор не поворачивается, не хочет показывать свое расстроенное лицо, достает на ощупь из кармана серебряный рубль. И подает через плечо. А все-таки замечает, как все три женщины переглядываются. Недоуменно и жалостливо.
Спутница помоложе предлагает:
– Может, вы хотите раздеться, так, пожалуйста, мы выйдем…
Пожилая вторит ей:
– Сон – лучшее лекарство…
– Спасибо, я здоров… – Точным движением он сбрасывает ноги со скамьи, убирает со лба волосы, достает из кармана сигареты. И уходит в коридор покурить.
На душе мерзко, пусто, отвратительно. Мимо скользят поля, чуть тронутые желтизной осени. Хлеб уже убран. По проселочным дорогам, по асфальтированным шоссе проносятся машины. У шлагбаумов дожидаются грузовики. Виктор не видит женщину, несущую гуся в кошелке, мальчишек, машущих вслед поезду, не видит стрелочников и дорожных рабочих в ярких оранжевых жилетах, не видит лесов.
Вот так же он стоял у окна вагона лет десять назад, когда ехал из заключения.
Ничего он тогда не знал – где поселится, где будет работать. Твердо верил в то, что навсегда порвано с прошлым, со всем тем, что было раньше, до того, как он перестал быть отчаянным, удачливым Виктором Труновым, а начал отбывать срок наказания. Он понимал, что с теннисом покончено, хотя вся его прошлая жизнь была именно в теннисе. С самых отроческих лет. С первых успехов…
Но какой же теперь мог быть теннис! Виктор огрубел, стал медлительным, неуверенным в себе. Совсем другой человек…
Да, когда-то ему во всем везло, он привык к этому, не предполагал, что можно жить по-другому. Теперь привыкай, Витя, к иному. Да, раньше ты принадлежал к племени победителей и жил среди них. Потом, в заключении, вокруг тебя были потухшие, побежденные люди, сломавшие свою судьбу, оступившиеся. Кем же ты станешь теперь? Чего ты хочешь? Ведь молодость вернуть нельзя…
И Шуру нельзя вернуть. Он понятия не имеет, где она. Писали ему, что вышла замуж, уехала на Дальний Восток, адреса не оставила.
Так что с Шурой все! Можно подвести черту.
И к матери он не поедет. Пока, во всяком случае. Может, позже, когда устроится…
Но где? Кем будет работать? По какой специальности?
Да, тогда он искренне верил, что навсегда расстался с теннисом и вообще со всем прошлым. Какое там прошлое, у него и настоящего-то тогда не было…
Так и стоял у окна вагона. Мелькал пейзаж: чахлые деревца, болотистая, топкая земля с вкрапленными в нее голубыми выцветшими озерами – такого цвета бывают глаза у старых женщин. Насмотрелся он на эти озера, на эти выплаканные глаза, находился по влажной, чавкающей земле, мечтая о сухих портянках, сухих сапогах. И вот, пожалуйста, он обут в новые дешевые, но крепкие ботинки, на ногах не портянки, а тоже новые, бумажные, яркой расцветки носки. И рубашка новая в клетку, и пиджак, и брюки. Он должен бы всем телом ощутить эту новизну, чистоту, но кожа задубела, что ли, или восприятие притупилось…
А может, ошеломило, оглушило ощущение свободы, возможность самому решать, выбирать. Свобода манила, но и пугала. Робким он стал, что ли… Но это пройдет, должно пройти. С каждым поворотом колес, с каждым часом, полустанком или станцией, возникавшими за окном, его растерянность, скованность понемногу отступали. Конечно, они не могли исчезнуть совсем – ведь была полная неясность в делах, – но зато крепла надежда, возникало безумное желание жить, найти счастье, себя…
А сейчас он снова начинает с ноля. Только стал старше.
…Дверь купе приоткрылась, вышла молодая пассажирка, тоже встала у окна, вглядываясь в даль. Потом спросила:
– Вы в Москву?
– Транзитом.
– На юг? – почему-то обрадовалась она. – Мы вот с Маргаритой Ивановной на юг.
– Нет, в Азию.
Она не поняла.
– Ну в Среднюю Азию. А впрочем, я еще не решил…
Она уже прибралась ко сну, смыла с лица краску, подвязала косынкой волосы, сняла с шеи бусы. Стала проще, некрасивее, но милее. Виктор отметил это машинально. Не понимал, для чего она стоит рядом с ним в пустом трясущемся коридоре, пытаясь завести разговор. Но оттого, что поезд все дальше и дальше уносил его от города, где он так безобразно, так нелепо повел себя, понятие о времени сместилось, и ему казалось, что все, что случилось с ним сегодня, было бесконечно давно, в какой-то другой жизни… Кто он? Где он? Не знает, просто мается в тоске, не спит. И может, так и должно быть, что рядом тоже не спит и сочувствует ему попутчица…
Как будто всегда была эта ночь, и вагон, и темнота за окном, мелькающие станции, и тесное купе, и одна пустая верхняя полка с никому не нужной, сиротливой полосатой подушкой, на которую некому натянуть белую наволочку. Он, Виктор, как-то смирился с тем, что чужая женщина стоит рядом и расспрашивает. Некуда ему было деваться ни от замкнутого, душного, стиснутого в деревянной рамке пространства, ни от грохота колес, ни от этой женщины. Хотя он все еще огрызался.
– Я не любительница лезть в чужую душу, – решилась попутчица, – но по-человечески… Это не любопытство, отнюдь…
– А что? – спросил Виктор.
Она пожала плечами:
– Я не из счастливиц, нет. Я знаю, что это такое, когда плохо. – Она снова пожала плечами. – Из-за женщины, что ли?
– Скорее из-за девочки.
– Дочь?
– Ученица.
Она не поняла. Даже немного обиделась. Думала, что он смеется над ней. Сказала неопределенно:
– Бывает…
Он не стал уточнять. Перевел разговор на другое:
– Почему это вы не из счастливиц? Мужа нет, что ли?
– А разве муж – гарантия счастья?
– Ну, не муж, друг, как теперь говорят.
– Вы отстали от моды. Теперь говорят – рыцарь.
Он помотал в удивлении головой:
– Не слыхал. Рыцарь? Нет, не слыхал.
– Не бываете в женском обществе.
– Это верно, – согласился Виктор. – В женском обществе бываю мало. Не интересуюсь.
Она свела брови.
– Ох, какой женоненавистник, ну и ну…
– Много плохого видел от женщин.
Она разозлилась:
– А от мужчин? Только хорошее?
– В мужчинах меньше коварства.
– Ну и ну! – опять повторила она. – Разговариваем как в глубокой провинции, на таком уровне…
– Я в интеллектуалы не лезу.
Он сказал это машинально – про интеллектуалов. Сам не слышал, что сказал. Так уставился в окно, как будто что-то должен был разглядеть там, в промоченной дождиком, влажной темноте. И попутчица, как он ее мысленно называл, «молодая», хотя она не была очень уж молодой, тоже поглядела в окно. Но ничего не видела, кроме мокрых листьев на деревьях, слившихся в одно целое, выхваченных светом, который бросал на них паровоз со своими мощными фонарями. Она вопросительно взглядывала на Виктора: на что же он смотрит, что видит? Ведь ничего нет. А он видел, но не черные, как будто лакированные, осины, не смутно-белые березовые стволы и не сплошное месиво низкого кустарника, выбежавшего на самую опушку, а знойный день, прокаленный корт и маленькую девочку с большим бантом на макушке. На ней были красные сандалики.
Виктор стоял тогда, щурясь от солнца, и оценивающе смотрел на тоненькие, но крепкие ножки, на худенькие плечи. За его взглядом зорко и настороженно следила мама девочки, плотная, одетая во что-то яркое, цветастое, туго натянутое на бедрах и пышной груди, женщина со здоровой, чистой кожей, с серыми, чуть навыкате глазами.
– Хочется дать ребенку все, – почти интимно, доверительно, для чего-то-понизив голос, говорила она, в то же время механически поправляя своими грубыми руками бант у девочки. – Стой смирно… Я сама хотела в молодости петь, были данные, но не было условий. Не то, что теперь, когда наше государство предоставляет детям все… – Она тоже стала смотреть на худенькие плечики дочери. – Вы не бойтесь, она окрепнет. Я ей даю хорошее питание. Лучше я сама недоем, но у ребенка будет все… – Она не давала Виктору ничего сказать. – Когда ее приводить? Иван Иванович – вы, я надеюсь, знаете, какой Иван Иванович? – очень любит мою Аллу…
Виктор постеснялся сказать, что не знает Ивана Ивановича.
– Одно условие – не пропускать занятий, – буркнул он. И положил руку на светлые волосики испуганной девочки. – Договорились?
– Вы с ней построже, – посоветовала мать чуть подобострастно. – Хотя она у меня не балованная, нет… и я лично буду следить за ее занятиями.
– Ну, зачем же…
Виктор все еще стеснялся мам, – папы приходили редко, но с ними было проще, хотя папы чаще заговаривали с ним о футболе, чем о теннисе. Он еще больше стеснялся детей, особенно девочек, – такие они маленькие и хрупкие. Виктор никак не мог научиться выглядеть строгим, просто хмурился, отмалчивался. Детей было много, спорт начинал входить в моду, как балет, как обучение детей игре на рояле, – в глазах рябило от рубашечек и платьиц, в ушах звенело от гомона, от цыплячьего писка, от робкого и требовательного зова: «Дядя Витя!» Он еще к этому не привык, а о том, что его могут называть по имени-отчеству, просто не догадывался. Так и думал, что будет всю жизнь то Виктор, как его звали когда-то, то «Эй, Трунов» или просто Трунов потом… А вот стал дядей Витей…
…Женщина из купе спросила:
– А как же вас зовут? Давайте знакомиться.
– Виктор.
– Анюта.
Она подала ему руку. Он пожал.
– Правда, славное имя?
Он не улыбнулся.
– Приятное…
И опять замкнулся. Замолчал. Анюта тоже долго молчала, потом сказала обиженно и сердито:
– Вы не верите, а я верю в хороших людей.
– Почему? И я верю.
– Но у вас все время какая-то подозрительность…
– Это не так.
– Вы вот не верите мне. Думаете, я не замечаю? Всегда знаю с точностью до микрона, как кто ко мне относится. Ну и черт с вами, относитесь плохо. Почему все должно зависеть от вашего отношения ко мне? Да ничуточки. Я к вам, отношусь хорошо, с интересом. И говорю об этом прямо. А что? Кавалеров не ищу, друзей у меня и без вас много, лестного в знакомстве с вами ничего не нахожу. Как видите, сплошное бескорыстие. Чего ж вы боитесь тогда?
– Да ничего я не боюсь.
– Нет, боитесь, боитесь! Ну вас… – И она, рассердившись, ушла в купе, с шумом задвинув за собой дверь.
«Почему это не верю в хороших людей? – думал ошарашенный Виктор. – Сбесилась она, что ли? Да что бы я стал делать, если бы не хорошие люди, да я бы пропал без хороших людей…»
Ему вспомнился его прошлый приезд в Москву, когда он вышел из поезда со своим дурацким чемоданом, отвыкший от шума, от машин, от городской сутолоки. Ему казалось, что милиционеры смотрят на него с подозрением и сейчас же будут проверять у него документы, что девушкам он отвратителен со своими неотросшими волосами и сбитыми ногтями на руках. Надо было найти ночлег, найти знакомых.
В Москве как раз меняли номера телефонов. Он никому не мог дозвониться, путался, терялся. Звонил по автомату, очередь стучала в дверь, торопила его, монеты проваливались, а толку он добиться не мог. Наконец какой-то гражданин, курносый, рыжий, с авоськой, полной пустых молочных бутылок, сжалился над ним, растолковал, какой теперь порядок.
– Только вряд ли, – все-таки сомневался он. – Не только буквы, номера тоже кой у кого сменились. Такое понаделали – не разберешь. Растет Москва…
– Книжка у меня старая, давняя, – досадовал Виктор.
Он звонил и звонил, выходил из телефонной будки и снова становился в очередь. Рыжий тоже не уходил, сочувствовал:
– Вот досада так досада…
– Одного-то человека мне обязательно надо найти…
– Он тебе кто – родной, друг?
– Друг, – ответил Виктор. – Вот именно что друг.
Он сам себя убеждал, хотя они никогда не были с Владимиром друзьями.
– Так попытайся еще.
Виктор попытался. Гудки, гудки – занято. Потом наконец что-то все-таки щелкнуло, звякнула, проваливаясь в нутро автомата, монетка, и женский голос пропел:
– Алло! Я слушаю.
– Володю, – почему-то охрипнув, скороговоркой произнес Виктор. – Владимира, пожалуйста…
– Владимира Павловича? – переспросила женщина. Она позвала: – Володя, тебя. – И прибавила потише: – Не знаю, странный какой-то…
И тут же раздался нетерпеливый, бархатный, так знакомый ему по радиопередачам голос. Виктор сказал со смешком:
– Володя, это Виктор. Может, помнишь? Трунов.
– Трунов? Что-то не могу сообразить…
– Корты на «Буревестнике» помнишь? Мы там тренировались…
– Извини, не помню. Но в чем дело?
– Ну ладно, раз забыл, что уж тогда…
И действительно, что уж тогда… Это он, Виктор, все эти годы думал, и вспоминал, и смаковал каждое воспоминание, кроме тех, которые хотел забыть. Он тщательно сортировал их, кое-что беспощадно и навсегда зачеркивал, кое-что расцвечивал, как дети разрисовывают пестрыми красками пунктирный рисунок. Вот так, видимо, он разрисовал красным и ярко-синим – своим любимым цветом – их давние встречи с Владимиром. Ну что ж, Владимир баловень судьбы, умница, из хорошего дома, воспитанный, с хорошо подвешенным языком, остроумный, а он – пасынок, несдержанный, резкий, почти неприятный в общении, то молчаливый, то безудержно, неуемно веселый.
Виктор взял свой дешевый чемодан и вышел из будки. Рыжий ждал его.
– Ну что? – спросил он.
Виктор молчал.
– Я на твою спину глядел, мне все ясно стало… Ну что ж, время – оно идет, не стоит, мы забываем, и нас забывают…
Был выходной день, рыжий явно не знал, куда деваться, сдавать посуду не торопился, так и прилип к Виктору. Они вышли на бульвар, сели.
– Ты думаешь, я кому звонил-то? – сказал рыжий, желая высказаться. – Своей бывшей жене. Позвоню и молчу, не знаю, что сказать… И женат во второй раз, и дети есть, а все хочется знать, как та, забыла меня или не забыла…
– А для чего? – спросил Виктор.
– Не знаю. Душа спрашивает… Очень она меня любила когда-то, веревки из нее вил. Только не ценил тогда, даже тяготился. Очень уж стремилась выяснять отношения: люблю ли, да как люблю, да что чувствую… Тьфу!
Смешной был этот рыжий, который велел называть себя Петькой, поскольку еще не старый. Он и не был старым – это Виктору казалось, что все, кому под сорок, уже старики. У Петьки и заночевал тогда – семья была в деревне – и прожил у него дня два, пока не почувствовал, что оттаивает, стряхивает с себя оцепенение, осваивается с тем, что можно идти куда хочешь, спать, пока охота, смело входить в трамвай, в метро, в магазины, держать руки в карманах, а не за спиной. Вдруг поймал себя на том, что стал улыбаться, а раз даже громко засмеялся. Труднее было то, что он уже должен был, уже имел право сам за себя решать… И все это благодаря хорошему человеку.
…И все-таки Виктор снова связал тогда свою жизнь с теннисом. Так вышло само собой. А что он умел делать другое? Лес рубить?
Он задержался тогда в Москве. И боялся, и все-таки хотел найти старых знакомых, посоветоваться, сориентироваться, как говорится, в обстановке. На старую квартиру, к соседям, не было смысла идти: он знал, что их бревенчатый домик давно сломан, жильцов переселили. Обратиться в спортивные центральные организации не решался. Кто он такой? Давно забыт! А смутная, неясная надежда, что все как-то устроится, вопреки всему жила в нем. Ждал чуда? В чудеса он мало верил. Судьбы? Но судьба вроде отвернулась от него. Торжества справедливости? Но он во всем был виноват сам.
Он уверял себя и своего единственного слушателя Петьку, что теннис его не интересует начисто, а сам кружил и кружил возле стадиона до тех пор, пока ноги не занесли его за ограду, не повели по аллейке к корту. Там играли два молодых человека с челками, в красивых шортах и обуви. Виктор сел на скамеечку и начал смотреть на игроков, несколько предубежденный против их франтоватого вида. Но нет, ребята играли неплохо. Один сел потом рядом с Виктором, отдыхая. Ракетку, тоже красивую, с отлично натянутыми струнами, положил на скамью. Виктор не выдержал, потянулся, взглядом спросил, можно ли, и взял ее в руки. Второй игрок, которого звали Юрой, спросил с надеждой:
– Вы играете?
Виктор замялся.
– Может, покидаете мне? Мой партнер выдохся.
Виктор с сомнением посмотрел на свои башмаки. Разуться, что ли? Он подбросил в руке ракетку, взял мячик, сжал в ладони, подержал, наслаждаясь, подбросил. Мячик ударился о грунт, подпрыгнул. Сильным, точным ударом Виктор послал мяч через сетку.
– Вы что, когда-то играли?
– Да вроде, – опять неопределенно ответил Виктор.
– А у вас чувствуется школа, – снисходительно сказал Юра. И крикнул товарищу, растянувшемуся на скамье: – Помнишь? Сергей Иванович… это наш тренер, – не без важности пояснил он Виктору, – говорил про подачу Трунова, очень похоже. – И опять снисходительно пояснил Виктору: – Был такой теннисист, не знаю, куда девался… старичок, наверно… Так вот ваша манера смахивает на его подачу. Но теперь уже так не играют…
В ту секунду, когда мяч, гулко отбитый Юрой, пролетел над сеткой и Виктор перехватил его своим любимым когда-то резаным ударом, он понял, что любит, как и раньше любил, эту чу́дную игру – теннис, хотя понимал, что утратил класс и больше уже никогда не сможет играть тате, как играл раньше. Ни бегать, ни прыгать, как когда-то, он уже не мог. Но удар был сильный, мастерский…
– А вы плачете, – сказала нараспев Анюта, появляясь за его плечом.
– Что-то попало в глаз, уголь, должно быть…
– Нет, вы плачете, – стояла на своем Анюта. – Любопытно. Мужчина курит, мужчина пьет, изменяет, мужчина горит на работе, изобретает, жертвует собой… Но мужчина плачет?.. Значит, у него очень нежная, легко ранимая душа.
Замелькали огни: поезд приближался к станции. На ходу одергивая и застегивая мундирчик, прошла сонная проводница.
– Пойти глотнуть воздуху, – неопределенно произнес Виктор и пошел к выходу.
Проводница уже открыла дверь, в которую ударило свежестью и ветром, спустила железную ступеньку.
– Раньше интереснее было ездить. Все станции, станции, сутолока, люди. А теперь почти без остановок, ничего не видишь, кроме своих пассажиров. Правда, и в вагоне такое иногда случается…
Она выразительно замолчала. Но Виктор ничего не спросил.
– Ну что вы, мужчина, такой печальный? – чуть фамильярно, чуть кокетливо-заигрывающе сказала проводница. – Такой видный, имеете успех. Вон как ваша соседка к вам прилипла. Я вот одна с детьми, с больной мамой, мотаюсь взад-вперед, как маятник на часах, и то ничего, не тужу… Еще хорошо, когда в купированном. А в общем? Там и не отдохнешь, и не вздремнешь, всю ночь колготня. Мама меня ругает: «Вот, не хотела учиться…» А я отвечаю: «Зато весело, вижу жизнь». А вы? Ну что так мучиться? Девушка вас обманула, не поехала с вами, билет пропал… подумаешь! Заведете другую…
– Как это у вас все просто, – рассердился Виктор: – «Заведете другую…» А если ты ей полжизни отдал?..
Ему стало стыдно: ну что он так заорал? На кого? За что? Совсем рехнулся, всю выдержку растерял…
Поезд еще двигался, а он уже соскочил. Проводница сказала испуганно:
– Стоим четыре минуты. Не опоздайте…
– Кем же вы работаете? – спросила Анюта.
– Тренером в детской спортивной школе.
– О-о!.. – пропела она уважительно.
И эта уважительность тронула Виктора:
– Есть такая прекрасная игра – теннис.
Вот как случилось, что он стал работать с детьми. Бывают такие неожиданные, но важные встречи – они поворачивают, решают твою судьбу…
В Москве, когда он слонялся около стадиона, вдруг заметил беременную женщину, которая несла увесистую синюю спортивную сумку, а за руку вела маленькую девочку.
Он закричал:
– Тоня, ты?
– Виктор!
– На стадион? – спросил он.
– В прачечную, какой там стадион…
Она совсем не чувствовала себя несчастной, такая же загорелая, как и раньше, с упругими, сильными ногами без чулок, со своей обычной улыбкой.
Он сказал неожиданно для себя:
– А у тебя, чемпионка, такие же белые зубы, как были.
Она захохотала:
– Зубы – может быть, но, увы, уже не чемпионка…
Маленькая девочка хмуро смотрела то на мать, то на Виктора.
– Вылитый твой портрет. Ты, когда выходила на корт, тоже была такая же серьезная…
– Я? Серьезная? – удивилась Тоня. – А мне кажется, что я всегда и везде веселилась… Сколько же мне влетало за это…
Виктор взял у Тони из рук сумку, довольно-таки тяжелую, и донес до прачечной самообслуживания.
– Чудесное заведение, – похвалила Тоня. – Все механизировано. Через полтора часа я выйду отсюда с чистым, глаженым бельем. Если, конечно, дочка не закапризничает…
– Может, я с ней пока погуляю?
Тоня обрадовалась:
– Ты правда можешь погулять с ней? Ой, Виктор…
– Могу, – не очень уверенно ответил Виктор. – Только опыта у меня маловато…
– Опыт – дело наживное. Вот женишься… – Она все тараторила, сверкая действительно очень белыми зубами, как будто не знала, что случилось с Виктором, не удивлялась, что видит его, ни о чем не спрашивала. Сказала почему-то шепотом, доверительно: – Я бы хотела иметь много-много детей, люблю маленьких. Только знаешь, как трудно после родов входить в спортивную форму… получается большой перерыв…
Она спохватилась и замолчала в испуге: сказанное могло больно задеть.
Виктор понял, что Тоня все про него знает, ни о чем не забыла и жалеет его.
– После нее, – она показала глазами на девочку, – я еще играла на первенство, но, увы, взяла только третье место. Не знаю, что будет теперь. У нас запрограммирован мальчик…
– То, что ты играла на первенство, я знал, прочитал случайно в газете, правда, с большим опозданием… как-то к нам попала эта газета.
Он видел, как Тоня мучается, какие знает, что лучше, расспрашивать его или тактично умалчивать обо всем, что с ним было, и сказал:
– Ну ладно, иди стирай… Мы тебя будем ждать в сквере.
Полтора часа Виктор добросовестно рассказывал ребенку все, что знал, о животных и слушал стишки, какие ему читала девочка. Он часто спрашивал:
– Тебе интересно? Тебе не скучно?
Она отвечала вежливо:
– Нет, спасибо, мне совсем с вами не скучно… Я умею понимать шутки взрослых людей… Мама часто берет меня на стадион, меня ведь некуда девать, если занята бабушка…
– О-о! – только и сказал Виктор. – Ты, я вижу, неглупая особа…
Но когда она спросила с беспокойством, со страданием: «Что же это мама не идет? Вы не можете ее позвать? Скажите ей, что я больше без нее не могу», – он понял, какая она еще маленькая…
Вот иметь бы около себя такое существо в белых носочках, с бантом в легких волосах, с тепленькой грязной ручкой, как та, что лежала на рукаве у Виктора, существо, которое бы «не могло больше без тебя». Он посоветовал:
– Ты бы попрыгала.
– В классы?
– Хотя бы…
Она стала рисовать на песке какие-то квадраты, потом прыгать из одной клетки в-другую. А Виктор, любуясь ее сосредоточенностью и легкостью, сказал:
– Вот вырастешь и научишься играть в теннис, как мама…
– А я учусь. Я хожу в детскую школу…
И Виктор подумал впервые, что стал бы охотно работать в детской спортивной школе, если бы его взяли. Конечно, не в Москве – тут у него нет ни квартиры, ни прописки, да и со знакомыми не стоит встречаться. Пока. Очень уж большое крушение он потерпел. А не все такие душевные, как Тоня. Он даже обрадовался, что ему в голову пришла такая идея: со взрослыми ему будет трудно общаться, а вот с такой симпатичной мелюзгой, может, и стоит попробовать…
Когда Тоня вернулась, раскрасневшаяся, с легкой испариной на лбу, – так наработалась и так торопилась, – то очень обрадовалась, что Виктор и Ира стали друзьями.
– И девка моя проголодалась, и ты, Виктор, наверное, голоден. Пойдем к нам, я вас накормлю. Мы живем буквально рядом…
Они пришли в новый большой дом с лоджиями, про который Тоня сказала, что в нем живут «все наши». Но имена были новые, Виктор мало кого знал. Квартира оказалась нарядной, светлой, полной диковинных заграничных вещей. Особенно поразила Виктора кухня – со сверкающими стенами, пестрой клеенкой на столе, яркими чашками.
– Откуда это у тебя? Твой муж дипломат?
– Ну что ты! Обыкновенный инженер. Это все я привезла.
– Ты?
– Я объездила почти весь мир. Мы же теперь всюду играем…
Этого он не знал.
Только теперь Тоня скользнула взглядом пр его дешевому костюму, по башмакам. Во взгляде этом было сострадание, как показалось Виктору, она что-то хотела сказать, но промолчала. Долго стояла посреди кухни, задумавшись, потом спросила:
– Тебе очень трудно было?
– Да нет, ничего, жить можно…
– Я имела в виду – не играть…
Он пожал плечами. А она сказала печально:
– Как будто ни о чем не жалею. Мужа люблю безумно, дочку и этого… будущего. Но иногда во сне вижу: аэродром, чужая страна, пестрота, ветер, и я выхожу из самолета… Потом целый день сама не своя. Стоишь, бывало, в аэропорту, сумка через плечо, ракетки в чехле – и все-все твое… и трава, и ветер…
– Да ты романтик, – удивился Виктор.
– Я? Ничуть. Я прозаик чистой воды. Ты же видишь, какое у меня хозяйство. Я все это обожаю – кастрюльки, миксеры, кофейные мельницы. О, я сварю тебе кофе! Ты пьешь кофе?
Виктор вспомнил ту бурду в жестяной кружке, которую пил в последние годы. Только бы погорячее была, только бы согреться. А кожа так огрубела, что держал в руках не обжигаясь.
– Пожалуй, пью… – сказал он, чуть усмехнувшись.
У Тони в глазах снова мелькнула жалость, стыд за свою неловкость, за то, что он видит на полке под стеклом ее награды и памятные подарки – кубки, статуэтки, шкатулки, грамоты. Тут были и борьба за первенство страны, и зональные соревнования, и выезды за границу…