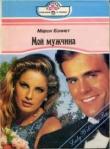Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
И Юра при встрече разговаривал то преувеличенно бодро, то чуть снисходительно, как бы ища, о чем спросить, какую беседу завести. Иногда спрашивал без особого интереса:
– Ну как там Завьялова? – И пояснял в который раз жене: – Она ведь мамина ученица, наша знаменитая Завьялова…
– А что? – послушно отзывалась мать. – Она у нас теперь заместитель директора. Вечерний институт кончает. Очень ценный работник.
– Не зазналась? Встречаешься с ней? – расспрашивал Юра, хотя прекрасно все знал.
– Да вот только на днях с праздником поздравляла, я тебе говорила, ты что, забыл?..
– Она поздравляет маму со всеми праздниками, – ответил Юра, не то хвастая перед женой, не то отдавая Завьяловой справедливость, – что правда, то правда…
– Ну как же, я ведь ей не чужая. И годами ее постарше…
– Все-таки, – возразила невестка, – многие охотно забывают, где их корни и кого они за что должны благодарить.
– За что же ей меня благодарить?..
– Она тебе, только тебе, если хочешь знать, всем обязана… Эх, мать, если бы не твоя скромность… – вырвалось как-то у Юры с такой досадой, с такой болью, что мать перебила его и сказала недовольно, даже рукой провела, как бы подводила черту раз и навсегда:
– Да нет, Маша помоложе была, пограмотнее, это закон жизни, что она обогнала. Она учиться вот пошла на вечерний, а я уже устарелая, не такая ловкая, не такая восприимчивая стала… Да что теперь вспоминать, когда все было-то…
Невестка вздохнула:
– Да, но и у вас, и у Юры все могло бы сложиться совсем по-другому, вся ваша жизнь.
Мать развела руками, как будто в чем-то была виновата. Но сказала:
– Я своей жизнью довольна, а вы… вы оба здоровые, с руками, с ногами, вы уж сами за себя боритесь…
– Мам, ты что? Мам, ты не так поняла… – испугался Юра. И стал целовать мать. Как когда-то. И Полине так сладко всплакнулось у сына на плече.
А невестка отозвалась гордо, но с ехидцей:
– Мы и будем бороться. К сожалению, ни на вас, ни на моих дорогих родителей рассчитывать не можем, только на самих себя…
Но это только говорится «на себя». Когда пошли дети, Полина просто на части рвалась: то бежит к молодым пеленки стирать, то в консультацию за прикормом, то после ночной смены гуляет с детьми, клюет носом около коляски. Все белое, все накрахмаленное. Невестка очень любила чистоту. Иногда даже прикрикнет на Полину: «Полина Севастьяновна, вы что? Вы же не ту кастрюльку взяли. У детей своя посуда». Полина не возразит, извинится только, затаит обиду: она ли к внукам не с чистым сердцем? Был бы только лад в семье, мир, были бы детки здоровы… И заработки все свои Полина на молодых тратила, и премиальные, себе ничего не покупала, не шила, – зачем ей?.. Невестка ее радовала тем, что предана детям, любит Юру. А если Юра жаловался, что жена слишком вспыльчивая, всегда отвечала: «Жена у тебя хорошая, цени ее, Юрочка, и уважай… Я на ее выговоры не обижаюсь, она больше меня понимает…»
А потом родственники стали писать, заманивать Юру: у них в городе открывается филиал научно-исследовательского института как раз по Юриной специальности, директор – друг детства дяди Вали, он очень нуждается в молодых кадрах. Приезжай, мол, Юра. Дом большой, пока поживем вместе, а потом и квартиру получишь, у нас большое жилищное строительство и связи есть – дядя Валя как-никак строитель. И у бабушки еще остался авторитет.
«А в школе, где учился Коля, – писала тетка Ира, – пионеры сделали большой стенд, вывесили Колин портрет, его школьный табель, бабушка выступала на пионерской линейке, но очень плакала и не смогла ничего сказать. Приезжай, Юра, я обещала, что ты, как сын героя, придешь в гости к пионерам. Бабушка доживает последние месяцы, хочет видеть твоих детей. И тебя. И твою жену. Все будет твое, Юрочка: и бабушкина старинная мебель, и дедушкина библиотека, мне самой ничего не нужно…»
Юриной жене загорелось ехать.
– Там климат мягче, – твердила она. – Я плохо переношу жару. И мы ведь у них одни наследники…
Мать ехать отказалась.
– А я жару люблю, – говорила она. – Привыкла. Тут я своя, а там ни богу свечка, ни черту кочерга. Кому я там нужная…
– Мама, а мне? – обиделся Юра.
Мать сказала задумчиво:
– Интересно получается… то не знали тебя, отказывались, а то им самый желанный стал… Да и они, я вижу, для тебя очень желанные…
– Может, не ехать? – спросил Юра. – Я ведь еще ничего не решил, мама.
– Как же не ехать? Все-таки работа хорошая и дом…
Невестка пообещала:
– Мы будем приезжать к вам в отпуск… или вы к нам…
Но легко сказать – ехать в такую даль. Дорого. Детей, когда чуть подросли, правда, присылали в гости на целое лето – на клубнику, на урюк, на помидоры и виноград. Полина тогда брала за отпуск деньгами, только бы получше принять внуков. Иногда Юра устраивал себе командировку, прилетал за детьми.
Но это случалось не каждый год.
Когда мать вышла на пенсию, он снова позвал ее к себе. И снова мать отказалась жить вместе. Юра не настаивал. Но мать любил, писал ей, присылал фотографии и ленту для магнитофона, на которую записывал голоса детей, их песенки, стихи или просто разговор. Магнитофона не было, ленту Полина ходила слушать к соседям. Все собиралась завести собственный, да деньги у нее не держались: то давала взаймы, то собирала своим большую посылку – сабзу, сухие фрукты, даже варенье. Накладывала в полиэтиленовые мешочки, потом заколачивала в деревянный ящик.
Невестка, получив посылку, угощала соседей.
– Опять Юрина мама прислала, а у нас еще прошлогоднее есть, не съели. Она много кладет сахару, чтоб погуще было. А я густое не люблю…
– Ну, все-таки, – говорили соседки, – она мать, она от чистого сердца…
– Все молит Юру приехать в отпуск, пожить у нее, – с досадой говорила невестка. – Конечно, она скучает, но у Юры пошаливает сердце, разумнее выхлопотать путевку в Кисловодск, подлечиться. Он любит путешествовать, ну что ему за интерес сидеть там на одном месте…
…И вот Юрина мама умерла.
Когда он выбрался наконец полететь в Среднюю Азию, была уже глубокая осень, шли дожди. На аэродроме и в Москве, где была пересадка на другой самолет, все застилала серая пелена тумана. И не верилось, что через несколько часов снова будет лето, зной, сухая, горячая пыль. Настроение у Юры было паршивое, томило чувство вины. Он отодвигал шторку, глядел в оконце, где плавала и клубилась неопределенная масса облаков, напоминая Юре бесформенные горы хлопка, которые он не раз видел на уборке. Он и школьником ездил собирать хлопок, и студентом, и даже инженером.
Пассажир, сидевший рядом, перехватил его взгляд:
– А хлопка у нас в этом году много…
Юра почему-то стал объяснять, зачем и куда летит, стал жаловаться на то, что жизнь проходит слишком быстро, ничего не успеваешь осуществить из того, что задумал: вот была мать, были надежды, и вот матери не стало. Он снова с горячностью стал объяснять, каким хорошим человеком была его мать, каким скромным, всю жизнь работала, ничего, кроме работы, не знала. А для чего? Сладкого куска никогда не съела. Имя ее гремело в послевоенные годы. «Вы, может, помните по газетам? По местной печати?» Но собеседник не помнил, нет. Не его это специальность ткацкое дело, не помнит, не следил.
Сколько в ней было деликатности, твердости духа, нравственных сил. Как-то, когда еще жили в родном городе, Юра поссорился с женой и пришел к матери. С портфелем, в который сгоряча сунул зубную щетку и полотенце. Пришел один, как давно не приходил, внешне веселый, и Полина тоже повеселела, легко, как когда-то бывало, со смехом, с шутками стала рассказывать сыну про дела на фабрике. Как раз поступило новое оборудование. Зейкулов давно уже ушел на пенсию, мастер был новый, с дипломом. И Полине он очень нравился. Уважал ее, ценил, советовался с ней. Но Юра слушал рассеянно. Все еще вздрагивал, вспоминая ужасную семейную сцену, пил стакан за стаканом крепкий чай, выходил покурить. И мать через силу, нехотя сказала:
– Иди, сынок, поздно…
– Як ним не пойду. Я заночую у тебя, можно, мама?
– Нет, нельзя. Муж должен ночевать там, где жена.
Юра ушел неохотно, но вместе с тем и радостно, потому что чем больше он распалялся и жаловался на жену, тем больше его тянуло домой, тем острее хотелось скорее помириться. Он знал, что Ольга не спит, нервничает.
Он не скоро пришел снова к матери, но потом, когда все уже устоялось и забылось, все-таки пришел. На обеспокоенный взгляд Полины ответил непонимающим взглядом, а сам вспомнил, как когда-то ему хотелось, чтобы Полина понравилась родне, он все расхваливал ее тетке Ире, и та сказала: «Я теперь поняла, что главное в твоей маме. Она знает, как правильно жить. Она – сама жизнь. Для нее главное – чувство долга». – «Ну, а что толку? – спросил тогда Юра. – Чего она добилась?..» Ира задумалась. И мотнула головой, отвечая не Юре, а себе: «Нет, у нее есть чувство долга, а это очень важно…» – «Все равно никто не ценит, – с обидой возразил Юра. – Даже я…» – «А ты цени, – посоветовала тетка Ира. – Я вот выгадывала да уступала бабушке – ну и что? Сплю на собственной кровати, всего только…»
Ему хотелось все это выложить матери и сказать спасибо, что не дала углубиться ссоре, пропасти, которая могла лечь между ним и самолюбивой Ольгой, отослала его ночевать домой, но Полина не дала ему высказаться, отрезвила его порыв, попросту предложила:
– У меня плов очень удался, баранинка хорошая попалась, не возьмешь ли с собой? Оля любит баранину…
И Юра тоже просто ответил, как будто его не переполняли высокие слова:
– Ладно, только заверни получше…
Не приняты были у матери пространные разговоры. Жила и жила. Вот когда он с родней съехался, то уставал от разговоров. Исповедовалась перед ним Лялька, жаловалась на свою судьбу Ира, сожалела о своих ошибках бабушка. И даже простоватый дядя Валя, чуть подвыпив, любил поговорить. Юра их жалел, любил, мирил, но стал смотреть на них другими глазами. Будто краска с них слиняла, позолота слезла, не такие уж они теперь были интересные, замечательные, необыкновенные. И он в глубине души был очень рад, когда получил свою квартиру. Устроился просторно, хорошо, а вот не сумел уговорить мать переехать к нему.
Юра даже прослезился. И жила одна, и умерла в одиночестве. Денег у сына не брала, так иногда – подарки. Еще и ему помогала из своей пенсии. А для чего жила? Вот состарилась – и все. И никому не нужна. Никто не запомнил, что была такая…
Сосед не то кивал сочувственно, не то думал о чем-то другом. Все-таки горячность Юры его тронула.
– Вы хороший сын, – похвалил он.
– Плохой, очень плохой…
– Вы хороший сын, – стоял на своем сосед. – Дай мне бог у своих детей заслужить такую любовь. Нынешние дети страшные эгоисты…
Как обиделась и огорчилась мать, когда он, вернувшись из поездки в Ленинград, сказал, что и не думал даже заходить к эвакуированной Лизе: ну для чего, какой ему интерес? «Мама, нельзя же жить прошлым. В Ленинграде такие музеи, такие театры, Товстоногов, балет замечательный, а я потащусь к Лизе?» – недоумевал он. А мать сказала, что живой человек всегда будет ей дороже театра. И сын опять упрямо твердил, что она живет прошлым. И только когда Полина нахмурилась, смягчился: он ведь не последний раз в Ленинграде, о чем тут горевать, все впереди, поедет в следующий раз – и пожалуйста, раз она хочет, зайдет к Лизе обязательно. «Но ты, мама, деспот, ты любишь поставить на своем».
И вот не поехал больше, не сдержал слова, не выполнил обещания. Да, многого он не сделал в жизни, а собирался. Может быть, уже и не сделает того, что все откладывал и откладывал. Он сказал вслух с печалью:
– Пока жила мама, вроде была опора, а теперь сразу на десять лет постарел…
– От смерти никто не застрахован…
– Мне больно потому, что непонятно, для чего она жила…
Из самолета он вышел совсем расстроенный. Воспоминания одолевали. Каждая улица, перекресток, арык, старый дом напоминали детство, маму, несчастную любовь к Люде, товарищей, пережитое. Он сходил на квартиру, нашел соседей, узнал, где нотариальная контора, получил какие-то выписки, ключи.
В домоуправлении – оно теперь объединяло почти всю их улицу – Юра встретил Людиного отца. Тот вроде похудел. На лице обвисли складки. Только пиджак туго сходился на все еще выпирающем животе. Брюки были широкие, немодные, старые. И глаза тусклые. Он так же, как и Юра, пришел за справкой.
– Как живете, Федор Петрович? – безразлично спросил Юра.
– Отдыхаю, нахожусь на заслуженном отдыхе, – ответил тот. И, не дожидаясь вопроса, сам сказал: – Люда замуж вышла, сынок у нее. Жена как раз у них гостит… – И тут же стал жаловаться, что народ пошел неблагодарный, прежнего уважения нету: вот, мол, видите, пришел в третий раз за бумажкой, стою полчаса, жду – никакого внимания, болтает по телефону, хоть бы что… И пригласил Юру: – Ты, Юрий, заходи, я же сочувствую…
– Тороплюсь, некогда, – отказался Юра.
Имущества после матери осталось немного, он все раздарил – кастрюли, ведра, облил слезами материнские платья из штапеля, рубашонки, даже не обшитые кружевцами, простые чашки. Несколько своих тетрадей сжег, даже ту, в которой писал пьесу, просмотрел старые бумаги, кое-что отобрал. Взял материну медаль «За трудовое отличие», значок ударника производства, грамоты, фотографии. Мать сберегла все его старые письма – это он со злостью порвал, а письма отца, совсем уж ветхие, отложил. Обо всем узнал у соседей, расспросил, как умирала, что говорила напоследок. Потом по немощеной, мягкой от толстого слоя пыли улице пошел на кладбище, отыскал, как ему указали, могилу.
Вот тут бы и надо поплакать, но он не мог. Стоял понурый, голодный, усталый от долгого перелета, после бессонной ночи, хождения по учреждениям и хлопот.
Незнакомая женщина убирала холмик, сажала цветы. Он подумал, что это сторожиха, глаза туманились, он плохо видел. Хотел оставить женщине денег, чтобы смотрела за порядком, но та удивилась.
– Что вы, какие деньги? За что? – сказала она почти обиженно. – Я ее ученица. Я Маша Завьялова.
СЧАСТЛИВАЯ НЮРА
Рассказ
Нюра затосковала. Заметалась. Кинулась по знакомым. Являлась к ним взволнованная. Жаловалась. Но не сразу.
– А-а, Нюра. Здравствуйте. Ну, как дела?
– А что дела? Хорошо. Живу одна, сама себе хозяйка.
– Здоровье?
– А что здоровье? Домой приду – лягу. Красота. Батарея горячая. Балкон. У меня двенадцать метров, у соседки, у Маши, восемнадцать. Коридорчик. Ванная. Чай пьем на кухне. Заварка общая. А то и щи вместе сварим. Маша угощает: «Ешь мое». Ну, и я в долгу не остаюсь. Куплю свининки, сготовлю: «Маша, садись, ешь…» Иногда, вы не поверите, и четвертинку возьмем. Честное слово.
– Прекрасно, – скажут Нюре. – Большая удача, Нюрочка, что на старости лет у вас все хорошо сложилось.
Вот тут-то Нюра и вздохнет.
– Хорошо-то хорошо, Валентина Ивановна, да не очень… Лешка, сын, меня в подселенки зовет…
– Что вы, Нюра!
– Не «что вы», а вот именно. Он-то еще ничего, уступчивый, а сноха наседает. Мол, если бы сына любили, если бы к Тамаре имели настоящее чувство, вы бы уважили. Небось к Татьяне бы жить пошли…
– Но Татьяна дочь…
– Вот именно. Но я вам так скажу, Валентина Ивановна. Ни с дочерью, ни со снохой я жить не желаю. Пенсию отдай, а сама жди, нальют ли они еще тебе тарелку супу, не покорят ли куском? Недалеко ходить, вот в нашем же доме. Старуху совсем ни во что, в пыль превратили, а она им детей вынянчила. Нет, Валентина Ивановна, я так просто не сдамся…
– А вы-то им на что?
– Подселенкой недовольны, хотят, чтобы я с ней сменялась. Тихая такая, приличная женщина, но, они говорят, чересчур надоедливая. Тамарка, ребенок, по глупости что-нибудь скажет, а она сразу же принцип показывает, снохе замечание: «Как можно, вы сделаете из ребенка морального урода». Слова-то какие, кому их приятно слушать… Сноха себе в голову и забрала: мол, к чему нам такой человек в квартире, что съели, что выпили, что купили – кому какое дело? А эта, мол, подселенка, так и зыркает, глаза большие, черные, как у цыганки. Я, конечно, не советую: надо жить мирно, дружно. А они – нет… Может, конечно, и их правда, люди теперь завистные, не все же так живут, как мы с Машей…
– Это вам повезло, Нюрочка, что вы дружите…
– Мы же добивались, всюду бегали – и в фабком, и в дирекцию: нас поселите вместе. Меня, может, и не уважили бы, а Маша, она ведь, несмотря что на пенсии, с производства не увольняется. Я уж ей говорю: «Пенсия у тебя хорошая, от покойной сестры чего только не привезла, ну что жадничаешь, всех денег все равно не заработаешь». Правда, она здоровая… А я – нет, я свои силы потеряла. Ох, Валентина Ивановна, куда что девалось? Вы же помните, я, бывало, к вам приду, стирку выстираю, полы вымою, рано встану – все переглажу, обратно на фабрику бегу веселая. А теперь ноги болят, руки болят, куда только моя сноровка подевалася…
– Вы на меня не обижайтесь, Нюрочка, но мне кажется, что вам выпивать совсем нельзя. Категорически…
– А я выпиваю? Что вы, Валентина Ивановна, это я когда к дочери иду на выходной день, покупаю бутылку. Сколько нас за стол садится? Неловко как-то с пустыми руками. А так вроде уважение – смотри, чего мать принесла…
– А мне казалось…
– Что вы, что вы, Валентина Ивановна, да с каких это средств я буду пить? С какого здоровья? Я уже всем своим хозяйкам отказала, я вот только к вам хожу, вы моя самая родная, и еще кой-куда… Нету, нету у меня здоровья, чтоб горб гнуть, как раньше гнула. Хватит, отработалась… Нет, я к ним в подселенки не пойду. Не имеют права силком меня тащить. Сказала, не пойду – и не пойду. Охота была с ними жить, им угождать! Это хорошо, Валентина Ивановна, что вы со своим Игорем разъехались, никто тут у вас на кухне больше не командует. Ну, а если Юрочка женится да приведет сюда? Пока Ибрагим Петрович жив, он заступится, а не приведи господь случится что, тогда как?.. Лучше уж вам одной жить, вот как я…
А все-таки она беспокоится. Собирает мнения. Ищет поддержки. Начинает издалека:
– Конечно, Лешку я уважить должна бы. Детей у меня было шестеро, он самый младшенький, а осталось всего двое. Трое примерли, один на войне погиб. Вот, Ариадна Петровна, мужа я не любила, а шесть раз рожала. Надо же… Спасибо, мама помогала, а то куда бы я… В войну, как вспомнишь, дрожь бьет. Сам на фронте, мать совсем плохая. В красильной я тогда работала, воздух тяжелый, красители едучие. Смену отработаешь, а то и две, если надо. Старшенького в армию взяли, часа три от Москвы они стояли. Еду, бывало, к нему в часть, а нельзя, пропуск надо. Я – под лавку. Попрошу людей: «Люди, я к сыночку еду». Они меня спрячут. Привезу ему лепешек. Солдаты набегут: «Тетя, угостите». Он: «Идите, идите, ну вас!» Я скажу: «Сынок, поделись, я еще привезу». Раза три так ездила. Потом угнали их – и все, ни письма, ничего… По мужу я так не убивалась, как по сыну. А жить-то надо. Два рта при мне остались да еще мать. Она, бывало, заплачет: «Лишняя я тебе, Нюрка, ненужная». – «Что вы, мама! Очень вы мне нужная, не беспокойтесь». В деревню за хлебом ездила, на нее детей оставляла. Ой, и натерпелась я! К немцам чуть не угодила, волки за нашими санями гнались, рассказать – не поверите. Дрова людям пилила – мы с Танькой пилим, а Лешка топором тюкает. «Не надо, сыночек, еще грыжу наживешь». – «Нет, я-помогу». Глядишь, тюкает-тюкает – все куча меньше станет, мне легче. Ой, намаялся он, Ариадна Петровна, разве я могу это забыть? А комната плохая, домишко щелястый, деревянный. Правда, дети мои голодные не сидели. Я всюду подрабатывала, себе спуску не давала.
После войны, понятно, легче стало. У меня все хозяйки были с достатком, с пайком. Не жалели для меня ничего… Ну, и производство помогало. Я ловкая, была, в работе безотказная, мастера со мной очень считались, ценили, можно сказать. Только сколько я пережила, когда маму схоронила. Вроде пусто без нее стало, скучно. Тут Танька замуж выскакивает, Игорь у нее родился. А зять в армию пошел. Мы без него жили четыре года, парнишку растили. Вернулся зять, на стройку работать пошел, получили они свою жилплощадь. Ну, слава богу. Хоть попросторнее станет… Лешка заявляется: «Я женюсь…» Я прямо сама не своя: «Да что ты, да что это, мне опять на полу спать? Да куда я еще одну кровать поставлю на девяти метрах, ты подумай». А он свое: «Я ее люблю». Ну, пошли они жить к ее родне, пожили, и, на их счастье, дом ломают, им дают две комнаты в новом доме. Но с подселенкой. А Лешка – вы не смотрите, что в нужде вырос, что сирота, он молодец, себя не выпустил из рук, как другие, он самый что ни есть хороший столяр. Сервант сделал – мастерская на выставку посылала, один им, другой себе. Кровать сделал, тахту – все полированное, все блестит. Конечно, ему охота отдельную квартиру иметь – он все так разделает, что залюбуешься. «Ну, зачем я, говорит, буду для чужого человека кухню украшать, ну, подумай! А ты, мать, своя». И то верно, надо бы ему навстречу пойти, сколько там я еще проживу, года немолодые. Вспомню, как он топориком тюкал, матери хотел облегчение сделать, так думаю: что же это я, неужели такая бесчувственная, что откажу сыну?
– Для кого же нам еще жить, как не для детей! – восклицает Ариадна Петровна.
– А разве я для себя живу? Все для них… Идешь на выходной, все чего-то им несешь – то бутылку, то конфетки. Утку тут купила, нет, думаю, дай возьму с собой…
– Так тоже нельзя, – не соглашается Ариадна Петровна. – Не вы им, а они вам должны помогать. Вы себе хоть что-нибудь скопили на старость?
Нюра машет рукой:
– Где там… Я у вас, помните, лето проработала, хотела себе зимнее пальто взять – они просят: «Мать, выручи. Игорю костюм надо. А мы тебе потом пальто в кредит купим». Как не выручить? Отдала… до копеечки…
– Ой, Нюра, Нюра!..
Нюра вздыхает:
– Куда от них денешься? Дети…
– И что же вы, переедете к сыну?
– Не знаю, ой, не знаю, Ариадна Петровна. И не хочу, и надо… Сын ведь, не чужой…
Они сидят с Машей, пьют чай, ужинают. Нюра больше всего боится, как бы соседка не догадалась, что у нее на уме. Она распарилась, раскраснелась. Съели уже селедочку с отварным картофелем, с огурцами – кухонька пропахла их крепким запахом. Засолено на совесть, с укропом, с чесноком.
Булькает на плите вода в чайнике, настаивается под полотенцем заварка. Маша смотрит на яркий глаз электрической лампочки под невысоким потолком и предлагает:
– Нюр, а Нюр, а что бы нам скинуться и купить абажурчик? Такие я видела сегодня модные…
Нюра согласно кивает, как будто очень довольна, но, в сущности, радуется совсем другому: можно наконец заговорить о том, что ее терзает.
– Я вот что думаю, Маша. Вот мы все заодно покупаем, не считаемся…
– Как при полном коммунизме, – вставляет Маша. И хохочет.
– При полном-то оно при полном… – Нюра решается: – А что, как придется разъезжаться?
Маша фыркает:
– С чего это?
– Мало ли… – хитрит Нюра. – Вдруг ты замуж выйдешь. А у него своя комната. Он захочет сменяться к тебе…
– Еще чего, замуж! Смолоду не выходила, а теперь-то уж… Не люблю я мужиков, все алкоголики…
– Ну, не все. Бывают непьющие…
– Где? – спрашивает Маша. И подливает себе заварки.
Нюра молчит.
– Нет, Нюр, ты не сомневайся. Раз сговорились жить вместе, раз мы добивались, значит, так оно и будет. Я от своего слова не отступлюсь.
– Что значит «не отступлюсь»? – лицемерит Нюра. – Разве я тебе враг? Разве тебе счастья не желаю? Да я тут же уйду, живите… Это какой же подругой надо быть, чтобы встать поперек, не захотеть сменяться… Маша заливается:
– Ты что, спятила? А может, ты сама себе старичка подыскала и теперь разведку боем делаешь? За меня не волнуйся, я-то замуж не пойду. Может, когда и приглашу кого, не ручаюсь и не зарекаюсь, но чтобы он тут жил, дымил папироской, чтобы я на него стирала, – да ну его…
Нюра с сомнением качает головой. И чем яростнее уверяет ее Маша, что никогда не выйдет замуж, тем более невозможным кажется ей вдруг сказать: «Я хочу с Лешкиной подселенкой сменяться, ее – сюда, а я – туда». Сколько хлопотали они с Машей, чтобы их поселили вместе, а не на подселение каждую к большой семье, чем только не козыряли: мы на стройке дома безотказно работали, мы больше всех тут строительного мусора выгребли. Приносили свои грамоты, справки, орали и даже слезу пускали. На них одна секретарша даже губки надула: «Вот какие попугаи-неразлучники».
– Вот именно, что, неразлучные! – выкрикнула Маша.
А Нюра сказала любезно, дипломатично:
– Сколько лет рядышком в развалюшке прожили – не ссорились, хотим теперь в хорошем доме продолжить свою дружбу.
Что тут было возражать? Начальство посмотрело бумаги и справки, характеристики и похоронки – согласилось.
И вот теперь Нюра должна сама против своих слов пойти. Так выходит, что ли?
– Может, ты, Нюр, какой план заимела, скажи, – пристала Маша со смехом. – Может, посватался кто?
Нюра перевела все в шутку:
– Киноартист посватался…
– Ой, подруга, – сказала Маша, отсмеявшись, – а не выпить ли нам по маленькой за нашу дружбу? Наливка у меня еще есть…
– С превеликим моим удовольствием, – радуется Нюра. – Такая у меня тоска… так мне хорошо живется. Сглазить боюсь. Боюсь, придет кто-нибудь и порушит нашу дружбу и хорошую мою жизнь…
– Кто ж это может порушить? – лениво спорит Маша. – Если мы не хотим…
– Ты одинокая, а я не свободная, у меня дети…
– Что дети? Сами уже родители.
– Мало что…
– Да ну тебя! – отмахивается Маша, не понимая, какая змея сосет Нюрино сердце. – Придумала… Пора включать телевизор.
Она уходит в комнату, а Нюра еще долго сидит за столом, пригорюнившись, думает свою тяжкую думу.
Уже ночь, а она все не спит. Сбрасывает с себя одеяло, пьет воду, плачет. Шмыгает носом. Почему-то вспоминается ей только плохое, горькое, только беды. Что же это, господи, за что? Чем она кому не угодила?
За двумя дверями, через коридор, похрапывает Маша. Нюра почему-то вспоминает, как похрапывал, переминаясь с ноги на ногу, шурша соломой, конь когда-то в деревне. Она редко думает про те годы. Ну их… Хоть и была веселая, умела и спеть, и сплясать, но тяжелое было время. Рожала, хоронила, в поле работала наравне с мужиками. Какие чугуны с картошкой варила для скотины, по скольку соломы запаривала для коня! А горшки со щами? А тесто для хлеба? Не до песен, не до плясок было, разве что в праздник… А в город переехали, тоже не гуляла. Муж не очень-то был старательный, вовсе даже нерасторопный, ну, а если по-честному, ленивый был мужик. Дальше пожарника на производстве, дальше охранника не пошел. Не то что она… Никогда не унывала, все с шуткой, все с улыбкой. Кому чужая печаль нужна? А ей ли не трудно было – малограмотной, с детьми на руках, со старухой матерью. Да, всякого она, Нюра, хватила, пока детей на ноги поставила. Чего только не делала, и хитрила, и плутовала – все, все было…
Вспомнилось ей почему-то, как невзлюбил ее подмастер. Рыжий, хитрый, противный. Все зыркал на нее глазами, грозил пальцем: «Смотри, Баукова, ох, Баукова, ты у меня смотри…» А что смотреть? Много ли женщин работали проворнее, были смекалистее, чем она? Что смотреть? Ты лучше сам смотри, как мне все руки разъело, новые рукавицы вовремя давай. А однажды – никого поблизости не было – вдруг подошел и стал молча тискать. Тискает и сопит. Тут уж она отвела душу, тут она ему все припомнила. «Ты кого тискаешь, рыжий паразит? Я сына на фронте потеряла, я мужа лишилася, а ты…» Такой крик подняла, что все сбежалися. Сама потом смеялась над собой, когда работницы утешали: «Ты что, Нюрка, очумела? Съел он тебя, что ли? Живешь одна, он и возмечтал…» Тогда смеялась, а теперь, сегодня, плакала. «Беззащитная я, – думала она про себя. – Как есть беззащитная». И пословицу вспоминала: «Живет как горох при дороге. Кто мимо идет, тот и рвет». Вот именно, так она и живет…
А хозяйки, у которых она прирабатывала да и теперь еще прирабатывает? У каждой свой характер, своя слабость. А ты пойми, разгадай, учти. Льстить она не любила, достоинство сохраняла, а все-таки иногда кривила душой. Как же без этого? Не проживешь.
Конечно, не всеми хозяйками она дорожила одинаково. Хозяйка хозяйке рознь. Одна и заплатит щедрее, и подарит, а другая все учтет до рубля, до копеечки. Вот ты попробуй их уравняй.
А как дело идет к празднику, каждая требует: «Нюра, к первой ко мне». Но Нюра-то одна. Приходится когда и соврать, почему не явилась: «Ой, я такая больная была, думала, не встану». – «Нюрочка, вы меня ужасно подвели». – «Знаю, знаю, сама не рада». Или если деньги возьмешь вперед, тоже приходится ловчить. Отработал бы поскорее – и все, самой ведь совестно. Но живые денежки всегда нужны, торопишься туда, где не должен. То у дочки день рождения, то у внучат. То Игорьку хочется помочь. Зять кричит: «Не давай ему, тунеядцу такому, ни копейки!» Но ведь внук взрослый уже, кавалер. Она трешку зажмет в кулак, руки за спину, Игорь уже тут как тут, все понял, прошел мимо, взял. «От вашей ругани, папа, голова болит. Пойду прогуляюсь».
Может, и не следовало бы баловать, но ведь внук, любимчик. Нет, ничего она для семьи не жалела. Что заработает, что в подарок получит – отдаст им… А все одно дочь упрекает: вы, мол, для Лешки стараетесь да для его барыни. Лешка кричит: «Танька все из тебя высасывает, опомнись, мать!» Вот тебе и опомнись, иди с подселенки.
Все видит она в черном свете, в непроницаемой тьме. Ни один луч солнца не пробивается через эту тьму.
А как ее обидела Надежда Лазаревна… Подумать только – ходила Нюра к ней раз в неделю, как закон. По четвергам. Это сколько же четвергов в году? А сколько лет? Все было – и хорошее, и плохое. «Нюра, я не переживу, мне муж изменил». – «Бросьте, Надежда Лазаревна, он вам очень преданный». – «Нюра, я кошелек потеряла». – «Берегите себя, деньги – дело наживное». – «Нюра, у меня на службе неприятности». – «Все обойдется, вы работник ценный, вы всюду нужны». А тут как нашла коса на камень. И что ей такого особенного сказала Нюра, чем ее ужалила, чтоб ни забыть, ни простить нельзя было? Случается, не зря старые люди говорят: слово воробей, вылетит – не поймаешь. Нюра и сама не рада была тому, что сказала. Вылетели слова, как их теперь воротить? Ну, и та в долгу не осталась, тоже много чего обидного наговорила Нюре, все ее грехи помянула: и то, что с похмелья хуже работает, и скорость уже не та, и долги не любит отрабатывать. Но Нюра отходчивая. И все вроде наладилось. Нюра прощения попросила, а та сказала: «Вы меня тоже извините, я погорячилась». Но звать к себе убирать перестала. Работа у Нюры есть, ее сколько угодно, но обидно. И к новому дому, и к чужому нраву нелегко привыкать. Ведь у каждого свое. Одна говорит: ты носовые платки крахмаль; другая: ой, это жестко. А там, у Надежды Лазаревны, уже привыкла, все знала, как в своем хозяйстве. А если стала она не такая быстрая, не такая проворная, как была, так ведь годы идут, вон уже сколько их отстукало. Надежда Лазаревна и сама не молоденькая, только что красится и к парикмахеру и на гимнастику ходит. А Нюра так наломается за день, что не до гимнастики ей. «Как же вам не совестно! – мысленно говорит Нюра. – Я женщина, и вы женщина. У вас душа, и у меня душа. Вы все мои грехи знаете, да ведь и я вас в разных видах видела. Вы культурная, журнальчики читаете, – неужели вам своя гордость дороже живого человека? Совесть-то у вас есть, Надежда Лазаревна? Верно, вы мне платили, хорошо платили, я не отказываюсь, но деньги – это еще не все».