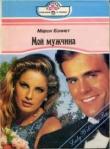Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
И Тоня, оказывается, это знала, хотя он считал, что она больше всех противилась его увлечению. Особенно когда он стал тренером. Ему приходилось оправдываться:
– Это же у меня нагрузка, завком мне доверяет…
– А где найдут другого такого дурака?
– Тьфу, дали же мне грамоту…
Тоня ударяла по самому больному месту:
– Был бы хоть мастер спорта, а то…
На это он не мог возразить. Нечего было возражать. Говорить, что не успел отработать технику, потому что поздно начал играть? Ведь он до самой своей женитьбы поддерживал сестер, вкалывал по две смены на заводе, разрывался на части. А разве он имел питание, какое надо? А женился, Тонину родню поддерживали.
Этого он даже в самые напряженные минуты спора вслух не говорил. И хорошо, что не говорил. Оказывается, Тоня и сама все знала, все понимала, золотая его Тоня…
Новое для себя открывал Владимир Павлович в жене. Неужели он не знал ее до сих пор? А ведь думал, что знает, как самого себя. Сказала вдруг, что ей ездить хочется, на мир смотреть. Он и не подозревал, что ей хочется ездить.
И ему как она здорово сказала: «Зачем лишать себя счастья…»
Он вспомнил эпизод, который случился, когда Тоня еще лежала в большой палате. И ту палату обслуживала сестра Галочка, та самая, что сегодня делала укол Тоне, худенькая, с худенькими локотками, с быстрыми, легкими ногами, которые она еще по-детски ставила носками внутрь.
Тоня рассказывала про нее шепотом:
– Ребенок совсем, а вынуждена работать. Отца нет, одна мать. Все с улыбкой, с вниманием к больным. Спрашиваю: «Галя, а поклонники у тебя есть?» Краснеет. Как же не быть, ведь она как кукла… Ты как находишь?
– Я и внимания не обратил, – уклонился Владимир Павлович, зная, что Тоня ревнивая.
Но, конечно, не слепой ведь, заметил, какая симпатичная девушка, а когда глядел на ее локотки, даже что-то в душе звенеть начинало: такой юностью веяло от этих худеньких локотков.
Так вот однажды, когда Тоня несколько раз нажала на кнопку звонка, вызывая сестру, а сестра все не шла, на соседней кровати зашипела, как гусыня, злая, ядовитая старуха:
– Их не докличешься, им что! Хоть ты тут помирай… Про любовь и про кавалеров только и думают…
– Ну и пусть думают! – почти закричала Тоня. – Без любви, без счастья и жить-то не стоит…
Тогда он не обратил внимания на ее слова, побежал скорее торопить Галочку, чтоб несла лекарство, потом только вспомнил.
И теперь вот думает про эти Тонины слова.
Это как камешки на берегу. Отдыхал он как-то в Крыму, на диком, голом, прекрасном берегу. Любил поутру, когда все еще спят, смотреть на желтые и фиолетовые скалы, перебирать камешки. И такие попадались замечательные, что глаз не оторвешь. Он много тогда домой привез, целую шкатулку.
Так и слова: среди сотен серых и будничных, обычных – «Подай», «Прими», «Холодно», «Что на обед?» – вдруг сверкнут настоящие, нужные. Сотни камешков он перебрал, перетрогал руками, а слов сколько – миллионы? Миллионы слов Тоня произносила, забылись они. А настоящие, важные в себе таила. Но ведь были они у нее…
Что же он не заметил, не поинтересовался? Ах, не знал? Камни-то ведь искал, не ждал, пока сами в глаза бросятся? Бежал с утра к морю, смотреть, что принес прибой…
Он не хотел было рассказывать Тоне, где провел вчерашний вечер: еще истолкует, что жена, мол, в больнице, а он разгуливает по банкетам. А теперь знал: можно. Тоня поймет; не для того он пошел, чтобы выпивать и закусывать.
В заводском Дворце культуры устроили вечер в честь футбольной команды, выигравшей первенство на международных соревнованиях.
Он зашел на минуточку после смены, после занятий на учебной площадке, одетый по-будничному, в клетчатой темной рубашке, без галстука. Так, думал, просто посмотрит на знаменитых игроков, послушает вполуха, что будут говорить, и поспешит домой.
Было очень парадно, народу в зал набилось множество.
И вот, когда торжественная часть кончилась и Владимир Павлович, уже собираясь уходить, стоял в фойе у окошка и курил, мимо него цепочкой потянулись футболисты, нарядные, наглаженные, в шляпах, в модных ботинках. Владимир Павлович сразу догадался, что в банкетном зале накрыли столы – так было принято, – чтобы в самом тесном кругу поднять бокалы. А поднять было за что: ух каких добились успехов, как взлетели!..
Прошел директор завода, прошли два спортивных журналиста в красных рубашках под толстыми свитерами. Одного из них Владимир Павлович знал: тот был как-то на занятиях, взял интервью, допытывался, какая методика. Но так и не написал ничего…
Владимир Павлович хотел уже уйти с дороги, чтобы не вышло, будто он стоит тут и ждет приглашения. Он забрел в это фойе случайно, даже не подумал, что могут идти на банкет этой стороной. Но и убегать не хотел. Чего это он должен убегать, с какой стати?.. Им надо идти – они идут, он хочет тут стоять – и стоит. Имеет право… Докурит и уйдет. А все-таки делал быстрые, торопливые затяжки. И не успел…
Прямо на него вышел тот единственный, которого он и мечтал встретить и больше всего боялся встретить вот так – лицом к лицу. Тот бывший долговязый подросток, тот Ленька с челочкой, любимый его ученик, которого сманил профессиональный тренер. Правда, не только сманил, но и вывел в первоклассную команду и сделал из него самого результативного нападающего футбольного года. Долгие месяцы Владимир Павлович и разговаривать с Ленькой не хотел – сердился, считал изменником. Потом смекнул, что Леньке-то, в общем, наплевать на бывшего инструктора, и стал держать себя с ним еще надменнее, еще суровее. И Ленька, аккуратно присылавший к праздникам поздравительные открытки, перестал писать. «Я ему теперь ни к чему, зачем я ему? – говорил с обидой Владимир Павлович. – У Леонида теперь знакомства иные. Ну что ж, основу я заложил, моя совесть чиста…»
– Благодарности ты не жди, – именно тогда и сказала Тоня. – Кто ты для него? Ноль без палочки.
– Он левой ногой плохо работал, – вспоминал Владимир Павлович, – я весь упор делал на левую ногу.
– А кто тебе спасибо за это скажет?
– А кто мне должен говорить спасибо? Моя какая цель? Способствовать развитию отечественного футбола. Достигается цель? Достигается. И все…
Конечно, Тоня «заводилась» и кричала, что футболисты теперь знаменитые стали, как актеры. И квартиры им, и машины им. И почет. И уважение.
– И правильно, что им. Заслуживают. Славу нашей родины приумножают, – успокаивал Владимир Павлович жену. – А все-таки я одно скажу… И ты это запомни… Вот пишут: большой футбол. Так этот большой футбол мы все делаем, понятно?
– И ты?
– Именно я. Владимир Павлович Морозов.
Это он Тоню убеждал. А сам вовсе не был убежден.
…Ленька стоял перед ним, пожалуй, самый рослый, самый красивый, и улыбался.
– Знаю про твои успехи, рад за тебя…
– А помните, как вы меня гоняли, а, Владимир Павлович?
– Я-то помню…
Товарищи уже шумели, звали: мол, скорее, Леня, не задерживай. Но он прекрасно понимал, что имеет право задержаться и задержать всех, и ответил недовольно:
– Не видите, что ли, с кем я говорю? Это же мой первый тренер.
Многие из команды не знали Владимира Павловича, разве они ходили на игры цеховых команд или на занятия заводской школы? Но некоторые, конечно, вспомнили: ну да, знаем, как же…
– Вы на банкет, Владимир Павлович? Как это некогда? И что значит «не пригласили»? Я приглашаю, вы же мой учитель… Я же вправду вам всем обязан… Без галстука? – шумел Ленька. – Мы это дело поправим… – Он вытащил из кармана роскошный галстук и, раньше чем Владимир Павлович опомнился, повязал ему на шею. – Заметьте, не мнется, стопроцентный нейлон. Дарю на память… Я его привез для вас, только не было случая завезти… Но я знал, что вас тут встречу, – не то врал, не то правду говорил Леня. – Не поверите, минуты свободной нету… На части рвут…
– Ох, Леня, – назидательно произнес Владимир Павлович, – имей в виду, нет режима – нет и футболиста…
Леня стал клясться, что понимает, но их заторопили, повели – и Владимир Павлович уже сидел в банкетном зале за длинным столом рядом с Леней. А напротив сидел директор.
Было много тостов за кубок, за команду и ее тренера, за решающий гол, за вратаря, за центрального нападающего, за директора завода, ибо кому же не понятно, что успех заводской команды обеспечивает в первую очередь директор. Если директор не любит и не понимает футбола, то вряд ли команду будут знать за пределами заводской проходной. А команда теперь с мировым именем, и мы имеем все основания провозгласить тост за нашего мирового директора…
– Подхалимничайте, ребята, но знайте меру, – погрозил пальцем парторг.
В общем, было весело.
И вдруг встал Леня и стал говорить про Владимира Павловича. И перечислять его заслуги.
– Я ему всю жизнь буду благодарен за свою левую ногу…
– Теперь ты никогда не встаешь с левой ноги, что ли? – опять пошутил парторг.
– Встаю. И часто, – отпарировал знаменитый Леня. – Но не позволяю себе поддаваться плохому настроению и валять дурака на тренировках, потому что из меня эту дурь выбил еще в нежном возрасте Владимир Павлович. И я пью за его здоровье…
И под крик, аплодисменты и возгласы Владимиру Павловичу пришлось встать и поцеловаться с Леней и с величественным, похожим на профессора тренером команды.
А когда сели, Леня сказал тихо и серьезно:
– Владимир Павлович, я ведь от чистого сердца. И аллаверды к Антонине Ивановне…
– Болеет моя Антонина Ивановна…
Леня сделал испуганное, сочувственное лицо, но мощный поток застолья отвлек его, понес в сторону. Стали вставать, в ожидании кофе прохаживаться по комнате, директор подошел к Владимиру Павловичу познакомиться и расспросить, как же это он сочетает работу в цехе с физкультурной, воспитательной и сам еще иногда играет, создают ли ему условия и много ли у них таких тренеров-общественников, хотелось бы знать.
И парторг вставил:
– Имейте в виду: он не просто бригадир, а бригадир бригады коммунистического труда…
И представители центральных спортивных организаций заинтересовались его опытом, и журналисты.
Директор сказал:
– Ну, пресса, вот про кого надо писать…
– Мы учтем, – ответил незнакомый журналист.
А знакомый отвел Владимира Павловича в сторонку и стал жаловаться:
– Разве это я настаивал на методике? Меня человек интересует, характер, а не методика. Но в руководстве отделом сидят дубы, им не втолкуешь…
…Тоня потребовала всех подробностей – что ели, что пили? А жены? Жены не присутствовали? Почему это? И как же он повязал галстук к клетчатой рабочей рубашке? Это же надо совсем не иметь вкуса. Леня? Что Леня? Леня постеснялся ему сказать об этом, а ей-то стесняться нечего… И почему он, идя во Дворец, не мог надеть белую накрахмаленную рубашку? Рубашек у него нет, что ли?
Тоня ворчала и упрекала, а Владимир Павлович слушал, как слушают музыку, – это был голос здоровой вредной, невыносимой Тони…
Потом она сказала:
– Я же тебе всегда, помнишь, говорила, что тебя ценят…
– И верно, ты говорила, – согласился Владимир Павлович.
А Тоня вдруг заплакала:
– И вот теперь, теперь я должна умирать. И погода какая-то, дождь вот-вот пойдет, – говорила она, стараясь сдержать слезы. – Не люблю я такую погоду…
– Не будет дождя, что ты… – успокаивал ее Владимир Павлович, как будто самое главное было в том, пойдет ли дождь. – Я знаю, ты не любишь осень, и я не люблю… – торопливо говорил он, отвлекая Тоню, и расписывал, как они весной поедут отдыхать. Он возьмет отпуск пораньше, и поедут или туда в горы, где они уже были, или в деревню, в березовый лес…
Тоня с сомнением покачала головой.
– Хорошо бы… – совсем тихо сказала она.
– Эй, молодой человек, – гардеробщица Ася потрогала Владимира Павловича за плечо. – Эй, очнитесь… Плащ будете получать или как?
Она села рядом с ним на скамью, зевнула и, вытянув и скрестив ноги, полюбовалась на свои модные туфли. Ноги были сильные, мускулистые, с тонкими щиколотками.
– Я вас задерживаю, вы извините…
– Ну что вы? – Ася поправила бусы, прическу, браслет. Сказала с сердцем: – Еще наша докторша, наша Сима Соломоновна никак домой не уйдет. Одного инфаркта ей мало, второго ждет. И дождется…
Владимир Павлович не понял.
– А что непонятного? Не щадит себя. И на фронте она такая же чудачка была, не жалела себя. День и ночь оперировала. Но вы не поверите, я ее так и не научила честь отдавать. Вот как надо… – Ася лихо козырнула. – Я-то? Как я попала на фронт? Осталась в шестнадцать лет без родителей и прибилась к госпиталю. Нет, я не сестрой, я санитаркой была, но, если хотите знать, ведущий хирург требовал, чтобы я присутствовала на операциях, такая я смышленая была. Ну да. «Без Аси я оперировать не буду». Только он был такой ужасный матерщинник, что Сима Соломоновна мне не разрешала. Сама она других слов не знала, как «спасибо, спасибо, пожалуйста». Как неземная… Без меня она бы пропала, и смех и грех… То табак откажется получать, то ужин не возьмет. И после войны я за ней потащилась, пожалела ее. И теперь проверяю: «А вы получку взяли? А где ваша сумочка?» Домой к ней, правда, давно не хожу, там ее племянники угрелись, они меня, понятно, терпеть не могут. Как за что? За то, что я правду в глаза говорю: как так, почему ваша тетя в своей квартире как в чужом углу живет? Мне-то что? У меня своя комната, газ. Москву-реку из окна видать, как она течет вся такая сиреневая, и рябь переливается по воде…
Одной лучше, сама себе хозяйка. Хочу пригласить человека – никого это не касается… Хочу держать кошку – держу. Почему я в хирургии работать не стала? У меня глаза слабые. Я санитаркой была, тоже себя не щадила, больные молились на меня. Сима Соломоновна уговаривала меня: «Ох, Ася, если бы тебе образование, диплом. Учись, Ася!» А как учиться с таким зрением? Я тоже жертва войны, если вдуматься… А то я бы своего добилась, не так как Сима Соломоновна. У нее же докторская почти готовая, а она? Подобрала племянников-лодырей и возится с ними – то дежурство лишнее возьмет, то консультацию. Смотреть тошно! Чтобы я для кого-нибудь отказывалась от своего идеала, да ни за что! Кто для меня отказывается, позвольте спросить? Что-то я таких не видела. А Симу Соломоновну я за то уважаю, что ей для себя ничего не надо, все для людей… Ее палкой не выгонишь, когда тяжелые больные… Ой, видали бы вы ее в сапогах – умора! А мне в сапогах было ловко, так и щелкала каблуками! У меня, видите, нога как литая… На такой ноге и сапоги и туфли имеют вид, мне многие завидуют. А чему завидовать, ничего уже не осталось…
– Простите, – вежливо прервал ее наконец Владимир Павлович. – Пойду…
В коридоре к нему подошла Галочка – она только что снова сделала укол Тоне – и сказала, глядя прямо на него затуманенными глазами:
– Вы не переживайте так, не отчаивайтесь. Вот еще профессор будет завтра смотреть вашу жену. Это же огромный авторитет. Я сочувствую, у меня мама больная, я вам очень сочувствую…
Ее печальный, озабоченный голосок журчал, как тоненькая струйка чистой воды, которую нашел он летом в лесу, на дне оврага, заросшего папоротником.
– Вот ты сердишься, что я никуда не хожу, – вдруг сказала Тоня. – А мне не хочется. Я если куда иду, так тороплюсь домой, боюсь, с вами что случится… Я сама не знаю, почему это. Ты помнишь, я любила танцевать… А когда тебя встретила, как из головы вон… Все боялась: ты меня разлюбишь – и хотела показать, что ни капельки не страшусь. Ведь это стыдно, когда так сильно любишь, что гордость теряешь…
– Ну, в чем, когда ты теряла гордость, – возразил Владимир Павлович, – никогда ты гордости не теряла…
– Я только вами и жила, тобой и Веточкой…
– А я? Я разве кем еще жил, кроме вас?
– У тебя и другие интересы были, а уж я…
– Что ты? Разве ты плохо работала? А стометровку забыла?
– Дома я все с любовью делала, рубашки твои гладила с любовью, платьица Веточкины… – Она усмехнулась. – Гляжу и мечтаю – взглянешь ты на меня или не взглянешь? Внушаю тебе мысленно: «Взгляни». А ты… Ты не откликался…
– Так я же не знал…
Чего он не знал? Что Тоня любит его?
– Мне нравилось, что ты бескорыстный…
– Так ты за это меня ругала…
– Ну и что?.. Ругала, а уважала.
Тоня притянула к себе его руку и покачивала и поглаживала. Спросила:
– Ну неужели ты не завидовал? Ну вашим, всем тем, что в славу вошли?
Владимир Павлович замялся.
– А у меня сердце кровью обливалось, – призналась Тоня, не дожидаясь, что ответит муж. – Думала, ты и совестливый, и благородный, и игрок хороший, как же так? Но ты не напористый, не бил на эффект, не рисовался…
– Таких игроков, как я, тысячи… – уже с досадой сказал Владимир Павлович.
– Нет, – замотала головой Тоня. – Нет, не тысячи…
Она опять устала, поникла, заговорила про другое:
– Жжет, жжет под сердцем, что же это за мука такая, что за доктора – не могут вылечить… Я ведь жить, жить хочу, я еще не жила вовсе… Неужели тебе моя жизнь не дорога, что ты меня не спасаешь…
И опять вспомнила Веточку, нежные ее глаза, которые не переносят мыла, и то, что девочка не любит манную кашу: пусть он все это внушит той, здоровой и веселой, что придет в дом…
– И ты не клянись, что не женишься, не надо мне такой клятвы. Будьте только счастливы – и ты и Веточка… А фотокарточки мои убери, пусть никто не смотрит на них, не надо… Или нет, оставь ту, где я еще молоденькая, где волосы вьющиеся, помнишь? Да нет, ты уже не помнишь, какая я была… Но я не обижаюсь, нет. Больше, чем ты любил, ты любить не мог. Каждому свое… И я это сознаю и не плачу больше: мы жили хорошо… И, если я в чем перед тобой виновата, ты не сердись, я хотела, как лучше, я все про тебя понимала и знала больше, чем ты сам… Я болела за тебя душой. А если не могла перебороть свой характер, так это же не моя вина. И ты не виноват, что у тебя такой характер. Ты не умеешь расталкивать других локтями, ты всех пропускаешь вперед себя… – И раньше, чем измученный Владимир Павлович нашелся что сказать, Тоня произнесла, торжествуя: – И вот истина наружу выплыла. Теперь не я одна, все на заводе поймут, что ты за человек.
– А что я за человек? Самый обыкновенный…
Владимир Павлович оборвал на полуслове.
Вечер уже поглотил оголившиеся ветки, касавшиеся окна, деревья вырисовывались теперь смутно очерченной темной массой. На дальнем фоне, где строился новый больничный корпус, зажглись на башенных кранах огни. А самих кранов не видно было… И костер зачем-то развели на строительстве. Может, мусор сжигали, а скорее – грелись.
Тоня, молчала. Утомилась, должно быть. И сам он обессилел. Боялся шелохнуться, потревожить Тоню. Да и что говорить? Как оправдываться? Он уже все сказал, что умел, во всем обещал покоряться.
Но не мог ведь он согласиться с Тоней, признать: да, он одержал великую победу, его заметили и оценили. Ему и обидно и смешно стало: неужели он должен радоваться, считать за честь, что на банкете выпили за его здоровье? Не такой уж он мелкий…
Неудачником он себя не считает, это безусловно, но и удачником не может считать. Кто он? Просто честный человек. Хотел большего? Да, хотел. А чего? Славы? И славы, конечно. Ведь слава, она отражает и твои успехи и твои возможности – это факт. От этого никуда не спрячешься. И факт, что для призвания своего, для главного нужно уметь жертвовать всем, иногда даже ближних своих ставить на второй план. А он этого не умел.
Может, призвание и мстило ему, не приносило большой удачи, потому что не всей душой он своему призванию отдавался. Старался никого не обижать.
Старался-то старался, а Тоню все-таки обижал.
Теперь вот ходит сюда, кается, клянется: буду сидеть дома, буду всегда с тобой. А где же ты был раньше? Почему не видел, какая у тебя жена, сердился, дулся, убегал на бульвар любоваться чужим, красивым счастьем. Своего не замечал…
Тоня ласково окликнула его:
– Иди домой, что ты? Не выспишься, а завтра на работу…
– Я спать не хочу…
– И что мне только профессор завтра скажет, должен ведь он помочь?..
– Это точно. Это точно, Тонечка, дорогая…
А Тоня опять подтвердила:
– Нет, мне очень приятно, что все про тебя узнали…
Вошла Сима Соломоновна, маленькая, толстенькая, с плохо уложенными волосами, в туфлях со сбитыми низкими каблуками, строго посмотрела на Владимира Павловича: что это, мол, он тут делает в неурочный час, – взяла Тоню за руку, пощупала пульс. Тоня сразу присмирела, стала тихонькая, махонькая, как ребенок.
Сима Соломоновна велела:
– Спать.
– Не спится, – жалобно протянула Тоня. И удивилась: – Разве вы сегодня дежурите, Сима Соломоновна?
– Нет, я не дежурю…
– И так задержались, ведь с самого утра вы на ногах, – с укоризной сказала Тоня, – я думала, вы давно ушли…
Когда Сима Соломоновна вышла, Тоня бровью показала мужу: иди, мол, милый, иди, нельзя больше, не разрешается.
С трудом передвигая одеревеневшие от волнения ноги, Владимир Павлович пошел за докторшей и уже в гардеробе, робея, спросил:
– Надежда хоть есть, а, Сима Соломоновна?
– Как это может не быть надежды…
Ася вынесла пальто Симы Соломоновны и авоську с продуктами. Слегка покачиваясь с носка на пятку, она слушала, как докторша успокаивала Владимира Павловича, что завтра Тоню обязательно посмотрит профессор.
– Так всегда, – громко, но чуть в сторону, как на сцене, сказала Ася, будто ни к кому не обращаясь: – Сима Соломоновна вы́ходит, вырвет больную из лап смерти, а спасибо говорят профессору…
У Симы Соломоновны гневно сверкнули глаза, она даже руки подняла в ужасе, но Ася напялила на нее пальто и ушла за перегородку.
– Ася, я же вас просила…
Но Ася уже зашуршала жестким плащом Владимира Павловича и забормотала что-то насчет того, что она может и помолчать, ибо кто она, Ася? Маленький человек, разве у Аси есть право голоса?
– Это очень хорошо, что больные верят в профессора, – тактично поясняла Сима Соломоновна, заглушая Асино бормотание. – Наш профессор – прекрасный человек. И вообще профессор – это профессор, а мы рядовые врачи…
Владимир Павлович сделал то, чего никогда пе делал в жизни, – взял маленькую сильную руку докторши в свою и поцеловал.
Сима Соломоновна так удивилась, что не запротестовала, только тихонько отняла руку и сказала мягко:
– Не надо отчаиваться. Мы боремся и будем бороться… – По ее некрасивому, милому лицу прошла тень. Она как будто задумалась. Потом встряхнула головой. – У вашей жены, я бы сказала, вечером пульс был немножко лучшего наполнения. Это тоже что-нибудь да значит…