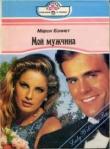Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
Поработала я на совесть зиму и весну, начальник и говорит: «Будем тебе смягчение просить, уж очень ты по-ударному трудишься». А я отвечаю спроста: «Где уж, мне Калинин отказал». А у него тоже самолюбие, у начальника: «Может, тебе Калинин и отказал, а я выхлопочу снисхождение за твою горячность в работе; он тебя на ней не видел, а я вижу; наша, советская земля на таких, как ты, держится». А я, Верочка, правда, всю жизнь очень усердно работала, такая у меня натура была. Ну, значит, пообещал он, я и жду. Жду-жду – нет ответа. Одной ответили, другой, – думаю: а мне когда же придет ответ? Потом зовут к начальнику, он смеется: «Конечно, я теперь молока лишился, но так и быть, поезжай, Баукова, к своим детям, прощает тебя государство. Только смотри, рецидива не делай». Как раз меня и еще одну девушку простили, скостили меру наказания. Она когда в рабочем общежитии жила, глупенькая такая, неопытная, то повадилась курей воровать. Сворует и тут же варит. Аромат на все общежитие. Старуха пришла: «Девоньки, тут у вас никто курятину не варит?» А вот, мол, Зинка. Ну, и взяли ее, она не отпиралась. – И вдруг, без всякого перехода, Нюра заключает: – А ты говоришь – тюрьма. И в тюрьме можно жить, если честно…
– Я и хочу жить честно. – Верочка сразу становится серьезной. – Чем всю жизнь мучиться, лучше разорвать сразу. Я ошиблась, я его не люблю, тетя Нюра, можете вы о бабушкой это понять?
– Но ты же с ним как с мужем жила, он тебя уже испортил, сорвал цвет? – с блеском в глазах спрашивает Нюра.
– Ну и что?
– Как что? Кто ж теперь тебя возьмет?
– А мне никого не надо. Буду жить одна…
– Что хорошего-то? Одна! Ну, пока молодая, а потом?
Нюра начинает описывать тяготы одинокой жизни. Все парочками, а ты одна. Заболеешь – некому тебе чашку воды подать, некому вызвать доктора. Всем ты лишняя, никому не нужная. Без детей…
– Но вы ведь живете, тетя Нюра, одна…
– А что хорошего? – в запальчивости говорит Нюра.
Верочка, напевая, уходит в комнаты. Через минуту она вертит диск телефона и болтает с подружкой, заливаясь смехом.
А Нюра уже не может остановиться. «Был бы муж, – думает она, – может, я и не ходила бы на старости лет стирать. А то что за охота одной сидеть в четырех стенках? День сидишь, другой – устанешь молчать, надоест радио слушать. Вот Маша уезжала в деревню сестру хоронить, а я, простуженная, сидела одна дома. Хорошо, постучалась соседка, спросила: «Ты что, живая? Может, тебе молочка купить?» Нет, правда, лучше переехать к сыну, жить в семье. И Тамарка тут, внучка дорогая, и Леша, младшенький…
Она почти укрепляется в своем решении, когда приходит Евгения Федоровна с мужской рубашкой в руках.
– Нюрочка, – говорит она, – совсем забыла. Ты не сердись. Вот Самсон Самсонович просил рубашку выстирать, вылетело из головы…
– Я простирну, – успокаивает ее Нюра. – Я стирки не боюсь.
Она хочет высказать Евгении Федоровне все, что передумала, что выстрадала, но та говорит:
– Так я устала, Нюра, со всеми этими волнениями, так мне хочется побыть одной. Пожить для себя. Почему-то я всем что-то должна. Вот теперь хотят, чтобы не отец, не мать, не дедушка, а именно я пошла объясняться с родителями Шурика. Почему? С моими-то нервами… Устала. Всегда на людях, всегда в сутолоке. История с Верочкой меня совсем доконала. Вот брошу все и уеду на дачу, буду жить одна…
– А чего лучше – жить одной, – упавшим голосом говорит Нюра. И по привычке, механически, повторяет: – Сама себе хозяйка: хочешь – лежишь, хочешь – сидишь…
Откуда-то издали до нее доносятся слова Евгении Федоровны:
– Самсон Самсонович советует не принимать все близко к сердцу. Но как можно? Я же мать своим детям…
– Вот именно… – Тут уж Нюра, не давая себя перебить, как на духу рассказывает про свои дела. Перечисляет все «за», все «против» и с мольбой, вопросительно смотрит на Евгению Федоровну.
Та озадачена.
– Жаль терять такие условия, такую соседку, как у тебя, – наконец говорит она. – Но ты, Нюра, пойми. Им так хочется иметь отдельную квартиру, без чужих, без соседей…
– Лешка из армии пришел и говорит: «Вот, мать, в армии у меня была койка и тумбочка. А тут я снова на раскладушке должен спать». Всего ведь было у нас девять метров…
– Его ты тоже должна понять…
– Я-то понимаю, – со вздохом соглашается Нюра. – Я понимаю. Такая уж судьба, Евгения Федоровна. Вот от вас поеду прямо к ним: делай, скажу, Леша, как знаешь, я мать, и я свой долг понимаю…
А через несколько дней она со смехом влетает к Валентине Ивановне.
– Валентина Ивановна, я же вам говорила, что я счастливая. Упал камень с души. Отдали Леше всю квартиру. С производства ходатайствовали о расселении. Не придется мне к ним переезжать, буду жить, как жила. Надо же… Мол, он такой ударник производства, заслужил. Как же не заслужил? На все руки человек…
– От души вас поздравляю, – говорит Валентина Ивановна. – Вам действительно повезло. Вам неслыханно повезло…
– Я как открылась своей Маше, так она руками развела. Что ж ты, мол, молчала, одна такую страсть переживала? А я говорю: «Маша, стыд глаза ел». – «Да, Нюра, отвечает, дружба теперь главное, главный закон». То-то и оно, что дружбу боялась потерять. А теперь у меня своя кровать, плита газовая, балкон, пол лаком покрытый. Хочу – лягу, хочу – встану. Сама себе хозяйка…
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ШАГОВ
Рассказ
Иван Васильевич ошеломил жену, когда вдруг объявил, что выходит на пенсию. Как это? Почему? Он ведь полон сил.
Люся просто зашлась от негодования:
– Это штучки нового начальника? Вот нахал… – Люся давно подозревала, что у мужа на службе не все ладно. И даже порицала его втайне, зная, какой у него негибкий, неуступчивый характер, какое упорство в отстаивании своих мнений. Ни за что не подчинится, если считает, что прав. – Так кто же из вас коса, а кто камень?
Муж строго остановил Люсю:
– Я получил право на отдых…
– Да? Загадочная картинка. Цирк, – с привычной бойкостью сказала Люся. Но руки у нее опустились. Она растерялась, понимая, что в жизни наступил перелом. Крутой перелом. Поворот. Обычно муж на долгие месяцы уходил в плавание, она оставалась одна, жила беспечно, по своему вкусу. Теперь все изменится. Она так и сказала по телефону своей любимой подруге:
– Верунчик, мой семейный корабль ложится на новый курс. Иван выходит на пенсию.
– Поздравляю. Тебе будет веселее.
– Веселее? Иван будет командовать мной одной, как будто я экипаж целого судна…
– Тобой покомандуешь, как же, – усомнилась Верунчик.
– Ты плохо знаешь Ивана. Он привык, что ему подчиняются безоговорочно. Что-то мне страшно…
– Ты живешь с ним уже так давно…
Вот именно! Она живет с ним давно, а теперь ей страшно.
Люся вышла за Ивана Васильевича, когда ей было далеко за тридцать, через много лет после того, как умер от сердечного приступа ее первый муж, крупный хозяйственник, или, как тогда говорили, ответственный работник, так избаловавший ее своей добротой, вниманием и подарками. Немолодой уже, умный и довольно образованный, очень занятый на работе, но дома шутник и весельчак, человек с легким, уживчивым характером, он закрывал глаза на Люсины увлечения и многочисленные романы. Ради Люси он оставил старую жену, взрослых детей, внуков, он «бытом и буднями был сыт по горло» и от молоденькой жены хотел только одного – радости и праздника. Так он говорил, считая, что вполне заслужил и радость, и праздники. И это льстило Люсе. Правда, она была очень хорошим товарищем и охотно – понимала, не понимала – интересовалась делами мужа, его работой. Она даже иногда высказывала свое мнение, умиляя мужа здравым смыслом. «Ох, надо бы тебе учиться», – говорил он. На что Люся неизменно отвечала: «Ну вот еще…» – и хохотала. Муж был некрасивый, маленького роста, с толстой шеей и курчавыми, как будто из проволоки, волосами, но Люся его любила. И радовалась своей жизни с ним.
Иногда она философствовала:
– Я же самая обыкновенная, если вдуматься. Морда у меня красивая. Ну и что? Заслуги моей здесь нет. А он умница, ворочает промышленностью целой области. Нет, я выиграла мужа по лотерейному билету.
Верунчик, подруга детства, теперь кассирша в магазине, сидевшая в своей клетке по десять часов в день и непрерывно огрызавшаяся на замечания нервных и требовательных одесских покупательниц, отзывалась со вздохом:
– Почему это выиграла? В нашем дворе ты слыла красавицей из красавиц…
– В нашем дворе вообще жили замечательные девочки.
– Ты была лучше всех.
У них действительно был необыкновенный двор, кишевший детьми, а девочки, все эти русские, еврейские, украинские девочки, беленькие, рыжие и черноволосые, были одна краше другой. Розовые, как отборные яблочки. И все дружили между собой, помнили друг дружку и одна другой помогали.
– У тебя было, Люся… что значит было, есть золотое сердце – вот что самое ценное…
Тронутая Люся распахивала шкаф и доставала оттуда почти новое платье или блузку. Вера не отказывалась:
– Я-то растолстела, как индюшка, от своей сидячей жизни, но детям…
– Ты хоть их не раскармливай, – советовала Люся. – Я отказываюсь от лишнего куска сахару. А могла бы себе позволить питаться хоть одними пирожными…
Могла бы… Но внезапно умер муж. Бледный Савелий Петрович с мешками отеков под глазами, тяжело дыша, только и успел сказать:
– Я виноват перед тобой, ах как виноват, я не подумал о твоем будущем…
А Люся ответила, плача и целуя ему руки:
– Что ты? Я была счастлива, спасибо, тебе за все…
Однако Люсина жизнь теперь резко менялась. Не будет большой зарплаты Савелия Петровича, его забот, не станет подъезжать к дому служебная машина, на которой Люся иногда ездила на базар или в ателье на примерку. Брак их не был оформлен, пенсии по молодости лет Люсе не полагалось, сберегательная книжка, на которой было немного денег, по закону отходила старой жене и детям. А все-таки Люся сказала Верунчику:
– Поминки по Савелию надо справить… – И сняла с пальца кольцо с бриллиантом. – Продай…
На похоронах старая семья, родственники плотной толпой стояли у гроба, как бы оттесняя, почти отталкивая Люсю. Но на поминки все, кто бывал у них в доме, сослуживцы и знакомые Савелия Петровича, поехали к Люсе.
Как всегда в торжественные дни, огромный круглый стол был уставлен винами, водкой, едой. Верунчик постаралась. Горы красных помидоров, истекающие золотым соком дыни, сизый от росы свежий виноград, цыплята, заливная рыба, тушенные в оливковом масле фиолетовые баклажаны.
Не хватало стульев, приборов, несли из кухни табуретки, бегали к соседям за вилками. Люди чувствовали себя неловко, напускали на лица постное выражение, говорили шепотом. Себе в утешение и ободрение вспоминали, что покойный любил людей, уважал застолье, пусть тогда все будет, как бывало при нем.
Люся тупо и безучастно смотрела на эту толчею. Минутами ей казалось, что, как всегда в трудные минуты жизни, покажется задержавшийся на заседании хозяин, выйдет сам Савелий Петрович, наведет порядок, скажет остроумный тост, всех объединит. И тут же спохватывалась: нет, не выйдет. Она тоже сказала:
– Савелий Петрович любил жизнь, он не был ханжой…
Все охотно подхватили, загудели: не был, не был, он ведь замечательный человек… верно, точно, что не ханжа…
Но когда, выпив и поев, согревшись после осеннего ветра, дувшего с моря, гости развеселились, Люсе стало казаться, что все просто забыли, зачем пришли. Разбились на группки, заговорили кто о чем. Кто-то даже рассмеялся. Люся громко заплакала. Ее стали утешать, но не очень сердечно, как будто не верили в искренность ее горя.
– Хорошенькую женщину даже слезы не портят, – сказал Люсе заместитель Савелия Петровича Дроздов и обнял ее, успокаивая, чуть-чуть нежнее, чем положено обнимать вдову.
Она отстранилась.
– Мы вас не оставим, мы позаботимся о вас, – обещал Дроздов, дыша Люсе в ухо. И еще раз положил свою тяжелую руку ей на плечо.
Она снова отстранилась, даже с брезгливостью стряхнула руку с плеча.
– Какая гордая, – удивился Дроздов.
– Гордая? Ничуть…
– Но я не обидчивый. – Хмель все-таки развязывает языки. Дроздов спросил: – Неужели, Люся, вы правда любили Савелия Петровича? Уважать – это я еще понимаю, но любить…
– Вы что? – дерзко спросила Люся. И мокрые ее глаза сразу высохли и сердито вспыхнули. – Вы что? – повторила она. – Может, вы надеетесь занять место Савелия Петровича не только в управлении, но и у него дома? Так знайте, что не вам заменить Савелия Петровича… ни там, ни здесь…
Она поднялась со своего места и стала обходить стол, ухаживать за гостями, угощать, а когда оглянулась, Дроздова в комнате уже не было. Ушел. Догадался. Но Люся понимала, что самолюбивый Дроздов ей не простит, И вряд ли в управлении что-нибудь сделают для нее.
Всю ночь она убиралась и мыла посуду, ставила по местам стулья, подметала, заглушала тоску. Она никогда еще не ночевала в этой большой квартире одна; даже когда Савелий Петрович ездил в командировки, он брал Люсю с собой. Теперь надо было привыкать жить одной…
Утром приехали чуть свет жена и дети Савелия Петровича: два сына – старший, уже чуть лысоватый, и худенький подросток, дочь, невестка. Они хотели взять шубу, костюмы, ордена, документы.
– Мне нужен человек, а не его пиджаки, – сказала Люся. – Берите, вам пригодится…
И ушла в спальню.
Потом к ней постучался младший сын Савелия Петровича, очень похожий на отца, только высокий и довольно красивый.
– Может, вы хотите что-нибудь на память…
– Я его и так не забуду.
– Ну, может, книгу или статуэтку…
Он стоял неподвижно на пороге, угловатый, застенчивый, и ел глазами, разглядывал шикарную спальню, устланную ковром, широкие кровати, на которых его отец спал рядом с этой красивой женщиной, и посторонился только тогда, когда раздался крик матери, седой, очень худой женщины с растрепанными волосами:
– Толя, что ты здесь делаешь? О чем это ты говоришь, с кем?
– Но, мама…
– Тебе не о чем здесь разговаривать, – сказала мать, но тут же сама обратилась к Люсе: – Я беру его вещи потому, что я без средств, а вы молоды, вы устроите свою жизнь. У вас будут десятки других. Я жила с Савелием в бедности, в нищете, с детьми… любила его одного…
– Но я же не возражаю…
– Вы не имеете права возражать, – стараясь быть надменной, говорила жена Савелия Петровича. – Вы любовница, вот вы кто… жена я…
– Но, мама… – опять взмолился сын.
Приблизились старшие дети, обняли мать, увели. Они даже не смотрели на Люсю, полные презрения. И только Толя, младший, пробормотал:
– Не обижайтесь. Мама очень добрая. Это она от горя…
Люся кивнула.
– Как вы будете жить? Вы умеете что-нибудь делать?
– Не пропаду, – сердито сказала Люся. – Уж как-нибудь…
Одно ей было ясно: надо искать работу. Но какую? Образование у Люси было ничтожное. Она, конечно, в свое время посещала школу. Но школа в годы войны, в эвакуации, давала мало. Да и Люся не очень прилежно училась. Письменные за нее писали мальчишки, на устных ей подсказывали подружки. Хорошо, что язычок был бойкий. Она плела чушь, но, главное, не молчала, на тройку отвечала всегда. После войны долго болел отец, потом мать, дом был на ней. Какое уж там учение! Теперь она не была уверена, что сможет хотя бы грамотно, без ошибок, писать. На машинке она не печатала, стенографии не знала. Заняться каким-нибудь ремеслом? Но каким? Где? Пойти на фабрику?
Дроздов не принял ее, когда она пришла в управление, был занят. Посоветовал через секретаршу обратиться в отдел кадров. Правда, домой он позвонил, оправдывался, справился, можно ли заехать. Она ответила, что нет, нельзя. Ну что ж, он позвонит в другой раз, он упорный. Она опять нахамила. Может, он и звонил, но вскоре у Люси сняли телефон. Квартирные телефоны в те годы были редкостью, стояли только у специалистов, а кем была теперь Люся? Она не стала защищаться, не стала хлопотать, боялась напоминать о себе, о том, что занимает одна такую большую квартиру. Тогда, после войны, остро не хватало жилплощади…
В доме без телефона стало совсем тихо.
Целыми днями, не смывая крема с лица, Люся бродила по своим просторным комнатам, смотрела на стены, с которых были сняты ковры, картины. Больше всего она боялась, что придется расстаться с этими стенами. Она так гордилась раньше своей квартирой, огромными балконами, на которых летом цвели в ящиках настурции, кухней с большой плитой. Они так любили с Савелием Петровичем пить чай на кухне или жарить яичницу. Савелий Петрович никогда не сердился, если Люся не успевала приготовить обед. «Это пустяки, девочка, – говорил он. – Ты зачиталась? Очень хорошо». С Савелием Петровичем ей всегда было весело, интересно. Он так громко хохотал! Люсе казалось, что квартира до сих пор полна его голосом, его шутками, его смехом.
Люся продала часы, браслет, меховое пальто и долго жила на эти деньги. У нее было много знакомых и поклонников, которые приглашали ее то пообедать, то поужинать. Она не нуждалась, не голодала. Но для домоуправления требовалась справка с места работы. И Верунчик устроила Люсю администратором в клуб моряков, где она и встретила несколько лет спустя Ивана Васильевича.
Эти годы прошли для Люси невесело. Нужно было рано вставать и поздно возвращаться, нужно было укладываться в маленькое жалованье. Пришлось одеваться скромнее, а она не привыкла себе отказывать. На работе приходилось отвечать вежливо, не так остро, не так смело, как ей хотелось бы. Ведь одесские девочки за словом в карман не лезли. Она часто плакала теперь от усталости или обиды, от страха перед будущим. Она боялась и не любила начальника клуба и с досадой думала, что при Савелии Петровиче она бы ни этого грубияна начальника, ни его заносчивую и ревнивую супругу на порог к себе не пустила, а теперь вынуждена улыбаться им во весь рот. И все больше и больше страшило Люсю одиночество, потому что те молодые и средних лет мужчины, с которыми у нее вспыхивали краткие романы, с которыми она привычно кокетничала, ходила в ресторан и которые иногда оставались потом у нее ночевать, не заполняли ее жизни. Все было не то. С ними надо было хохотать, быть остроумной. Один, женатый, ей так и сказал, морщась от неудовольствия: «Люсенька, деточка, семейные сцены я имею дома».
На могиле Савелия Петровича Люся бывала часто. Она поставила памятник. Ей достали по дешевке глыбу гранита. Знакомый мастер высек барельеф. Голова с львиной шевелюрой очень мало напоминала покойного, но Люся была довольна.
Потом умерла жена Савелия Петровича.
Пришел сын, тот самый угловатый Толя, и спросил, не будет ли Люся против, мать просила похоронить ее в одной могиле с мужем.
– Он ведь ее не любил, – вырвалось у Люси. – Зачем обман? – Ей вдруг стало жалко этого мальчика, так похожего на портреты молодого Савелия Петровича. – Впрочем, теперь уже все равно… он мертвый, и она мертвая… надо выполнить волю вашей мамы…
Но на кладбище Люся ходить перестала, просто платила деньги сторожихе, чтобы та убирала могилу. И сказала Верунчику:
– Все. Хватит мне метаться. Надо устроить свою жизнь. Пора.
– У тебя столько поклонников…
– С Игорем все кончено. Жорик глуп, как пробка. Остается Эмулька, но он не собирается себя связывать, А главное – я не могу забыть Савелия, я сравниваю…
– Смотри не перемудри. Молодость проходит…
– Увы…
Вот тут-то и подвернулся Иван Васильевич. Он, вернувшись из плавания, зашел как-то случайно в клуб и увидел Люсю. Она дежурила. Люся и мечтать не могла о таком муже. Капитан дальнего плавания. Не штурман, не помощник, не механик. Капитан. А Люся выросла у моря и знала, что это такое – капитан.
Он ухаживал за ней довольно долго, то исчезал, то появлялся снова, колебался, привозил ей из плаваний дешевые пестрые сувениры, над которыми она не раз всхлипнула, вспоминая широту и вкус покойного Савелия Петровича.
Иван Васильевич подходил к делу серьезно, расспрашивал ее о прошлом, о родных. Как-то пришел к ней в гости, она похвалилась квартирой, чистотой, показала себя хорошей хозяйкой, блеснула вкусным обедом. Знакомая кадровичка, тоже жившая когда-то в их дворе, рассказала по секрету, что Иван Васильевич наводил о Люсе справки, осведомлялся о ее родных. Кадровичка не осуждала: такой человек, капитан, должен, конечно, иметь жену с чистой анкетой.
– По-моему, чистая совесть важнее, чем чистая анкета, – отозвалась Люся, тоже ничуть не обидевшись. – Но мне нечего опасаться, ты же знала и моего папу, и маму, и брата Гришу – он погиб на войне…
И когда Иван Васильевич шел с Люсей, прогуливаясь, по набережной, а встречные моряки козыряли ему, она гордо вздергивала свою темноволосую головку, задирала точеный носик. Бесчисленные приятельницы спрашивали при случае: «Это твой новый поклонник? Эффектный!» Люся отвечала: «Поклонник? Девочки, тут серьезное чувство. Иначе игра не стоит свеч».
И Люся выиграла свою игру. Иван Васильевич с ней зарегистрировался. Он тоже был одинок – жена и дочь потерялись в войну.
Люся поселила мужа у себя, переписала лицевой счет на его имя. Можно было не тревожиться, теперь никто уже не посягнет на ее квартиру. В столовой она повесила увеличенную фотографию жены и дочки Ивана Васильевича. Нюся была старообразная, с зализанными волосами и выпученными глазами, маленькая Олечка походила на мать. Люди умилялись:
– Как это гуманно с вашей стороны!
– Но ведь бедняжки погибли в войну, – почти искренне говорила Люся.
Один только Эмулька, забежавший к ней после длительной разлуки и несколько огорошенный тем, что Люся вышла замуж, сказал недоверчиво:
– Это живая диаграмма? Что было и что есть теперь у твоего Ванечки?
– Для тебя он Иван Васильевич. Понятно?
Эмулька был догадливый:
– Жаль. Ты же была девочка что надо… С юмором, достойным нашего прославленного города.
– Вот именно – была. Дошло до тебя? Теперь я замужем…
– Но я мог бы и сам на тебе жениться…
– У тебя не такое положение в обществе, чтоб на мне жениться.
– Точнее, не такая зарплата.
– Короче говоря, на прошлом поставлен крест. Я начала новую жизнь.
Люся сбегала в последний раз на кладбище – Иван Васильевич запретил ей ходить туда – и наревелась всласть около памятника Савелию Петровичу. «Прости, прости, мой дорогой, – твердила она мысленно. – Но такова жизнь, я выхожу замуж».
С работы Люся, понятно, уволилась. Иван Васильевич не хотел, чтобы его жена работала в клубе, где любой моряк мог пялить на нее глаза, как пялил их совсем недавно он сам, носить ей шоколадные бомбы в серебряных обертках и «травить» заманчивые морские истории, добиваясь ее расположения.
– Ты теперь семейная женщина.
Люся, хотя ей совсем не хотелось ходить на работу, все-таки возмущалась:
– Выйти замуж еще не значит уйти в монастырь. Надо же приносить пользу обществу.
– Твое дело вести дом.
С Иваном Васильевичем Люся никогда не разговаривала так смело, как со своими кавалерами, выросшими из одесских догадливых мальчиков. Зато они понимали ее с полуслова, с полунамека, буквально с междометия, с усмешки. Иван Васильевич был тугодум.
Он сказал просто:
– И не вздумай мне изменять. Я этого не потерплю.
Люся испугалась:
– О чем ты говоришь? Кто будет тебе изменять? С кем? С этой шушерой, с которой я училась в одной школе и жила на одной улице? Эмулька…
– Эмулька? Это что, собачка?
Люся думала, умрет – так хохотала.
– Это имя, сокращенное имя, которым архитектора называет вся Одесса с легкой руки его мамочки-фантазерки. Она была знаменитым зубным врачом – мадам Варковицкая…
– Мадам?
– Вся улица ее так называла.
Этого Иван Васильевич никак не понимал?
– По-моему, у нас принято говорить «гражданка».
– Мадам Варковицкая гражданка? Не смеши меня…
Люся терялась. Расстраивалась, жаловалась Верунчику:
– Просто у него нет нашего южного чувства юмора. Так же, как там у них, откуда он родом, не кладут перец в борщ.
– В борщ не кладут перец? Какой же это борщ?
Вера сделала такую постную мину, что Люся развеселилась:
– Будем надеяться, что моей жизнерадостности хватит на двоих.
Люсе не очень трудно было угождать мужу, развлекать его, готовить макароны по-флотски, как он любил, наглаживать его форменный китель. Все это она делала с удовольствием. Пока Иван Васильевич плавал, Люся успевала соскучиться. Ей нравилось его сильное, большое, чистое тело, бицепсы, рост. Муж легко, без усилий, передвигал шкафы, забрасывал на антресоли чемоданы, ввинчивал лампочки с табуретки, не становясь на лестницу. Люся суетилась, кокетничала, рассказывала анекдоты и различные истории. Она провожала мужа, когда пароход уходил в плавание, бежала по причалу, плакала и махала платком. Потом приходила домой, снова плакала, потом вытирала глаза, умывалась, как это делают актрисы, снимая грим. Первые дни она тосковала, скучала, места себе не находила. Постепенно приходило облегчение. Пароход плыл где-то далеко-далеко, унося с собой Ивана Васильевича, стоявшего на капитанском мостике. Никакой бинокль, никакая подзорная труба уже не могли помочь капитану увидеть Люсю.
Начиналась, вернее, возвращалась обычная ее жизнь.
Люся обзванивала знакомых, назначала встречи, собирала подруг. Она делала маникюр, меняла прическу, заказывала новое платье, ссорилась и мирилась с портнихой – то клялась, что ноги ее больше никогда не будет у такой нахалки, то снова называла Мусеньку сокровищем и талантом. Люся затевала ремонт квартиры, варила варенье, меняла плиту на кухне, училась вязать. Руки у нее были золотые, и свитеры, которые она вязала для мужа, можно было посылать на выставку, как утверждала Верунчик. Люся гордилась этим, ездила на пляж загорать, бегала в кино на дневные сеансы и подолгу обсуждала с подругами фильмы. Как мухи на мед, так же слетались к ней мужчины – Игори, Жорики, Самсоны Самсонычи, звонили, звали куда-то, набивались в гости.
Про каждого из них Люся с гордостью говорила:
– Видали? Моя последняя жертва. Но мне-то он зачем?
И так же, как повторяется после осени зима, а после весны лето, снова и снова возникал Эмулька со своими усиками. Немножко обрюзгший, немножко располневший, но неизменно веселый, компанейский, остроумный Эмулька. Его байки повторяли всюду, его остроты цитировали, как цитируют классиков.
И вот должно было случиться, что, когда Эмулька, небрежно развалившийся на тахте, рассказывал Люсе очередные сплетни, домой вернулся Иван Васильевич. Люся еще ахала и восклицала, шофер втаскивал чемоданы, Иван Васильевич, торжественный, как монумент, переступал порог передней, а Эмулька, крикнув: «Гарун бежал быстрее лани! Ариведерчи», – уже топал вниз по черной лестнице, выходившей во двор, забыв на столике сигареты и спички. Пепельница была полна окурков.
Люся буквально в ногах валялась у Ивана Васильевича, вымаливая прощение. Как ей было обидно! Она показывала банки с повидлом, наваренным на зиму, свитеры и жилеты, она искренне рыдала. Неужели он может предположить… Флирт – да, болтовня – да, но что-нибудь серьезное – о нет, нет…
– Это же как пух на одуванчике, подул, фу – и нету… А ты мужчина, герой…
Люся чувствовала, что не может, не должна потерять Ивана Васильевича. Она этого просто не переживет. Отравится, перережет себе вены. Она не сможет теперь жить без него, снова одна. Жить, как живут многие безмужние женщины, заполняющие по утрам трамваи и троллейбусы, увядающие в одиночестве, не к лицу одетые, часто с детьми на руках, которых они не умеют воспитывать без отцов, замученные и задерганные своими многочисленными обязанностями, не знающие ласки. Без помощи, без опоры.
– Пусть они инженеры, пусть учительницы, пусть у них дипломы, – говорила Люся Верунчику. – Но я не героиня, нет, мне нужен муж. Я обыкновенная женщина, и моя сила в том, что я женственная. Мужчина со мной чувствует себя мужчиной. Это не важно, кто из нас умнее, может быть я, но я делаю вид, что он неизмеримо выше меня. Я даю ему свою жалость, свою преданность и любовь…
Верунчик в ответ скривила рот.
– Круглые идиотки в наше время тоже не котируются.
– Идиотки? Это уже крайность. Но я умру, если потеряю Ивана.
– Ларчик открывается просто: ты по уши влюбилась. Ты потеряла голову, я тебя никогда не видела такой. Как будто на нем свет клином сошелся…
– Для меня – да, – твердо сказала Люся. – Я его уважаю. – И заявила, что все старые знакомые и поклонники подметки ее мужа не стоят.
– Ну да? А Эмулька? Такой талантливый мальчик.
Люся только презрительно пожала плечами. Слышать она не могла об Эмульке.
И когда он несколько недель спустя как ни в чем не бывало позвонил ей и сказал, что есть возможность посмотреть в Доме архитектора заграничный фильм-вестерн с ковбоями и пальбой из пистолетов, Люся как ушат холодной воды на него вылила:
– Трус, подонок! Хорошо, что ты от страху не потерял здесь брюки. Чего ты испугался? Что Иван тебе морду набьет? Жаль, что не набил. Я свое получила…
– Неужели этот хам поднял на тебя руку? – На другом конце провода Эмулька так тяжело задышал, как будто помпой накачивал воздух в легкие. – Его счастье, что я ушел. Я бы разорвал его на куски…
Люся демонически захохотала.
– Ты слышал анекдот, как заяц упал в волчью яму? Нет? Тогда попроси, чтобы тебе рассказали. Я получила то, что заслужила…
Люся швырнула трубку, но тут же обзвонила всех приятельниц и с подробностями рассказала, как она проучила Эмульку. Человеку под сорок, а его все называют детским именем. И прибавляла с гордостью:
– Мое счастье, что с Эмулькой действительно ничего не было. Муж бы меня убил…
Она гордилась ревнивым, суровым характером мужа, его непреклонностью. Огорчалась только, что он молчаливый, слова от него не добьешься. Никогда не поделится, не расскажет про свои дела. Даже обсуждать с ней не стал, как произошло, что его, вполне здорового и летами не старого, просто по трудовому стажу отпустили на пенсию. Ясно, что он кому-то мешал. А когда она, возмущенная, спросила, не штучки ли это нового начальника, ответил, как отрезал, что он по закону имеет право на отдых.
– А как же мы будем жить? – спросила она тогда.
Муж пошевелил скулами:
– У меня хорошая пенсия.
– При чем тут пенсия? Тебе будет скучно…
– Понятия не имею, что это такое – скука…
– Я боялась, что ты переживаешь, ты же такой самолюбивый. Но если нет, – мягко, как только умела, сказала Люся, – тем лучше. Мне надоело ходить в кино одной, постоянно привязываются с разговорами мужчины, если женщина в кино одна…
Иван Васильевич строго сказал:
– Ну, ты уж не такая молоденькая…
Люся поправилась:
– Надоело одной в большой пустой квартире.
– Квартиру мы поменяем, – как о решенном сказал муж. – Я хочу жить ближе к морю.
– Но я столько сил и нервов положила, чтобы сохранить квартиру в центре, как же так… – Она остановилась, задумалась, как будто взвесила что-то. И вздохнула. – Ты не сможешь жить без моря, что верно, то верно. Придется переехать…