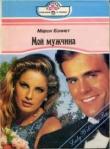Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
– Я ведь предлагала, пойдем лучше в кафетерий, там, на первом этаже, гораздо проще…
– Но почему? Приятно посидеть в таком фешенебельном ресторане… – Яковлев сказал официанту: – Вот в войну наш госпиталь стоял на перешейке, приехали взглянуть. Мы – врачи…
И официант посоветовал, расчувствовавшись:
– На кухне, кажется, еще есть миноги, исключительно изысканная закуска. Рекомендую.
– Раз рекомендуете, значит, возьмем. Ты, Надя, не против? – А когда официант ушел за миногами, покачал головой: – Это не очень остро, не знаешь? Ох, если бы Аня видела…
Надя отозвалась, скорее по привычке:
– Но ведь Ани еще нет, Аня вон когда появится, через целую жизнь.
Яковлев, возбужденный, похлопал Надю по руке:
– Ты славная, Наденька Милованова. Такая же славная, симпатичная и ароматная, как твои ландыши…
– Они давно отцвели…
Когда подали счет, Яковлев покачал головой:
– Хм, кажется, он нас все-таки обсчитал, этот официант, несмотря на уважение к нашему фронтовому прошлому.
– Тебя ведь не обманывают, – засмеялась Надя.
– Я сказал – не часто. Но я не жалею, миноги – это все-таки вещь. Тем более сегодня…
По круто подымающейся дороге они свернули с шоссе налево, чтобы посмотреть дачный поселок Комарово, как им посоветовала дачница, пожилая смуглая женщина, повязанная от солнца платком, которую они подвезли на машине. Она возвращалась с прогулки. И показала им дачи всех знаменитостей, все дома отдыха и детские сады, просто живописные места. Потом, проникнувшись к ним симпатией, предложила:
– А хотите, я вас провожу на кладбище, на могилу Анны Ахматовой?
– Ахматовой? – переспросил Яковлев.
– Ну да…
Была вторая половина дня, солнце слегка померкло, с тенистой стороны узкого незамощенного проселка уже веяло холодком. Улочки были пустынные, зеленые, тихие, за изгородями склонялись к грядкам старушки, пололи клубнику. На спортивной площадке играли в волейбол, но как-то без крика, чинно, мяч взлетал и опускался бесшумно. Проехали мимо почты, миновали переезд, шоссе. Стало еще тише, еще проще, зеленее. Подъехали к сельскому кладбищу. Яковлеву вспомнилось кладбище в той деревне, где была похоронена бабушка, он был очень привязан к бабушке, горевал, когда она умерла, часто бегал на могилу…
– Но почему же ее похоронили здесь? – удивился он.
– Она любила этот уголок и хотела быть похороненной на сельском кладбище, в этом поселке, где у нее была своя крошечная дачка…
Нашли могилу. На могиле стоял резной, как из чугунного кружева сделанный, крест с округлыми краями, чуть тронутый ржавчиной; на перекладине креста, как живой, сидел лепной голубь – словно прилетел и опустился отдохнуть. А рядом с могильным холмиком, убранным полевыми цветами, – стена из светлого камня, и на стене скульптурный портрет – тонкий горделивый женский профиль.
– Какое удивительное лицо, – сказала Надя.
– Да, в молодости была красавицей. Время щадило ее, она и в старости была прекрасна…
Женщина низко поклонилась могиле. Надя тоже наклонила голову.
Когда они снова выехали на автостраду, Надя сказала:
– Не умею выразить почему, не нахожу нужных слов, но для меня, Леша, было просто необходимо сегодня, когда мы расстаемся, здесь побывать.
– Вернусь домой – велю дочери достать мне книгу Ахматовой. А может, у нее и есть. Буду читать стихи и вспоминать этот день и кладбище… – Он помолчал и, только когда Надя какое-то время спустя потянулась к путеводителю, спросил:
– Что-нибудь еще?
– Пенаты, имение художника Репина. Но боюсь, что уже закрыто, темнеет. Да и не хочется мне больше никуда…
Но все-таки они вошли в калитку, когда поравнялись с Пенатами.
Дом был закрыт. Они обошли вокруг несуразного здания с пристройками и башенками, заглянули в окна застекленной террасы, где стояли мраморные бюсты, побродили по странному саду с водоемчиками, мостками, беседками. Из трубы лилась чуть припахивающая болотцем вода, на цепочке висел ковшик. Этой водой из ковшика Репин любил угощать своих гостей.
– Надо и нам напиться… – сказала Надя.
– Если ты, как санитарный врач, разрешаешь…
– Бог с ними, с правилами санитарии и гигиены…
Они попили воды.
Оба уже устали от пережитого, от увиденного, от дороги. Оба понимали, что и дорога, и отпуск, и их встреча подходят к концу.
– А все-таки, – сказал Яковлев после раздумья, – ты права: сегодня замечательный день…
Они въехали в Ленинград, нашли гостиницу. Утром встали рано. Ездили по городу, по набережным, заходили в музеи – страшились скорой разлуки, торопились наговориться напоследок. Зашли в кафе и обедали под такую громкую музыку, что нельзя было ни услышать друг друга, ни помолчать в тишине.
Когда музыка на мгновение стихла, Яковлев спросил, вчитываясь в меню:
– Что это такое – профитроли? Ты хочешь?
– Это такие шарики из теста, – ответила печальная Надя. – Профитроли так профитроли, какая разница… У нас так мало осталось времени…
– Неужели тебе обязательно уезжать именно сегодня? Почему? – Он рассердился на женщину в белом кокошнике, торопившую его с заказом. – Да, на первое бульон, что хотите, в общем… Надя, я тебя прошу… – Он опять не понял: – Почему это одну порцию на двоих? Две… две порции. – И пальцами показал, что две.
Официантка ушла.
– А я согласна одну порцию на двоих. У нас с тобой было бы хоть что-то принадлежащее нам обоим…
– А озеро? – с вымученной улыбкой сказал Яковлев. Музыка из громкоговорителя, опять грянула на полную мощность. – Можешь подарить мне половину озера! – заорал Яковлев. – Озеро и профитроли – это ж полный джентльменский набор…
– Не паясничай, – попросила Надя. – Ты купил домашним подарки? Будешь покупать?
– А ты?
Они съели то, что им подали, бульон и профитроли, не заметив еды, вышли из кафе и пошли в Пассаж. Надя выбрала своим детям шариковые карандаши. Яковлев тоже купил карандаш для дочери.
– А для Ани? Ты не стесняйся, покупай…
– Куплю завтра, – решил Яковлев. – Я вообще не умею делать покупки.
У прилавка стояла длинная очередь. Надя разузнала, что здесь продают эластичные безразмерные чулки отличного качества. Они встали в очередь, и, пока медленно продвигались вдоль прилавка к продавщице, Яковлев бормотал:
– Профитроли – какое странное название!..
– Ну, что ты к ним привязался, к этим профитролям? Ты чем-нибудь огорчен?
Он отвернулся. Надя поглядела на него сбоку:
– А ты действительно очень походишь на киноартиста, что играет хирурга.
Она стала выбирать чулки. А Яковлеву сказала:
– Ты, наверное, тоже возьмешь для своих женщин. Такие чулки редко бывают в продаже.
– Нет, мне не надо.
– Как хочешь…
Но когда они вышли из магазина, Надя сказала:
– Я еще за то тебе благодарна, что ты такой деликатный…
Он отвез ее на вокзал, посадил в поезд, но ждать, пока поезд отойдет, не стал. Испугался этих последних минут. Надя не удерживала. Помахала рукой, сказала:
– Иди…
Ну, вот он свободен, один. Может стоять на набережной хоть до утра, никому нет дела, может утирать платком слезы – всем безразлично. Если кто и взглянет, проходя, подумает: от ветра.
Холодом веет от Невы, от ее «державного теченья». И только там, далеко, на том берегу, светятся на закатывающемся солнце ростральные колонны, и небо над ними розовое и теплое. Розовые веселые отсветы ложатся на вороненую сталь реки.
На душе у Яковлева тяжело. «Неохота расставаться с Ленинградом, с привольем, со свободой», – уговаривает он самого себя. Надо торопиться, времени на обратный путь в обрез. Но ехать не хочется.
По реке проплывает пароходик, на нем негромко играет радио. Они с Надей хотели покататься на таком вот пароходике или на быстрой «Ракете», – не удалось.
Яковлев понимает, что надо взбодриться. Хорошо бы пойти в ресторан, в тепло, в уют, заказать рюмку хорошего коньяку. Но денег мало. Все-таки он должен что-нибудь привезти Ане – конфетку, цветочек, все равно. Конечно, лучше всего были бы чулки, но он не мог покупать чулки Ане, стоя с Надей в очереди. Что-то в этом было некрасивое. И Наде было бы неприятно.
Интересно, заметит ли Аня, как он изменился? Конечно, он тот самый доктор Яковлев, Алексей Михайлович, что и месяц назад, но в нем развязались какие-то силы. Он и сам еще не знает какие, но проросли ростки, проклюнулись всходы, как прорастает ранней весной намоченный овес или пшеница. Аня часто проращивает для него зерна, знает, как он любит такую щеточку зеленых, тонюсеньких, как иголочки, стебельков. Иногда он даже красит яйца и кладет в эту зелень, как делали когда-то дома на пасху. «Я атеистка, – говорит Аня, – но не могу не признать, что пасха – красивый праздник».
А ему, Яковлеву, все равно. Он не любит праздники. Люди много едят и много пьют, а там, где пьют, все случается – и драки, и поножовщина, «скорая» везет и везет в больницу пострадавших. И пока другие ликуют и празднуют, доктор Яковлев, проклиная все на свете, стоит у операционного стола и вот этими руками, что так бессильно и бессмысленно лежат сейчас на шершавом гранитном парапете, твердо держит хирургические инструменты.
Мимо проходят люди, русские и иностранцы. Летом в Ленинграде иностранных туристов полно. Останавливаются, почти растворяясь в сумерках, негры, блестят белыми зубами, сверкают голубыми белками ярких глаз. Стонут, восхищаясь, пожилые американки, такие слова, как «вэри гуд», «бьютифул», «вандэфул», доктор понимает. Морячки́ ведут под руку девушек. Белокурый парень проходит в обнимку с черненькой девочкой. Студенты несут гитару, напевают знакомый мотив. Ну да, «Бригантина», что же им еще петь?
Многим современные песни не нравятся. Ане, например. Яковлев их любит, что-то отзывается в его душе на это «монотонное завывание», как смеется Аня. Он любит молодых, до смешного любит их фантазии и причуды, их нигилизм, их моды и вкус. Дочери внушает: не отставай, иди в ногу с веком. Аню это возмущает.
Он заставляет себя думать об Ане, о доме, о той жизни, которую месяц назад оставил в своей квартире, но сердце болит и болит. Не физической болью, как то должен понимать представитель хирургии, самой радикальной и трезвой, точной отрасли медицины, а сосет от тоски, ноет именно так, как наши бабушки говорили – «душа болит, сердце разрывается, я погибаю от тоски».
Тьфу! Этого еще недоставало.
Доктор Яковлев со своей лысеющей макушкой погибает от тоски – прелестная картинка, не правда ли?
«Но я действительно погибаю», – думает Яковлев.
Он переходит через широкое полотно набережной и в задумчивости чуть не попадает под такси. Шофер, открывая дверцу, кричит с презрением: «Возьми глаза в руки! Ты что, из глухой провинции, в морг торопишься?» Нет, он не торопится в морг. Хорошо, он возьмет глаза в руки. Но как взять в руки свою волю, свое настроение – кто скажет? Он садится на скамеечку недалеко от памятника Петру, снова и снова читает: «Петру Первому – Екатерина Вторая». Как лаконично и выразительно!
Надя уже, должно быть, дома, приехала, может, готовит ужин, рассказывает детям о поездке, о том, что видела деревню, где размещался их госпиталь. Мало ли о чем! А может, подошла к окну, смотрит вот в это нетемнеющее небо, вспоминает… Она приглашала: «Поедем к нам, сможешь встретиться со своим другом…» – «Ты хочешь, чтобы я на него воздействовал?» – «Нет, – она это искренне произнесла, – никто не может нам ничем помочь. У него это серьезно. Да и поздно уже…» – «Тогда я не поеду. Не хочу его видеть».
«У Тихона это серьезно, видите ли, – возмущался он тогда. – Их сиятельство Тихон Стрельцов влюбился…» Ну, а почему же теперь он, Яковлев, больше не возмущается?
И вдруг он понимает, что сам влюблен. Не влюблен, это не то слово. Он любил Надю – так кажется ему теперь – всегда, еще тогда, в госпитале, когда она только появилась, наивная дурочка, и представилась: «Военврач Милованова». Рыженькая, худенькая, с тонкими ножками, все вскакивала, вытягивалась, хотела выглядеть «военной». Он осадил ее:
– Вы ведь не кавалерист, доктор Милованова, не щелкайте каблуками.
Она ответила, как девочка отвечает папе:
– Я больше не буду.
Такая дуреха!
Но вела себя смело, работала безотказно и скальпель крепко держала своей маленькой ручкой – ни жалоб, ни обмороков, хотя над каждым раненым тряслась, приговаривала «потерпите, дорогой», плакала при летальном исходе. От этого он не мог ее отучить. Правда, и не очень старался. Она тогда угадала, когда цветы стала носить, что он нуждается в нежности…
Его цыганка не была нежной. Что соединило их тогда, кроме физиологии? Пела цыганка превосходно, ох как пела!.. Все-таки зажигательная была женщина, больше он таких никогда не встречал, слава богу… Стеснялся, стыдился он тогда этой связи, не только потому, что она вроде его подчиненной числилась. Мог ведь он и жениться на ней, свободный был, холостой. Но понимал, что это не любовь.
А вот того, что нежность его к Наде перерастает в любовь, почему-то не понял. Ушел с дороги, уступил Тихону, радовался, что никто и ничто не отвлекает его от дела.
И вот наступила расплата.
Теперь, когда они с Надей почти старые люди, когда дома Аня и взрослая дочь и все его дела, жизнь, работа – решительно все связано с Аней, и даже «Москвича» он купил потому, что оба копили средства на эту машину, – он встретился с Надей.
Когда ехал в отпуск, то думал о Тихоне, а не о ней. Надю считал как бы приложением к их мужской дружбе, к их приятельским отношениям с Тихоном. И нате вам, вдруг…
Только теперь, когда Надя уехала со своими шариковыми карандашами и безразмерными чулками, когда он остался один в этом необыкновенном городе с его мостами и решетками, соборами, дворцами и адмиралтейской иглой, с его реками – Мойкой, Фонтанкой, с Невой большой и средней и просто с Невой, со всеми большими и малыми Невками, – он понял, как тесно связало, скрутило его с Надей в один тесный узел путешествие, которое они начали как два фронтовых товарища. Он ведь об этом заявлял на всех перекрестках, всем встречным и поперечным, всем дежурным в гостиницах и всем квартирным хозяйкам, чтобы, боже упаси, не подумали чего плохого, не упрекнули бы доктора Яковлева в «аморалке».
Как он обманул самого себя, как обманул Надю, выдавая себя за доброго друга! Нет, то, что он испытывает к Наде, вовсе не дружба. А что же?
Ему никто не ответил: ни прохожие, ни Петр. И он сам не мог ответить на этот вырвавшийся, как крик, вопрос.
«Неужели это любовь?» – робко подумал он.
Ощущение счастья нахлынуло и тут же потонуло в сомнениях – какое же это счастье? Это беда, беда для него, для Ани. И для Нади, пожалуй, тоже беда… И он все, все должен сделать, чтобы избавить близких ему людей от этой неожиданной беды. Он должен на себя взвалить всю тяжесть.
Чуть стемнело, конь под Петром, пронзая вздыбленными копытами сгустившуюся призрачную белизну, упрямо скакал, неся на себе всадника, давшего жизнь городу, где провел сегодня свой последний день с Надей доктор Яковлев.
Надо было все-таки идти, найти по дороге какую-нибудь закусочную, съесть порцию сосисок и выпить кофе, расплатиться на автомобильной стоянке, взять свою машину, заправиться и ехать. А ехать не хотелось…
Он встал, прошелся, снова подошел к памятнику.
– Вот какие дела, какие пирожки, Петр Алексеевич, – сказал он царю. И вздохнул, снова не получив ответа. А что можно было ему ответить? История банальная и старая, как мир. Она была бы еще более банальной, если бы так близко, так остро не касалась его самого.
И все-таки он был счастлив. Несмотря ни на что, вопреки всему, он был счастлив…
Яковлев ехал к пункту Б хмурый, невыспавшийся. Свернул в полночь с шоссе, сделал привал у пруда, развел костер. Все напоминало о Наде. Только поднялись вверх струйки пламени, а он уже думал о том костре на Карельском перешейке, где болтал с молодыми людьми, а Надя безмолвствовала. Дурак, дурак, ну что он молол, трепал языком, почему не увел от костра Надю, не сказал ей душевных слов, не выспросил, как она к нему относится? Теперь сидит один на берегу пруда, томится…
Небо было затянуто тучами, вот-вот соберется дождик. Как будто даже природа отвернулась от Яковлева. Он залез в машину, скорчился там на заднем сиденье, вспомнил про мишку. Мишка уныло болтался на своей ленточке, тоже, казалось, скучал. «Нету нашей Нади», – печально сказал Яковлев, понимая, что ни с кем, кроме мишки, не сможет откровенно поговорить о Наде. А говорить придется, Аня ведь спросит, а она проницательная, она сразу заметит, если он очень уж будет отмалчиваться. А что он может сказать? Клянусь, близости никакой не было, не целовались даже, руку один раз пожал – и все. А в душе что делается? Аня подумает: лучше бы уж ты поцеловался, только не любил бы ее так отчаянно.
А ведь еще вчера он этого не знал. Понял, когда остался один. И что теперь ему делать – не ясно…
А дождь все-таки припустил. То только накрапывало, потом часто-часто застучало по верху машины, как из автомата, и так ему неприютно было под открытым небом, под дождем и ветром!
Надя не просила его ни писать, ни телеграфировать, но это ведь само собой понятно, что надо написать. А что, что? «Надя, я в тебя влюбился». – «Где же ты был раньше, почему не влюблялся, тяжелодум?» – «Вот и не влюблялся, а теперь влюбился. Я погибаю, Надя».
Он все-таки задремал. Проснулся, чуть стало светать, чуть побледнели на востоке небеса. Утро было без солнца, без тепла, хотя лето в самом разгаре. Или ему было холодно оттого, что не выспался, сердился на себя?
Так он и ехал.
Удача изменила ему: закапризничал мотор. Он вылезал под дождь, поднимал капот, снимал карбюратор, дул, выдувал невидимые соринки. Надо было дотянуть до технической станции, а это ведь еще вон сколько ехать. Почти до середины пути между пунктами А и Б. Сколько ездили с Надей, и не было ни одной поломки, а тут впервые за все время спустил баллон. Он сменил резину, весь перепачкался в грязи.
Езда в машине больше не доставляла ему удовольствия. Прелесть новизны была утрачена. И березки на обочинах не умиляли, и водители встречных машин не казались братьями, рыцарями того же ордена, что и он… Казалось, никогда он не доедет до станции.
Надя была теперь уже далеко-далеко, но он все равно ощущал ее присутствие. Вот какой сентиментальный доктор!.. Аня всегда говорила, что он очень сентиментальный. Ох, Аня, Аня, вот как она обернулась, моя сентиментальность…
В каком-то населенном пункте он зашел на почту, купил телеграфный бланк, написал адрес, написал кому, потом скомкал бланк и выбросил.
– Гражданин, – строго сказала девушка из окошечка, – на вид культурный, а бросаете на пол.
– Извините, – Яковлев поднял смятый комок.
– Если каждый будет бросать на пол… – неумолимо продолжала девушка.
Он не стал слушать, что произойдет, если каждый будет бросать на пол. А разве он бросил бы, если б знал, что написать?
И все-таки он добрался до станции технического обслуживания. Там скопилось множество запыленных, забрызганных грязью машин с привязанной на крышах поклажей. Толпились женщины и дети, разминались, пока отцы и мужья добивались помощи у механика. Под полотняным навесом работал буфет. От заправочной колонки пронзительно пахло бензином и машинным маслом. Сигналили, подъезжая и отъезжая, автомобили.
Яковлев не сразу разобрался, куда и к кому идти.
Работал только один механик, он торопился, разговаривал надменно, неохотно, пугал:
– Я вообще сейчас закрываю на обед.
– Друг, – обратился к нему Яковлев доверчиво, – терплю бедствие…
– Что у вас? – Механик взглянул. – О, здесь деталь надо менять.
– Меняй, голубчик, согласен.
Механик послал его на склад, на складе, когда он протолкался к учетчице, нужной детали не оказалось. Растерянный Яковлев всем говорил про свою беду, пока какой-то пассажир с острой бородой, похожий на профессора, не посоветовал:
– Деталь дефицитная, вы поклонитесь механику.
– Я кланялся.
– Вы поклонитесь рублем.
Яковлев покраснел.
Но рубля оказалось мало, механик запросил трояк. А трояка у доктора уже не набиралось, надо было еще подлить горючего.
Пока он стоял, сконфуженный, соображая, что делать, механик закричал на толпу автомобилистов:
– Закрываю, закрываю, все, шабаш, ко мне дружок приехал…
И ушел, сопровождаемый почтительными заискивающими взглядами.
Человек с профессорской бородой сказал:
– Я по этой трассе часто езжу. Форменное бедствие, когда этот артист приезжает. Механик ради него отцом-матерью пожертвует. Теперь будем загорать.
Яковлев не прислушивался, не заинтересовался, что за артист. Прошло часа два, он основательно вымок, тщетно пытаясь сторговать у кого-нибудь из автомобилистов эту проклятую деталь. Он нашел, как ему показалось, удачный выход из положения: заплатит механику за деталь, а поставит сам. Не боги горшки обжигают.
Мастерская все еще была закрыта.
– В буфете он, обедает, – объяснила нарядная учетчица в блестящем платье с большим вырезом, отрываясь от зеркальца, в которое рассматривала свои пухлые губы.
Яковлев чуть ли не десять раз говорил ей сегодня, как плохо организован труд на станции и как по-барски пренебрежительно относятся здесь к клиентам.
– Если хотите знать, – сказала она доктору почти душевно, настолько он ей примелькался, своим человеком стал, – механик имеет полное право и вовсе не заступать: сменщик болеет, он давно вкалывает без выходных, только из уважения к людям, а вы еще недовольны… Понимаете, какая ситуация? Тем более у него такой гость. – Она громко вздохнула. – Такая знаменитость! Может пригласить любую женщину, ни один генерал не откажется с ним вместе пообедать, а нате же, не может обойтись без нашего Димки. Буквально все секреты и переживания ему доверяет. Клянусь, я сама один раз своими ушами подслушала…
Яковлев, как ни тошно ему было, все-таки ухмыльнулся:
– Подслушивать некрасиво.
– А что? Искусство принадлежит всему народу, я так считаю…
Потеряв терпение, Яковлев пошел под парусиновый навес, где помещался буфет, нашел столик, за которым механик и, его гость ели борщ. Легкий пар стоял над тарелками.
– Простите…
Механик скользнул взглядом и отвернулся, как будто на пустое место посмотрел, а собеседнику сказал горячо:
– Сережа, да я для тебя – ты только мигни, – да я ему кости переломаю, этому умнику, если что…
– При чем тут кости… просто я еще не вошел в образ, я… я хочу добиться полной органичности.
Яковлев снова повторил, уже более настойчиво:
– Простите…
О господи! Он увидел знакомое лицо, но не мог сразу сообразить, кто это. Оперировал он этого человека? В институте с ним учился? Сталкивался на войне? Слишком молод. Ой, да это же…
Он ничего не мог с собой поделать, не управлял больше собой, улыбка поползла по лицу. Яковлев шагнул ближе. Какой случай! Сказать этому человеку: «Я вас благодарю, спасибо… так сыграть хирурга, как вы… так передать высокий дух нашей профессии…»
Артист нервно поежился.
– Вы что? – сухо спросил он. – Вы ко мне? Автограф, наверно? Автографов, извините, я не даю, считаю глупым. Ах, вы к нему…
Механик нахмурился:
– Я же вам сказал – трояк, а вы чигирничали. Ну что, не нашли дешевле, ко мне вернулись?
Артист поддержал его.
– Вы хотели получить даром? – насмешливо спросил он.
– Да я… почему даром… так обстоятельства сложились, что я…
– Теперь я занятый, – торжествуя, сказал механик. – Вы же видите, что я с человеком занятый, а лезете, не даете покушать…
Яковлев стал объяснять, что очень торопится, он только возьмет деталь, а поставит сам. Погода испортилась, а ему еще ехать и ехать.
– Да дайте же рабочему человеку поесть спокойно, как вам не стыдно! – опять вмешался артист, досадуя, что мешают поговорить.
Яковлев совсем растерялся. Он стоял в своем насквозь промокшем старом плаще, с грязными руками, испачканными машинным маслом, как жалкий попрошайка. Это он-то, который чуть ли не молился на этого артиста и хотел писать ему письмо! Он, который всего несколько дней назад смотрел, восторгаясь, вместе с Надей фильм, где артист играл военного врача-хирурга, такого, каким был в войну сам Яковлев! Что же это такое?! Должно быть, лицо Яковлева отразило такую силу страдания и обиды, что механик смягчился:
– Ладно, пойду отпущу ему эту деталь, все равно не отстанет…
– Нет, Дима, принципиально!.. – возразил артист. – Имеешь ты право съесть борщ, пока он горячий?
– Я подожду, – махнул рукой Яковлев, сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнего.
Отходя, он слышал, как механик твердит:
– Не позволяй наступать себе на ногу, требуй чуткости, Серега. Они что, забыли, кто ты такой? Да за тебя простые люди горой стоят. Ты же наш, народный, свой, никому не сыграть рабочего человека, как тебе…
– Или – или… Если эта роль не получится, я брошу кино… – грустно сказал артист. – Понимаешь, Димка, нет искры́, не получается зажигание…
Тон был такой горестный, что Яковлев рванулся еще раз подойти, вернуться, может, удастся все-таки разговориться, но Димка по-своему истолковал его движение.
– Черт с ним… все равно на нервы действует, когда стоят над душой… Ты меня, Серега, извини… один момент…
Яковлев, сияя, сказал:
– Очень рад был встретить… Давно мечтал…
Артист произнес укоризненно, осуждающе:
– Чудовищно, как мы мало уважаем рабочего человека! Теперь будет по вашей милости есть холодный обед…
Яковлеву вспомнились все операции, которые он делал, все его ненормированные рабочие дни, все ночи, что он не уходил из больницы, просиживая у тяжелобольных, а он ведь «трояков» не брал и Аню приучил не брать подарков и подношений, в три шеи гнать, если несут на дом какие-то хрустальные вазочки, подстаканники с выгравированными надписями или коробки конфет, перевязанные лентами.
Вся его трудовая, самоотверженная жизнь пронеслась перед ним за одно мгновение, и он снова увидел себя, непрезентабельного, немолодого, ничем не примечательного, как бы со стороны – такого, каким видел его артист: длинный немодный плащ, намокшие ботинки, линялая ковбойка с оторванной у воротника пуговицей, которую он надел, чтобы не застирывать в дороге хорошие рубахи.
Красивое, правда, не такое красивое и не такое мужественное, каким оно выглядело на экране, лицо артиста показалось Яковлеву холодным и высокомерным. Никто и ничто не могло бы заставить его теперь поверить, что артист на грани отчаяния и приехал сюда за поддержкой. Его страстью были автомобили, на этом они сошлись и сдружились с механиком. Димка гордился этой дружбой, а артист нуждался в беззаветной, бескорыстной, слепой привязанности.
Ему было плохо, ему было очень плохо, не ладилось с новой ролью, и он нуждался в том, кто безоговорочно верит в его талант.
Плохо было с новой ролью! До этого он играл молодых, теперь, с возрастом, надо было заново находить себя. И осложнились отношения с женщиной, на которой он не хотел жениться, не хотел уводить ее от мужа и связывать себя, но которую боялся потерять, если будет слишком уж тянуть.
Артист заехал на станцию потому, что Димка умел слушать, возмущаться и сочувствовать, пылко и искренне сопереживать. Всем другим приятелям по театру и кино, с которыми можно весело или в заумных рассуждениях об искусстве провести время, было, в сущности, мало дела до его тревог. Они теперь, может, даже радовались, что у него неуспех. Он страдал оттого, что одинок, как ему казалось, а он и был теперь одинок, как все люди, когда им тяжело и нужно сделать окончательный выбор. Так одинок был сейчас и Яковлев с его внезапно нахлынувшей любовью, с сожалением о том, что подходит старость, а он, Яковлев, что-то важное, большое, значительное в жизни упустил…
Яковлев пристально смотрел на артиста, стараясь вложить в этот взгляд насмешливое презрение, досаду, обиду, даже горечь, но судьба не одарила его актерским даром выразительности. Яковлев вспомнил, как в спектакле МХАТа, в пьесе «Дядя Ваня», насмешливо кланяется Борис Ливанов в роли доктора Астрова. И, вспомнив, тоже сложил руки на груди и поклонился. И еще больше рассердился на себя за то, что эффекта не получилось.
Резко повернувшись, он пошел вслед за механиком.
Но артист, видимо, что-то почувствовал.
– Вы, кажется, обиделись? Что это вы? – обеспокоенно спросил он.
Но Яковлев уже не слышал. Не хотел слышать.