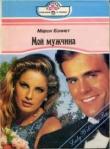Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
– А мне у вас нравится, – сказала Надя. – У вас закаты яркие, особенно зимой, снег так и горит…
– Это само собой. Но там урюк, виноград. Урюк цветет, все сады розовые…
Когда однорукий ушел, с сожалением расставшись с ними, Яковлев тут же сказал:
– Ты представляешь, что я вспомнил? Когда ты к нам приехала, совсем еще на девочку похожа была, на девятиклассницу, я вхожу, а ты держишь треугольничек в руках и ревешь. Оказывается, письмо пришло, а раненый – адресат – только-только скончался. У меня просто душа заныла, какая ты хорошая…
Надя отмахнулась:
– Ну, вот еще…
– Нет, правда, ты произвела тогда на меня очень сильное впечатление…
Они долго гуляли по берегу, с удивлением наблюдая, как солнце оживило воду, с какими шелковыми переливами бежала теперь по озерной глади легкая рябь. И неожиданно Яковлев подумал вслух:
– Интересно, как сложились бы наши отношения, если бы Тихон попал в другой госпиталь, а не в наш…
– Ох, Леша, Леша, – только и сказала Надя.
Они посидели еще на берегу, а когда решили, что пора обедать, и поехали, Надя как бы невзначай вспомнила:
– А я ведь видела как-то твою старую любовь, твою цыганку…
– Где? – испуганно спросил Яковлев.
– На профсоюзной конференции. Созвали медработников из всей области. Она очень тепло о тебе говорила…
– Да? – не поверил Яковлев. – Что же она говорила?
– Что ты хороший человек. Считает только, что мужчина ты не самостоятельный, что не ты выбираешь женщину, а женщина выбирает тебя. У тебя мягкий характер…
– Абсурд! Человек, у которого мягкий характер, не может быть хирургом.
Надя запротестовала:
– Ты потому и хороший хирург, что у тебя мягкий характер. Ты любишь больного, а не только саму операцию, не свое хирургическое мастерство…
– Ересь. Без мастерства какой же может быть хирург! Ты несешь чепуху…
– А мне кажется, она права, твоя цыганка… Настойчивость, во всяком случае по отношению к женщинам, тебе не свойственна. Правда, я не знаю, какой характер у твоей Ани…
Яковлев слегка покраснел:
– У Ани крутой характер…
– Вот видишь…
– Но Аня помогает мне жить, – сказал Яковлев, как будто оправдываясь. – Она твердой рукой ведет наш семейный корабль, и это позволяет мне всего себя отдавать работе…
– Тебе повезло, – сказала Надя. – Тебе очень повезло…
– А Тихону разве с тобой не повезло? – рассердился, сам не зная на что, Яковлев.
– Повезло, – спокойно ответила Надя. – И Тихону тоже повезло. И поэтому Тихон нашел свое место в жизни, утвердился, преуспел на работе и даже новую любовь нашел, когда старая угасла. А я вот свое место потеряла…
– Что ж ты, без Тихона не проживешь, что ли…
– Ты не понял, – все так же спокойно пояснила Надя. – Я не Тихона имела в виду. Я свое место в жизни потеряла. Я ведь не люблю свою нынешнюю работу, хоть это и очень почетно – бороться с антисанитарией… Мне больше нравилось оперировать. А я отказалась от своего призвания, и жизнь отомстила мне…
– Мудришь ты, доктор Милованова, – покривил душой Яковлев. – Идешь от неверных посылов, мудришь, а вокруг такая красота…
Надя согласилась:
– Действительно, вокруг красота.
Иногда они просто молчали. Надя сказала, что она теперь выучилась подолгу молчать, – у детей своя жизнь, а она много времени проводит одна, молча. Даже считает, что это полезно, укрепляет нервы и приучает размышлять. Есть такая философия, не то у буддистов, не то у йогов, – они утверждают, что человеку необходимы дни полного молчания.
– Это великолепно…
Яковлев недоверчиво пожал плечами.
– Одинокие женщины всегда интеллигентнее замужних, – засмеялась Надя. – Я почти не успевала читать, а теперь не только позволяю себе роскошь молчать, но и читаю. Даже снова полюбила поэзию… А ты?
– Ох! – только и вздохнул Яковлев.
У Нади даже с собой были книжки стихов. И в сельских магазинах, мимо которых они проезжали, она кое-что купила, радуясь своей удаче:
– Теперь ведь достать хорошую книгу – все равно что выиграть в лотерею. Все покупают книги, повальное увлечение…
– А не мода? – усомнился Яковлев.
– Может, и мода, но хорошая…
– Когда я был молодым, любил читать. Я был большим книго… книго…
Он затруднился, но Надя помогла:
– Книгочеем…
Они оба охотно смеялись над любым пустяком. Иногда читали по очереди вслух, Надя – волнуясь и запинаясь, Яковлев – отчетливо и с выражением. Но чаще, как ни сопротивлялась Надя, все-таки разговаривали. Яковлев расспрашивал, какой она была маленькой. Надя рассказывала. И про детей своих рассказывала. Яковлева это веселило. Сам же он больше всего любил говорить про свою больницу:
– Иметь бы такого завхоза, такого помощника, каким был твой Тишка в госпитале, и можно бы жить не тужить, знать, что тыл обеспечен, все в порядке, твое дело – только больные. А то ты не поверишь, как приходится изворачиваться, кланяться умелым людям, даже из своего кармана платить, только бы изготовили инструментарий, какой тебе удобен, или гвозди… ну, знаешь, какие мы при переломах вставляем, это же целая проблема. Я одно время даже сам изобретал…
Он откладывал книгу или переводил разговор на другую тему и увлеченно начинал рассказывать про больных. Память у него была как регистрационный журнал, он каждую мало-мальски сложную операцию отлично помнил. А операции все сложные, считал он, все требуют подготовки. Отнесешься халатно, так могут быть такие последствия, что ой-ой-ой…
– Операции я все помню, а лица, понятно, забываю. Тут как-то обиделся на меня больной: я, мол, у вас лежал, вы меня все голубчиком называли, а запамятовали. Я отвечаю – погоди, вот посмотрю на твой шовчик и скажу, лежал ты у меня или не лежал, на лицо, извини, не всегда гляжу. А то еще такой был случай…
Надя охотно слушала.
Они обычно находили веселую, усыпанную солнечными пятнами лужайку, но сами садились в тень под дерево и машину, конечно, тоже ставили в тень. И сегодня выбрали живописное тенистое место, договорились, что будут читать каждый свою книгу и будут молчать, не отвлекаться. Но Яковлев долго не вытерпел. Пошелестел страницами и тут же заговорил о том, что очень интересно наблюдать за Надей, когда она читает: на ее лице отражаются все эмоции.
– И брови поднимаешь. И хмуришься…
– Ты что же, следишь за мной?
– Да. Мне приятно…
Солнце передвинулось, им тоже пришлось передвинуться. И Яковлев, чертыхаясь, перегнал машину в другое место, в кусты.
– Ты к своему «Москвичу» относишься с такой заботливостью, как к живому существу, – пошутила Надя.
Яковлев почти серьезно ответил:
– Всякий механизм живой, надо знать его особенности и относиться к ним с уважением…
– Ох, хорошо, если бы и к людям так относились… с уважением…
– А я отношусь с уважением, – уже вполне серьезно ответил Яковлев. – Я к тебе отношусь…
Надя от серьезного разговора ушла:
– А читать мешаешь…
Но книгу все-таки закрыла.
– Ты хорошо слушаешь, – похвалил Яковлев. – Тебе хочется рассказывать и рассказывать, так ты хорошо слушаешь. Я вниманием не избалован… Аня, – он впервые заговорил об Ане с каким-то оттенком обиды, – Аня наперечет знает всех подруг нашей дочери, всех ее преподавателей и сокурсников, но с тоской слушает то, что рассказываю я… – Он отломил от куста веточку и, перебирая листочки, сказал: – Иногда после операции я прихожу такой усталый и взбудораженный, что долго не могу ни уснуть, ни успокоиться, все говорю…
– Возможно, что Ане надоело слушать про операции…
– Конечно, надоело. Она устала, хочет спать, а я про свое… – И почему-то стал оправдываться: – Аня очень хорошая и прекрасно ко мне относится…
– Не сомневаюсь…
– Тебе неприятно, когда я говорю про Аню?
– Нет, что ты…
– Значит, мне показалось. – Яковлев успокоился. – Аня ведь самый близкий мне человек. Дочь меня не очень-то любит, она – мамина дочка, друзей у меня мало, вот вы с Тихоном, да и то далеко… А Аня со мной всегда… – Как обычно, он спохватился, испугался, что говорит неделикатно, ранит Надю, которая теперь с Тихоном врозь, и предложил:
– Лучше правда почитаем…
– И помолчим, – сказала Надя строго. – Иногда лучше всего помолчать.
Яковлев пристально посмотрел на нее, открыл было рот, покачал даже головой, но ничего не сказал. Перебирал листья на своей веточке и вздыхал.
Так они мотались по Карельскому перешейку, ночевали в деревенских гостиницах или у хозяек, обедали в чайных или столовых, иногда ели всухомятку – жили удивительно беспечно, весело, непритязательно.
Отдыхали часами на полянах или в лесу на опушке, под сосной или березой, следили, как деловитой походкой бегут по желтому песку муравьи.
Однажды поймали стрекозу.
Надя посадила стрекозу на палец, кричала,-что стрекоза щекочет кожу, но это удивительно приятно. Потом стрекоза взлетела, но не стала улетать, а села на Надины волосы.
– Это потому, что твои волосы хорошо пахнут, – сказал Яковлев. И смутился.
– Это что – комплимент?
– Я не мастер говорить комплименты, ты же видишь…
– Нет, почему! Ты очень мило сказал…
– Никогда не поймешь вас, женщин, что, по-вашему, хорошо и что плохо.
– Все, что необычно, что от сердца, порыв, то и хорошо…
– Да? Но я вроде не склонен к порывам. Хотя… – Яковлев подумал и признал, что, конечно, это очень разумно – размеренная жизнь, жена, к которой привык, каждое слово которой, каждую интонацию знаешь, но хочется, правда, иногда чего-то нового, необычайного, неизведанного, какой-то вольной кочевой жизни.
И Надя грустно согласилась: да, да, мы, женщины, потому вам и надоедаем, что наш мир более узкий – хозяйство, дом, дети. И никуда от этого не денешься, какое уж там кочевье! В нас сильно развито чувство семейного долга.
– Если бы моя жена видела, что я здесь ем, как грешу против диеты… Ох, был бы крик!
– Она ведь о тебе заботится…
– Это верно…
– Вот видишь.
– Верно, но скучно…
– Да, да, я всегда помнила, какая сложная операция была когда-то у Тихона, я всегда была настороже, предостерегала, оберегала, это ему надоело… С ней, с новой своей женой, он, должно быть, почувствовал себя моложе, сильнее…
– И помрет скорее, – грубо сказал Яковлев.
– Зато пока счастлив…
– В этом я не уверен… Ты ловила каждое его желание, ты…
– Когда Тихон злился, он говорил, что вовсе я его не люблю, просто тешу свое самолюбие, что, мол, я его спасла… Он был очень ревнивый…
– К кому же он тебя ревновал? – поинтересовался Яковлев.
Надя ответила не сразу:
– Когда-то, на войне еще, к тебе, потом… Он ревновал ко всем, даже к собственным детям… Он ведь собственник, Тихон. И очень самолюбивый…
– Гм, – удивился Яковлев. – Почему же он ревновал ко мне, позволь спросить? Какие у него были основания?
– Ну что теперь выяснять, смешно…
Были минуты, когда Яковлев боролся с искушением поцеловать Надю, обнять ее. Но ему казалось это непорядочным. Надя доверилась ему, поехала с ним. Аня отпустила его одного. Сам он уже не молод, плотен, лысоват. Он гнал от себя искушение, старался шутить, язвить, острить, философствовать.
– Человек должен быть иногда свободен. Вот как мы… Лежать на траве, следить за этими торопливыми муравьями… – Но муравьи все-таки не могли его интересовать долго. – Надя, неужели ты забудешь эту нашу поездку?
– А ты?
– Я-то не забуду, вот ты бы не забыла. Скажи, а Тихон ревновал тебя за дело? Или просто так?
– К тебе?
– Ну, предположим, к другим…
– Так я и сказала…
Но он-то понимал, что она шутит, и ему необыкновенно приятно было знать, что Надя – серьезная, преданная своему мужу женщина, как будто тем, что Надя была верна Тихону, она была верна и ему.
А все-таки он снова сказал, уже в другой раз:
– Твои волосы очень хорошо пахнут…
– Поздно же ты заметил мои волосы, в них уже седина…
– Не вижу никакой седины.
– Глупый, я их крашу. Мо́ю ромашкой, она золотит…
Он протянул руку, погладил ее волосы и даже засмеялся:
– Мягкие…
Вот и вся ласка, на которую он решился. И тут же нахмурился, отдернул руку и зачем-то стал рассказывать, как Тихон к нему приезжал, какая трудная попалась ему тогда больная, насилу выходил.
– Кстати, – припомнил он, – Тихон очень не понравился моей жене, я даже удивился. А что-то Аня в нем разглядела…
– Женщины вообще отличаются чуткостью… – Надя не стала говорить об Ане. Попросила: – Вспоминай обо мне, Леша, ладно? Нет, не, поездку, не пейзаж, не эту лужайку, – просто то, что живет на земле Надя Милованова, вспоминай…
– Есть вспоминать, доктор Милованова. – Он как будто шутил, но расчувствовался, взял Надину руку, пожал, потряс. Глаза его затуманились. – Скоро последний день…
______
Надя назвала этот день счастливым. Хотя и вечер накануне этого последнего дня они провели неплохо. Ехали мимо сельского клуба, а там шла картина. Та самая старая картина про войну и про хирурга, которую так любил доктор Яковлев. Он скосил глаза на большую афишу-плакат с названием и невольно затормозил. Надя угадала:
– Хочешь посмотреть?
Он не столько хотел посмотреть фильм, сколько хотел знать, заметит ли Надя сходство между ним и героем. Его так и подмывало бросить небрежно: «Моя жена находит, что мы похожи». Но не говорил – пусть Надя сама заметит и скажет. А если не скажет, значит, это Анина фантазия.
Фильм взволновал его на этот раз особенно сильно: и гул войны, и падающие бомбы, корежащие и лес и землю, и операционная, и подвиги врачей и солдат. Картина как бы накладывалась на все то, что они с Надей вспоминали в эти дни, на то, что переживали вместе и никогда, никогда не забудут. Поначалу он еще замечал, что в картине правильно, а что не так, как было на самом деле, – ведь не было у них в войну таких наглаженных халатов, и вид – особенно у него – был более штатский, не щелкал он каблуками (Надя, по неопытности, щелкала!), да и вообще никто вокруг не соблюдал так тщательно субординацию, не до нее было. А потом, как всегда, увлекся и даже прослезился.
Надя сидела рядом с ним, и ему приятно было, что она сидит так близко, почти прижавшись к нему прохладным плечом. На ней было летнее платье без рукавов, и он все время чувствовал ее плечо…
Он нерешительно взял Надину руку в свою и не отпускал.
Взрослых в кино почти не было, сидели подростки, мальчишки, которые замирали, пока шли военные эпизоды, и свистели и кричали, когда герой целовался с героиней.
Зажегся свет, стали хлопать откидные сиденья, а Яковлев с Надей все еще сидели, держась за руки. Кто-то за их спиной тихонько свистнул, кто-то тихо сказал со смешком «жених и невеста», кто-то в их ряду переминался с ноги на ногу, желая пройти и не решаясь поторопить. А какая-то девчоночка в короткой юбке, с золотистой стриженой головкой громко сказала подружке: «Плачет, надо же… какой сентиментальный». А подруга ответила: «Ой, наш старик тоже такой. Как про войну, он плачет».
Яковлев опомнился. Засмеялся:
– Я тебя скомпрометировал, Надя, ты извини.
– У меня у самой глаза мокрые. Но знаешь, Леша, все-таки лучшая пора моей жизни была тогда…
– Ну что ты? Что ты такое говоришь…
– Нет, не что ты… – Надя настаивала. – Те годы были моим взлетом, выше этого я больше никогда не подымалась. И лучше, чем тогда, не была…
– Ты была такая прелестная, такой милый рыжик с зелеными глазами. Но, клянусь, ты и теперь еще очень и очень в форме. Ну, просто – привлекательная женщина, и только такой дурак, как Тихон…
– Да не в нем дело, не в Тихоне, – с досадой сказала Надя. – И не о внешности я говорю. Неужели ты не понимаешь? Тогда я будто быстро шла в гору, напрягала все усилия, а после просто брела и брела по гладкой дорожке…
Когда они вышли из кино, то оба удивились, что еще совсем светло. Никак не могли привыкнуть к белым ночам, придававшим особое очарование и своеобразие их поездке. Каждый вечер удивлялись заново и сейчас не хотели уходить от этого белесого загадочного света, медлили около кино. И когда подъехали к дому, где ночевали вчера и должны были в последний раз ночевать сегодня, то тоже не торопились, долго стояли у ворот.
– А все-таки надо выспаться перед дорогой, – вздохнул Яковлев. – Надо встать пораньше, приготовить машину…
– Да, праздник кончается, – печально отозвалась Надя. – А как было хорошо…
– В будущем году, – сказал Яковлев, – я обязательно повезу Аню в Крым, я обещал…
– Аню? А кто это – Аня? – невесело пошутила Надя.
– Может быть, спишемся, и ты с нами поедешь, – не очень твердо пригласил Яковлев.
– Нет, втроем так славно уже не будет…
– Мне нравится твоя откровенность…
Они въехали в ворота, во дворе почему-то стояла еще одна машина, красная. А двое молодых людей разбирали палатку. Им помогали девушки.
И хозяйка стояла тут же, давала советы, глазела, то громко хохотала, то конфузливо прикрывала рукой щербатый рот.
– А я ваши койки сдала, – пошутила она, увидев Яковлева и Надю. – Думаю, уехали и уехали, и не вернутся…
– И деньги зажулят, – подхватил Яковлев.
Все сразу перезнакомились, разговорились, стали угощать друг друга папиросами, бутербродами. Яковлев помог молодым людям разжечь костер. Наладились варить в чугунке суп. Полевой суп, с пшеном и картошечкой, и чтобы припахивал дымом.
Яковлев суетился больше всех, резал складным ножом сало для заправки, подкладывал хворост. Надя сидела тихо, к супу почти не прикоснулась, отмахивалась от комаров. И хозяйка была тут же, охотно, взвизгивая, смеялась.
– Уважаю я лето, – говорила она, – и вас всех уважаю, постояльцев своих, с вами весело… Потом отсиживаюсь зимой в доме, всех вспоминаю, кто ночевал… Все думаю, какая у кого судьба вышла… – Она обняла Надю за плечи: – И тебя буду вспоминать, и доктора твоего…
– Он не мой, у него дома жена…
– Да, у меня дома жена. Аня. Анна Николаевна, – простодушно подтвердил Яковлев.
– У моего друга тоже дома осталась жена, – сказал один из молодых людей. И захохотал.
– Пойду-ка я спать, – Надя вдруг встала. – Спокойной ночи.
Но спать она не легла, села у раскрытого окошка и смотрела сквозь тонкие ветки молодой рябины, посаженной под окном, на двор, где догорал костер. Когда Яковлев подошел к дому, то очень удивился:
– Еще бодрствуешь? А хотела спать…
– Просто и не успела тебе сказать во всей этой суматохе. Тебе никто этого, не говорил? Ты очень похож на доктора из картины…
– Надя, ты гений!
Яковлев счастливо засмеялся.
– Тебе уже говорили? – огорчилась Надя. – Кто?
– Моя Аня… Надя, я очень рад, что и тебе так показалось… – И доктор сказал очень, очень доверительно: – Эта картина, честно тебе говорю, оставила во мне глубокий след…
– Завидую тебе, что ты такой впечатлительный! – почти закричала Надя. И, сердито поглядев на озадаченного Яковлева, захлопнула окно.
А утром она была, как обычно, ровна и спокойна и на встревоженные расспросы Яковлева ответила со смешком:
– Просто слегка позавидовала твоей Ане… Чисто, конечно, теоретически.
– Ты – искренне?
– Вполне.
Доктор напомнил:
– А говорила, что Ани еще нет и в помине.
– Но она ведь есть… – Надя произнесла это и вопросительно и утвердительно, подняв на Яковлева свои зеленоватые глаза.
Яковлев спасовал, пробормотал:
– Конечно… – И прибавил: – Жизнь есть жизнь…
– И прекрасно, и хорошо, – поторопилась успокоить его Надя. – Мне одного хочется: чтобы этот последний день был еще лучше, чем предыдущие…
– Почему последний? Может, мы еще с тобой побродим по Ленинграду, а?
Они развернули карту Ленинграда и его пригородов, уточнили маршрут.
– Я все это хочу видеть, – сказала Надя, – все интересные места, и большое озеро, и Пенаты, где жил Репин. И море. Подумай, как нам повезло, все это по пути… Ты согласен, Леша?
Доктор Яковлев на все был согласен. Он все бы сделал, лишь бы Надя была довольна. Он часто взглядывал на нее, ища на ее лице следы вчерашнего несчастного и сердитого выражения, когда она захлопнула окошко, отгородилась от него стеклянной преградой. Но Надя как будто была весела, и Яковлев тоже повеселел.
Чего только не передумал он за короткие часы летней ночи, когда ворочался с боку на бок в той пристроечке, где хозяйка отвела ему место. Впервые за эти недели его потянуло домой. Возраст сказывается, что ли? Или просто нагляделся вечером на молодых людей, разбивших палатку, на этих смешливых мускулистых парней и девушек в шортах, с сильными стройными ногами, и почувствовал себя рядом с ними не то чтобы старым, а каким-то нескладным, наивным, болтливым? Чего ради он так много шутил, суетился, даже как бы подлаживался к ним? Лучше провели бы вечер вдвоем с Надей, какая-то она была молчаливая, тихая у костра. О чем-то думала, отмахиваясь от комаров, морщилась, когда он, как бы извиняясь, слишком настойчиво объяснял, что они только товарищи.
Нет, надоело ему все это, скорее бы домой, к Ане. Аня проберет его как следует за это путешествие вдвоем с Надей, но, конечно, простит, и опять они заживут за милую душу, спокойно и размеренно. Хотя размеренной его жизнь можно назвать только условно – постоянная спешка, операции всех степеней сложности, административные хлопоты, которые он больше всего не любил. А приходится… Главный врач районной больницы – это тот козел отпущения, который во всем виноват, от которого все чего-то требуют: и больные, и медицинский персонал, и районное начальство, и, главное, родственники больных. Новая аппаратура, лекарства, перевязочные материалы, даже уголь для отопления, продукты питания – все это касается главного врача в той или иной форме. Хотел бы он знать, как там без него в больнице, не случилось ли чего чрезвычайного, пока он отсутствовал, пока раскатывал по Карельскому перешейку на своем «Москвиче».
Кстати, для «Москвича» надо будет доставать новую резину, как приедет, – это тоже нелегкое дело…
И с дочерью надо что-то предпринимать.
Девка неплохая, умная, но поклонников нет, сидит вечерами дома или ходит с матерью в кино. Ездит на электричке в город, в институт, возвращается всегда одна. «Чего это тебя никогда никто не проводит, ты не стесняйся, мы же не против, если кто к тебе зайдет. Пожалуйста, в холодильнике всегда найдется чем накормить лишнего человека». Это он, отец, сказал. А дочь ответила: «Интересно, кто это потащится провожать за город. Теперь таких рыцарей нет». Конечно, может, он, как отец, ошибается, ему-то кажется, что дочь хорошенькая – прическа то да се, наряды, руки-ноги на месте. Правда, изюминки в ней нет, но и в Ане, в ее матери, изюминки не было. Есть зато доброе сердце, энергия, честность. С другой стороны, вряд ли ему бы понравилось видеть свою дочь вот так у костра, с голыми ногами, с молодыми людьми, у которых дома жены. Ну, а если она весь век просидит одна, возле папы и мамы? Может, пусть поедет на Север или в Братск, где большая стройка? Там, в тех краях, много хороших, отважных, настоящих людей. Правда, и бродяг много… А что он может поделать, отец? Не станет же зазывать в гости холостяков, знакомить их с дочерью, сватать. Этого только недоставало. В конце концов, замужество еще не гарантия, что человек будет счастлив. Уж как Тихон был влюблен в Надю. И как преданно Надя любила Тишку. А вот, пожалуйста!.. Может, лучше жить просто, как они с Аней, без любовных драм и трагедий, без необыкновенных высоких чувств. Нельзя придавать такое уж большое значение любви. Современный человек знает еще много других чувств – долг, работа, дружба…
Дружба – прекрасная вещь. Он говорил это всегда и будет всегда повторять. И если ему не спится, если тревожат мысли, так это потому, что Надя, друг его, была вчера так печальна. А что удивительного? Он-то возвращается к семейному очагу, а Надя…
И он снова и снова взглядывал на Надю, укладывающую вещи в машину, и говорил добрым голосом:
– Вы только отдавайте распоряжения, доктор Милованова. Все будет выполнено, как вы пожелаете…
Она пожелала погулять у большого озера.
Казалось, они уже столько дней бродят по лесам и лесным опушкам, по лугам, видят небо над головой, ощущают запах хвои, а похоже, не было еще такой высокой густой синевы, как здесь, не было такого чистого запаха листьев и разнотравья, не такие шелковистые, как здесь, зеленые космы свисали с ив.
Яковлев даже остановился и закрыл глаза:
– Не просыпаться бы…
Надя с благодарностью посмотрела на него.
Она была очень тихая сегодня, очень скромная, даже волосы взбила не так высоко, как обычно.
Странно устроен человеческий глаз. Когда Яковлев встретил Надю на автобусной остановке около станции, то даже не узнал, сердце его болезненно сжалось при виде морщинок у Надиных глаз, когда она наклонилась к окошечку машины, а теперь он привык и уже не замечал морщинок, а видел ту, прежнюю, юную Надю Милованову.
Они тихонько шли по тропинке. Холмы и прогалины между холмами были покрыты свежей изумрудной травой, и каждое дерево, каждый куст красовались в полном расцвете, не тронутые зноем. Вокруг было очень тихо.
– Как хорошо, что мы заехали сюда…
– Я ведь сказал: все, что пожелаешь…
– Сегодня ты добрый…
Яковлев спросил обиженно:
– Разве я бывал недобрым с тобой, Надя? Не ожидал от вас такой черной неблагодарности, доктор Милованова, считал вас образцом справедливости.
– А я и есть справедливая.
– Да, к Тихону ты относилась даже больше чем справедливо.
Надя тронула его руку:
– Не надо о нем, хорошо?
Он извинился:
– Прости…
– Сегодня все прекрасно, все необыкновенно прекрасно, договорились?
– А сегодня и в самом деле все прекрасно.
Когда они спустились к берегу, озеро открылось им в своей нежной необъятной синеве, только мелькали на гладкой поверхности золотые вспышки, когда ветерок шевелил воду.
– Я стал ближе к природе за этот месяц, – сказал Яковлев. – Что-то новое открылось моей душе, а может, и не открылось, а очистилось, высвободилось… В войну много стояли в лесах, но тогда было не до природы… а я с детства любил лес, небо…
– Мне часто снилось, что я летаю, а тебе? – спросила Надя.
– Редко…
– Мне и теперь иногда снится. Тихон считает, – сказала Надя, хотя просила сегодня о нем не вспоминать, – что я люблю фантазировать, заноситься за облака.
– Это именно то, что мне в тебе нравилось и нравится… Черт побери, я именно люблю людей, которые умеют взлетать за облака!
– Ох, никуда я не взлетаю, какие уж там облака! – усмехнулась Надя. – Верчусь как белка в колесе и на работе, и дома… Но бывают дни, когда правда немыслимо ходить по земле… – Вот тут она и сказала впервые: – Сегодня – день счастья… Это озеро я беру себе, ладно? Оно теперь мое – навсегда…
– Бери, мне не жалко, – пошутил Яковлев. – И вот те далекие берега, и коса, которая стрелой вдается в озеро, вон где купаются, – все твое…
– И ты себе выбирай, что понравится. Я тебе подарю. Хочешь иву? Высокую?
– Хочу ту, что над самой водой.
– Бери.
Они пошли к машине, немножко стесняясь того, что расчувствовались, умеряя, приглушая шутками и иронией свою чувствительность, которая в их возрасте могла показаться манерной и смешной, если бы не была такой искренней.
Какой-то любитель фотографировал озеро, и берег, и кусты, окаймлявшие берег, он и на Яковлева с Надей нацелил фотоаппарат, как будто они были частью пейзажа. Яковлев, как мальчик, стал канючить, просить прислать снимок. Записал свой адрес, предлагал деньги на марки. Любитель пообещал.
– И ты веришь? – спросила Надя, когда они уже сидели в машине.
– Верю, – ответил Яковлев. – Я вообще верю людям. И должен сказать, не так уж часто меня обманывали. Очень бы мне хотелось иметь этот снимок. Прекрасная местность, озеро, может получиться чудесный кадр. – И добавил: – И ты на снимке…
– Ну уж…
– Нет, нет, мне очень, очень приятно, что ты на снимке вместе со мной.
– Как я буду теперь жить, – сказала Надя не то со смехом, не то с печалью. – Без тебя… без твоего «Москвича», без этих лесов…
– Не надо было тебе спасать Тишку, – тоже как будто шутя, а может, не шутя, упрекнул ее Яковлев. И повторил то, что уже сказал когда-то Ане: – Ты в него влюбилась, как скульптор в свое произведение.
Надя ответила с вызовом:
– Я не жалею об этом.
– Жалеть вообще ни о чем не следует…
– Ну, это уже фатальное отношение к действительности…
– А что? Чему быть, того не миновать.
Они проехали поселок, свернули на шоссе. Шоссе ремонтировали и расширяли, тяжелые катки утрамбовывали дорогу, пришлось объезжать.
– Не верится, что здесь так близко была линия фронта, – сказала Надя, – не верится, что была война. Но мы-то помним, Леша… – Она поколебалась: – Как бы там ни случилось потом, но разве я могу забыть, что Тихона встретила на войне? Или что служила вместе с тобой. Это что-то такое большое, больше, чем братство, родство, чем просто дружба, это – особая близость.
Яковлев хотел ответить, что не мешало бы и Тихону про это помнить, но сдержался. Только вздохнул. Она догадалась.
– Не надо его осуждать. Ну, влюбился, и что? Был бы только счастлив… – И, как будто передачу переключила, стала говорить о другом – какой чудный день сегодня, как им интересно сегодня… Ну вот они и приехали, вот еще одно озеро. Глубокое, темное, почти черное.
– Нет, мне хватит одного…
– Это более бурное. Смотри, какая волна.
– Раз выбрала, то, значит, выбрала.
Ветер совсем растрепал ее прическу. Она руками придержала волосы, как будто схватилась за голову. Но когда Яковлев посмотрел на нее, встревоженный, Надя улыбнулась:
– Спасибо, Леша, что прислал телеграмму. Спасибо тебе за все опушки и кустики, за синюю эту зыбь, за ясный твой характер, за доброту…
Яковлев смутился:
– Мои подчиненные вовсе не в восторге от моего характера.
– А больные?
– Больные вроде любят, но это такой народ – то любят, то обижаются. Я же не бог, исцелять одним прикосновением перстов не умею… И все-таки жаль, Надюша, что ты забросила хирургию.
– Что уж теперь говорить! – Она снова попросила: – Ты не критикуй меня сегодня, доктор Яковлев. Поверь, никто не критикует меня так резко, как я сама.
– Есть не критиковать. Двинулись?
– Пора! Прощай, синее озеро!
И снова замелькали перед машиной обочины шоссе. Из окна встречного автобуса помахала им ладошкой маленькая девочка. Промчался велосипедист в ярком картузике. Прокатил на мотоцикле милиционер. Девушка в резиновых сапогах вела куда-то понурого коня. Качались, как на качелях, на телеграфных проводах сороки, чистили клювами свои белые жилеты. И снова леса, леса, дубравы, березовые рощи, деревни, маленькие городки, шлагбаумы, переезды…
Справа тянулось побережье, слева карабкались в гору поселки. Море слепило. Меж валунов и камней билась у берега, рассыпаясь пеной, желтая, янтарная на солнце вода. Оставив машину, они то спускались к самой воде, окунали руки в холодную пену, то карабкались обратно по горячему песку, цепляясь за узловатые корни сосен, к разогретому асфальту шоссе, где стоял «Москвичок». Выпили кофе в стеклянном кубике прямо над морем, пообедали в роскошном ресторане с изображением оленя на фасаде, сидели там на деревянных скамьях с высокими спинками, робея перед вальяжным безразличным официантом в вишневой нейлоновой форменной рубашке с бантиком-бабочкой. Яковлев раскошелился: заказал салат, оленину, мороженое. Вина выпить не мог – за рулем. Подошел метрдотель, белокурый, элегантный, в сером пиджаке с разрезами, любезно спросил: «Вас уже обслуживают?» Яковлев еще больше растерялся, а Надя шепнула: