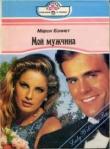Текст книги "Осенним днем в парке"
Автор книги: Матильда Юфит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
Абрамов молча выложил на стол две карточки. Я тоже бросила козырный туз – Сашу в пушистом свитере, с очаровательными ямочками, с черной кошкой на руках.
Мы все трое молча смотрели на снимки.
– Люблю детей, – сказал Самарин.
Я невольно скосила глаз на портрет той самой белокурой Люси, которую он встречал на вокзале. Почему она вышла за Жолудева, а не за него?
Перехватив мой взгляд, Самарин смутился:
– Это память, вместе служили.
Позже мы вышли немного погулять.
Луна-пробилась сквозь поток облаков, и сразу смутно обозначились ряды уходящих вдаль палаток, выступы стен, «грибы», щиты для газет – и все это, отбрасывая тени, исчертило плац путаницей светлых и черных угловатых пятен, придающих пейзажу таинственный облик. Высокие одинокие тополя, казалось, вытянули своими глубокими корнями все соки из этой небогатой, черствой земли. Тени простирались наискось, будто на лагерь упали срубленные деревья. А там, где из лопнувших почек упрямо лезли веселые жгутики листьев, тонкие ветки, высветленные луной, плели замысловатую, непрочную, хрупкую вязь.
– Да, человек предполагает… – сказал Абрамов. И пожал плечами: – Не надеялся я встретить эту весну в Средней Азии…
Самарин зашептал, временами сбиваясь на доверительное «ты»:
– Зато приобретешь опыт. Технику ты знаешь, грамотный, теперь осваивай преподавание. Хочешь стать настоящим командиром – изучай людей. Состав разный: один боец горячий, другой нервный, третий хладнокровный. Который совершенно нервный – на того сразу не наседайте, дайте остыть, потом подойдите снова. Вникайте, что у бойца на душе.
Облака разошлись, луна стала ярче. Поднимаясь, она отвоевывала у темноты землю. Как огромный серебряный поднос с чернью древнего узора, открылся простор степи с редкими купами деревьев и низкого кустарника, с громадами горных цепей, с чертой горизонта.
Самарин в рассеянности несколько раз потянул потухший окурок, потом бросил и сказал, затаптывая его каблуком:
– Душа – это все. Без души и любви настоящей не бывает, верно я говорю?..
Абрамов усмехнулся, кривя угол рта.
– Ведь должна быть у человека хоть раз в жизни настоящая любовь! Правда, должна? – опять спросил Самарин.
– У меня была. – И вдруг молчаливый Абрамов заговорил с горячностью, с болью: – Я даже не понимал раньше, какая у меня жена… Одержимая, настойчивая… Не поверите, цветы у нее в палисаднике и те росли лучше, чем у соседей… а училась как… она в пединституте училась. Днем позвонила мне на работу: «Саша, я заболела, вызывай скорее врача». А я даже с работы не мог уйти, мы номер делали. Через два дня – все, конец… Не уберег. Не смог спасти.
– А дети? – сразу же спросил Самарин.
Абрамов зябко передернул сутулыми плечами:
– Дети? Я жене дал слово никогда не оставлять детей, жить, как при ней. И жили бы, но война…
– Детей очень жалко, – сказал Самарин.
– Что делать? Не мы одни.
Уже потом, со своей терраски, я слышала, как за стенкой Абрамов, взбивая тощую подушку, сказал:
– Когда я получил назначение, то заезжал по дороге к девочкам на три часа, от поезда до поезда. Маленькая уцепилась за мой рукав и молчит. Хоть бы плакала или жаловалась, а то дрожит и молчит…
– На все один ответ, – почти выкрикнул Самарин. – Надо, надо бить Гитлера! На все ответ один. Надо его, мерзавца, бить!
Я слышала, как он мерил шагами тесное пространство комнаты, потом шаги стихли, и он сказал проникновенно:
– Однако, на мой взгляд, политработа бы вам больше подошла.
– Э, нет! – обиделся Абрамов. – Воевать – так в строю. – И добавил: – Вы не думайте, что я слюнтяй. Это я сегодня раскис. А в училище был веселый, даже в самодеятельности участвовал.
Вскоре Самарин погасил свет, в комнате стихло. И вдруг он сказал:
– Меня давно уже никто по имени не называл. Все по фамилии – Самарин или лейтенант. А чтобы Колей – нет, никто…
– А эта вот, что на портрете, Люся… разве не называла?
– Люся? А вы ее знаете?
– Все-таки тесно на земном шаре, – сказал Абрамов. – Случайно знаю… Мать ее в нашем доме живет. Если Люся такая же, как девочкой была…
– А что? Разве плохая?
– Не то чтобы плохая, а какая-то нетерпеливая. Конфету дашь – смотрит, у кого лучшая. В книжке сразу хочет знать, хороший ли конец. Взрослой я ее уже почти не встречал, так что ничего сказать не могу, но мать хвалилась, что Люся вышла замуж, кажется, за полковника…
– За капитана, – поправил Самарин. И сказал горячо: – Из Люси хороший человек получился бы, замечательный, но характер у нее уступчивый, мягкий, она… – Он вдруг замолчал, оборвав на полуслове, и только предложил: – Пора спать, вы ведь с дороги…
Люся встретила меня удивленно:
– Вы к Жолудеву? Он в штабе.
Я придумала причину – будто распоролся шов на юбке, а у нее, мне сказали, есть швейная машина. Она неловко посторонилась и впустила меня в большую комнату, щедро расписанную букетами роз. В Средней Азии это принято.
Потом я сказала, что пишу о Самарине для газеты и хотела бы ее кое о чем расспросить.
Она испугалась:
– Но почему меня?
– Из старожилов полка почти никого не осталось.
Бархатное одеяло на кровати, накрахмаленный до жесткости тюль на окнах, подогнанные один к одному, тесно-тесно цветы в баночке – все это настраивало меня против Люси. И сама она держалась странно, смущенно.
Как только я заговаривала о Самарине, она начинала нервничать, словно не знала, как заглушить давнее беспокойство. Но я ее не жалела.
– Вы старые друзья?
– Ну конечно, поскольку я работала в полку.
– И только?
– Ну, проводили время вместе, – как бы уступила мне Люся. – Он ведь чудак. Он очень добрый… все готов отдать людям…
– Так это ведь хорошо!
– Для людей хорошо, а для него… – Люся пожала плечами: – У него никогда лишней рубашки не будет.
Она взяла со стола кусок полотна и стала аккуратно подрубать – видимо, готовила пеленки. Потом сказала совершенно неожиданно:
– Вам бы понравилось, если бы над вашим ухажером смеялись? А над ним все смеялись. Шурик меня прямо у него из-под носа увел, а он ничего не замечал, считал его своим другом.
Она ожесточенно вспоминала «глупые выходки» Самарина, как будто хотела доказать и себе и мне, что поступила правильно, выбрав в мужья Жолудева.
Она сказала не без гордости:
– Шурик очень недоволен, что Самарин мое фото на столе держит. Но при чем здесь я? Я же не прошу. И на вокзале он меня встречает. Вот вы сами видели…
К ее беленькой детской мордочке, к кудряшкам так не шли тяжелый живот, пятна на лбу, распухшие губы.
– А вам он никогда не нравился?
– Что уж теперь толковать, теперь уж это все равно… – Она сложила пеленку, разгладила рубец и спросила: – А у вас есть дети?
– Сын…
– Очень это страшно? Вы боялись?
– Все боятся.
Она открыла комод, вытащила стопку распашонок, свивальников, пеленок – все вышитое, обвязанное цветными нитками.
– Ваш сын на кого похож? На отца? Я бы хотела – на Шурика. Правда, он интересный?
Она как-то неуверенно предложила мне чаю, поставила на стол пиалы и варенье. Поколебавшись, вытащила еще вазочку с орехами и щипцы.
Мы стали колоть орехи.
Когда вошел Жолудев, то первое, что он сделал, это нагнулся и поднял скорлупку, свалившуюся со стола на пол. Люся вскочила, начала прибирать. Жолудеву, видно, очень хотелось знать, что я здесь делаю, но он не спросил, только осведомился:
– Подвигается ваша работа? Нашли героическое в нашем Самарине?
– Нашла. Завтра я уезжаю. – Я усмехнулась: – Сможете поселить к Самарину нового жильца…
Он тоже засмеялся – видимо, над безропотностью Самарина.
Наступила та неприятная пауза, когда всем хочется поскорее расстаться и никто не знает, как бы это половчее сделать. Я в таких случаях всегда теряюсь – чем больше хочу уйти, тем дольше сижу.
– Поужинайте с нами, – пригласил Жолудев. И посмотрел на часы.
Не зная, что сказать, я вспомнила:
– Да, этот новый командир, Абрамов. Оказывается, он сосед вашей мамы, Люся. Вы его помните, да?
– Он здесь? Ой, что вы!.. – Люся заволновалась. – Я к ним книги всегда бегала брать. Какая у него хорошая жена была, вы бы знали! Она умерла. Шурик, надо его пригласить, да?
Жолудев посмотрел на меня и ответил специально для меня:
– Принципиально не нахожу возможным путать служебные и личные отношения. Мало ли кто был твоим соседом! Здесь он младший лейтенант.
Люся сникла.
– Я у них книги всегда брала, – опять зачем-то сказала она. – И «Хижину дяди Тома», и Толстого, и Фадеева…
Ужинать я не стала, но с любопытством смотрела, как вертелась Люся, подавая мужу еду, как он морщился, как требовал то соли, то красного перцу, то спичку – поковырять в зубах.
Но когда Люся захотела меня проводить, накинув платок на плечи, он вдруг забеспокоился, что холодно, и стал настаивать, чтобы она надела новое коверкотовое пальто. Он даже распахнул дверцы шкафа, чтобы, я увидела, как у нее много платьев.
Мы вышли на крыльцо, она дошла со мной до калитки и остановилась.
– Я вернусь. Может, Шурику что понадобится… Он без меня ничего не найдет. – Она вдруг спросила: – Неужели это возможно… что Самарин… что он все еще…
– Любит вас?
– Мы когда встречаемся, то я все смеюсь, шучу, держу себя как когда-то. Только с ним и держу себя как когда-то… – с болью сказала она. – А так я переменилась, совсем другая стала, не такая смелая. – Она оглянулась и шепотом, как будто ее мог услышать в доме муж, добавила: – Я иногда думаю: а какая бы я стала, если бы за Самарина вышла?.. Ну, ничего, появится ребенок – все забудется… А может, умру родами, тогда никому не обидно…
Она пошла к дому. Пальто зацепилось за калитку, она с силой рванула полу, позабыв, должно быть, что это новое пальто.
…Так я и не знала, что записать в тетрадь о Люсе, не знала, что о ней думать. И Абрамову не могла объяснить, какое же впечатление на меня произвела Люся.
– Неужели такая загадочная натура? – удивился он.
– Иногда мне кажется, что все натуры загадочные…
– Очевидно, вы никогда не играли в шахматы… просто есть большое количество комбинаций.
Я попыталась отшутиться:
– Будь я богом, всех женщин сделала бы счастливыми…
– Но у каждого свое представление о счастье…
– Все-таки – когда тебя уважают, когда ты остаешься сама собой. Она как побитая собачонка, эта Люся, и радуется, что есть хозяин…
Абрамов стоял у окна, я сидела за столом в их комнате. И так странно было, что я у черта на рогах, в Средней Азии, в резервном полку, в чужой комнате, обсуждаю чужие любовные дела.
Абрамов еще что-то говорил, усмехаясь, я даже не слушала. Тогда он спросил:
– Значит, Люся окончательно вам не понравилась?
– Совсем не то. Просто мне еще больше понравился Самарин.
– Почему, хотел бы я знать?
– Потому, что с ним даже эта Люся была бы другая… не знаю, понятно это?
– Мне понятно…
Мы снова заговорили о газете, и чем больше и искреннее Абрамов говорил, как он рад, что оказался в полку, а не в редакции, тем больше я чувствовала, как он любит газетную работу, редакционную атмосферу, суету, гренки, спешку. Даже в информации, в репортаже он находил свою прелесть. И возмущался, что областная газета верстается хуже, чем было при нем.
– Почему же вы не попросились в газету?
– В тыл?!
– Можно во фронтовую…
– Потому что сейчас не время искать дело по вкусу. Надо выбирать то, что опаснее…
Можно было возразить, что гораздо правильнее делать то, что ты можешь сделать лучше других, быть там, где ты полезнее. Но я понимала, что Абрамова мне сейчас не переспорить.
Передо мной все еще стояла Люся, я все еще видела, как она бежит от калитки, исступленно дергает полу пальто. Нет, она не забыла Самарина. И не забудет. И чем дольше будет жить с Жолудевым, чем больше будет цепляться за него и гордиться его внешностью и успехами, тем нежнее будет вспоминать Самарина с его белесыми бровями, скромностью и щедрой душой.
Я так расчувствовалась, что, когда Самарин вошел, щелкнул выключателем и спросил: «Что же вы сидите в темноте? Сейчас будем чай пить…» – ответила:
– Там, где вы, всегда свет… и тепло… и чай… – И почти огорошила его: – Можно пожать вам за это руку?
Он покорно протянул руку, чуть побледнел и сказал торжественно, верный себе:
– Это рукопожатие я рассматриваю как символ дружбы…
Хотя совсем недавно я сделала на редакционной «летучке» сообщение «Что такое очерк», мое сочинение о Самарине не получалось. Давил материал. На «летучке» я утверждала, что надо умело отбирать детали, именно те, что работают на основную идею очерка, теперь мне жаль было расстаться даже с самой пустяковой, мелкой подробностью. А их было слишком много.
Но задание есть задание. И очерк я написала.
Секретаря редакции насторожило прежде всего название.
– Позвольте, – тыча карандашом в мою рукопись, недовольно спрашивал он, – в чем же метод? Что это еще за индукция?
– Это метод исследования от частного к общему…
Секретарь покраснел. Он был молод и очень самолюбив. Широкие брови поднялись над его круглыми глазами как две арки:
– Я спрашиваю, в чем состоит метод вашего Самарина…
– Но я же пишу об этом. Его воспитательный метод состоит в любовном, правдивом подходе к людям.
– Здрасте, я ваша тетя! – сорвался секретарь. Но сразу же заявил официально: – Это метод нашей партии, и я не вижу причины для возвеличивания…
Я держалась кротко, потому что не знала, как же ответить на вопрос. Действительно, а в чем сущность, в чем особенность самаринского метода?
– Придется поехать еще раз и доработать. Материал в общем интересный, поучительный. Он что, на самом деле такой хороший парень, этот Самарин?
Как только наш секретарь забывал, что в военной газете надо держаться строго и соблюдать субординацию, он становился простым и симпатичным. Тем не менее я не рискнула сказать, что не хочу ехать. Со дня на день я дожидалась вызова в Москву.
Предстояло немало трудного: достать билеты, уложиться, продать ненужные хозяйственные вещи, которыми мы здесь обзавелись. На семейном совете решили обязательно сменять шерстяной отрез на муку и рис. Все-таки страшновато с ребенком в голодной Москве.
Меня терзали сомнения – не рано ли едем?
А ехать надо. Тоска по Москве, по дому очень сильна. Просто немыслимо больше ждать.
И все-таки мне очень хотелось, чтобы материал про Самарина напечатали. Тем более что в работе редакции наступило оживление. Назначен новый заведующий отделом боевой подготовки, майор, раненный под Москвой. И принят литсотрудником еще один фронтовик-красноармеец, выписавшийся из госпиталя, бывший московский критик. В отделе мне обещают полное содействие – если надо, то целую полосу, со снимками, с рисунками. «Только скорее, скорее давайте свой очерк!»
Однако обстоятельства сложились так, что я попала в полк, где служил Самарин, не скоро.
Стояла жаркая, уже летняя погода. С рассвета небо заливало огнем, и некуда было спрятать глаза от нестерпимого солнечного блеска. Все пошло в буйный рост – и травы, и цветы, и листва. Деревья надели мохнатые шапки, солнце не пробивало их, и тени ложились на землю темными кругами.
Подразделение Самарина было на занятиях. Кривошеин сказал мне, что теперь работают еще больше, чем раньше, так как в связи с напряженной обстановкой на фронте сроки обучения могут сократиться.
Я пошла на полигон. Да, отголоски жарких сражений докатывались и сюда, на эти пустыри, стоило только взглянуть на обуглившихся солдат, на их задубевшие гимнастерки. И Самарин был совсем другой – загорелый, с пересохшими губами.
А Черенкова я едва узнала – так он возмужал.
Каким далеким казался тот день, когда бойцы вышли впервые на этот полигон и на орудие смотрели с уважительной опаской, как на слона в зоопарке! Теперь это были слаженные орудийные расчеты – наводчики, заряжающие, правильные, замковые, подносчики снарядов, номера первые, вторые, третьи…
Толковый и расторопный Лобков уже стал прекрасным наводчиком. Да и весь расчет подобрался крепкий…
Самарина понимали с полуслова. Он неуклонно добивался точности и быстроты в движениях.
– Не только быстрота, – а она решает в бою, – мы должны иметь полную взаимозаменяемость номеров, – толковал он мне. – Скажем, замковый должен заменить в нужную минуту наводчика, наводчик – заряжающего. Вам понятно?
Лобков прислушался, прищурил карие озорные глаза:
– Охота все же бить врага на практике, а не в теории…
– Вы его бьете пока своей учебой…
Похудевший Обух тихонько наклонился к Самарину и сказал:
– Как вам нравится на сегодня боевая обстановка?
Пока они обсуждали напечатанные в газетах последнее выступление Черчилля в палате общин и статью Ильи Эренбурга, я прислушивалась к разговорам солдат. Были минуты перекура. Худощавенький студент техникума собирал заметки для «боевого листка». Лобков, лежа на животе, писал письмо. Увлеченный, он крикнул студенту:
– Слушай, как там дальше? «Жди меня, и я вернусь…»
– «Только очень жди», – подсказал тот. – Ты своей дивчине пишешь?
Лобков ненатуральным голосом ответил:
– Не-е, это я сестренке письмо сочиняю. Она у нас любит лирику…
Флегонтьев сидел один в сторонке, набирал табачок из красной жестяной коробочки и смотрел на горы.
– Красиво, правда? – спросила я.
– Глаза б мои на эту глину не глядели!
– Но почему? Здесь растут виноград, урюк… земля щедрая…
К нам приблизился Самарин.
– Это не земля, это солнце щедрое, – ответил Флегонтьев. – Моей бы земле да такой согрев! Большие доходы можно иметь.
Самарина, видно, покоробило, что Флегонтьев сказал «доходы», а не «урожаи».
– Противник глубоко зашел на нашу землю, близко от твоей родины бои идут, а ты о доходе беспокоишься?
Флегонтьев, как рыба, открыл рот. Беспокойство мелькнуло в его глубоко посаженных глазах:
– Так неужели ж пустят немца в наши края?
– Ты что ж, не знаешь, где бои идут? Газеты-то вам читают?
– Газеты читают, – ответил Флегонтьев растерянно. – Газеты-то нам читают…
Неподалеку от Флегонтьева сидел, нахохлившись, Яцына. Он задумался и не сразу заметил, что подошел командир. Что-то кошачье, хищное было в его прищуренных глазах, в быстроте, с которой он выдергивал из земли и разрывал в пальцах жесткие травинки. Спохватившись, он вытащил из кармана коробку папирос.
– Угощайтесь, товарищ лейтенант, – предложил он. И на молчаливый вопрос командира ответил: – Мамаша посылку прислала.
Самарин взял папиросу.
– О чем это вы тут мечтаете?
– На фронт бы… Раз воевать, так воевать…
Самарин покачал головой:
– Для фронта нужна подготовка…
– Скука здесь, – пожаловался Яцына. И засмеялся: – На фронте, говорят, сто граммов в день дают, все веселее…
Самарин неодобрительно покачал головой.
Мы уже далеко отошли от Яцыны, а Самарин все еще держал двумя пальцами роскошный «Казбек» и не закуривал. Вид у него был сумрачный, задумчивый.
Но я все-таки рассказала, что в очерке понадобились переделки – необходимо точнее объяснить, в чем состоит метод.
– Подводит меня мой метод, – насупился Самарин. – Тот же вот Флегонтьев… Я по методу иду. Хочу, чтобы у него мозги сработали – от его собственного населенного пункта до понимания всей войны. Но что-то он не воспринимает… И вообще, – сказал он, – впереди туманная перспектива… На фронте теперь новая техника, наши учебные пушчонки по сравнению с ней – одна забава.
Он расспросил меня о домашних делах, но слушал без обычного интереса. Только усмехнулся, когда я рассказала, как Саша наговорил стишок:
Вот сегодня наконец
К нам вчера пришел отец.
– Я уже просил Абрамова хоть кое-что мне объяснить из высшей математики, – невпопад сказал Самарин. – Новая техника требует сложных вычислений…
Он вдруг заметил у себя в руке папиросу, с неудовольствием посмотрел на нее и спрятал. А вскоре Яцына подлетел еще раз с раскрытой коробкой.
– Добрая же у вас мамаша, – почему-то яростно ответил Самарин. И от папиросы наотрез отказался.
Самарин перенес вещи Абрамова в комнату, а я снова поместилась на терраске. Как будто все встало на свои места.
А все-таки я права: не стоит приезжать еще раз на то же место. Ибо, как говорит философ, нельзя дважды вступить в один и тот же поток. Мы все немного изменились…
Абрамова я видела мельком. Он был утомлен, издерган. Мешковатый и сутулый, он напоминал запаленную от непосильной натуги крестьянскую костлявую лошадь. Самарин сказал мне:
– Трудно ему. Навыка нет. Но ничего, добивается неплохих показателей…
Мы надеялись все втроем посидеть хоть часок вечером: ведь я приехала ненадолго. Но вечером, когда мы вернулись с полигона, явился Жолудев. Он, должно быть, не знал или забыл, что я тут же, за стенкой, что окно на террасу открыто.
Уселся, закурил, угостил Самарина табачком, за что-то, как всегда, поругал военторг, который, как это повелось на фронте, называл иванторгом. Потом, вероятно решив, что почва подготовлена, ткнул окурок в пепельницу и добродушно сказал:
– Слушай, чудак ты, честное слово. У тебя сапожник служит, мастер первого класса. – Он помолчал, выжидая, как будет реагировать Самарин, но тот не отзывался. Жолудев продолжал уже деловито: – Ты его на полигон гоняешь, а я хотел, чтобы он Люсе туфли сшил… И Мария Евдокимовна благодарна была бы…
– Тогда пусть командир части мне прикажет официально… поскольку его жена…
– Официально такие вещи не делаются…
Самарин упрямо молчал.
Жолудев критически посмотрел на неказистые брезентовые сапоги Самарина, потом перевел взгляд на свои, щегольские, сверкающие:
– Вот погляди, он мне сшил… Картинка… – и, как танцовщица, поставил ногу на носок.
– Мне и в этих хорошо, не так жарко…
– Глупый ты, Николай, – вдруг сказал Жолудев, даже с каким-то оттенком участия. – Ну, будешь ходить босиком, кому от этого польза?
И вдруг Самарин взорвался:
– А знаешь… знаете ли вы, товарищ капитан, что по роте пополз нехороший слушок? Яцына хвастался, что он, мол, нигде не пропадет, у него и здесь защита, и на фронт его не пошлют.
– Брехня, таких обещаний никто ему не давал, и он не такой дурень, чтобы хвастать.
– Этот Яцына написал домой письмо и обронил, а ребята прочли. И будут судить его своим солдатским судом, как мерзавца, по кодексу солдатской чести…
Он почти кричал. Жолудев встал. Самарин тоже.
– Не горячитесь, товарищ лейтенант, – посоветовал начштаба.
– Есть не горячиться!
Стараясь казаться спокойным, Жолудев опять вытащил курево. Самарин молча чиркнул спичкой. Жолудев обвел взглядом комнату и удовлетворенно сказал:
– А портрет ты все-таки убрал? Давно пора было.
– Так ведь лето, солнце, выгорит.
– Но все-таки убрал?
– Убрал…
– То-то же…
И Жолудев неторопливо, как будто победа осталась за ним, вышел.
А назавтра, на закате, состоялся товарищеский суд. Вынесли из ленинского уголка стол, покрыли красной скатертью. Кисель занял председательское место.
Яцына держался вызывающе: письмо, мол, не писал и не думал писать, командиры знают, сколько раз он на фронт просился.
– Вот лейтенант знает… Помните, товарищ лейтенант?.. И вот дамочка из газеты слышала…
Но Самарин молчал.
– Мою приверженность все знают, – уже чуть растерялся Яцына. – Я на заем подписался больше всех. Другой кто-то сочинил письмо, а я виноват?
И тут вдруг выступил вперед солидный Обух.
– Это верно, что Яцына больше всех подписался на заем, – сказал он. И не спеша развернул подписной лист: – Это ваша подпись?
– Моя! – Яцына повеселел. – Лично моя.
– Тогда обратите внимание, что под письмом та же подпись.
Подписной лист пошел по рядам. Поднялся смех.
– Его рука, факт…
– Такого плута мать сыра земля исправит…
– Птица опытная!
– Братики! – Яцына перешел на жалобный тон: – Как же так, братики? Вы же меня знаете! Разве я отказываю когда закурить? Или сахарку?
– А с чего тебе отказывать? – жестко сказал Кисель, и его добрые голубые глаза вдруг потемнели. – Ты мне сапоги починил – краюху хлеба с меня взял, не постыдился со своего брата солдата брать, а хлеб сменял у узбечки на черешню. И на махорку менял. Так или нет? Твоя махорка дешевая, это не наша солдатская пайка…
Яцына окончательно растерялся.
– Братики! – зашептал он, обращаясь то к одному, то к другому. – Я искуплю, я свою промашку искуплю на фронте… слово даю…
– Легкое твое слово, – гневно сказал Лобков. – Ты делом докажи, а не слезами. Москва слезам не верит…
…К Кривошеину мы явились некстати: к нему приехали в гости жена с сыном. Но он не отпустил нас. Счастливый, немного растерянный, в полосатой куртке от пижамы, он усадил нас за стол, покрытый чистой газетой. Стояла миска с пшенной кашей, сдобренной хлопковым маслом, – ужин из столовой – и хорошо поджаренная, с отблесками золота баранина, которую привезла Кривошеину жена. Сама она, такая же степенная, как муж, белая, дородная, уже немолодая, держалась незаметно и только как-то очень вовремя подвигала ближе помидоры или предлагала соль. А сын, черный, худой, верткий, изнемогал от желания вмешаться в разговор.
Кривошеин сиял, выглядел помолодевшим. Лихорадка его прошла, о болезни напоминали только набрякшие мешки под глазами, да на губах виднелись запекшиеся корочки от болячек.
Конечно, говорили о суде.
– Острая форма политической работы. Действенная, – похваливал Кривошеин, аккуратно разминая тусклой ложкой кашу. – Бойцы всегда более сурово судят, чем командир…
– Так что же, не верить людям? – кипятился Самарин.
– Верить надо, – возразил Кривошеин. – Надо только вглубь смотреть, в корень… И воспитывать надо… – Он повернулся ко мне: – Вот я даже про себя скажу… До войны общественной работой мало интересовался. А война мне всю душу перетряхнула. Я в армии вырос на три головы.
– Разве я этого Яцыну не учил, не воспитывал?! – с горечью сказал Самарин. – Я болею за каждого бойца, переживаю вместе с ним…
– Болеть и переживать – мало. Воспитание – это совокупность многих средств… Что, мать? – спросил Кривошеин у жены. – Много тебе му́ки с Дмитрием? Применяешь строгость?
Жена усмехнулась:
– У него уже барышня есть, а ты – строгость…
– Да ну? Извини, сынок…
Кривошеин любовно смотрел на жену, на угловатого сына, засопевшего от неудовольствия, и ласково тронул рукой его стриженую голову. Общий разговор стих.
– Митя, а на Ивана Васильевича похоронку прислали…
– Давно? – Кривошеин помрачнел. И пояснил нам: – Хороший человек, начальник цеха. Крупный специалист…
– Анна Ивановна к сестре уехала. Не захотела жить одна…
– Да, – Кривошеин побарабанил пальцами по столу. – Да… Что, мать, те липы, что в городском саду на субботнике сажали, растут? Как раз перед войной субботник был… Иван Васильевич рядом со мной копал…
– Липы большие стали, густые… – Жене хотелось порадовать Кривошеина. – Крышу, я тебе писала, починила, совсем не течет… А ты вот про малярию не писал мне, скрыл… Как не совестно!..
Кривошеин как будто извинился перед нами:
– Никак про свое домашнее не переговорим…
А мы сидели как завороженные, смотрели, как счастливы эти трое – мать, отец и сын… Самарин слушал с интересом, с любопытством. Абрамов, как на картину, смотрел на изработанные большие руки жены Кривошеина, бережно и ловко, чтобы не ронять крошки, нарезавшей клейкий, ноздреватый хлеб.
Ну как я могла сомневаться, нужно ли ехать домой? Конечно, нужно. Как угодно, лишь бы дома…
Я снова стала прислушиваться к разговору, когда Дмитрий, сын Кривошеина, истомившись от нетерпения, сказал, округляя глаза:
– Папа, а мы взятку дали…
Мать неодобрительно глянула на него, но он уже не мог остановиться. Видно, привык, что отец отвечает на все вопросы, разрешает все недоумения. Да, дали взятку, потому что не могли иначе попасть в поезд. Бутылку водки дали проводнику. И вообще много неправды есть, даже спекуляции… Мать нехотя соглашалась с ним, а Кривошеин только восклицал: «Ух, ты! Ну и дела!» Потом снова потрепал сына по голове, похвалил, что все подмечает.
– Ну, а трубы дымят? – спросил он.
– Какие трубы?
– Заводы работают?
– Ого, еще как! – сказал Дмитрий.
– Ну ничего. Пока, сынок, заводские трубы дымят, все, значит, хорошо… – И спросил у жены: – Мать, ты еще петь не разучилась? Может, споем, а?
Самарин хотел сбегать за своей гитарой, но в эту минуту явился вестовой из штаба и позвал его к Жолудеву.
– Ну, будет баня, – мрачнея, сказал Самарин и начал собираться. – Жолудев мне этого суда не простит…
– А ты воздействуй на него по методу индукции, – ехидно посоветовал Кривошеин. Самарин насупился. – Ну, ничего, сходи, выслушай. А потом мы и его самого на партбюро послушаем…
Мы посидели еще немного у Кривошеина и ушли к себе дожидаться возвращения Самарина. Абрамов нервничал, поминутно смотрел на часы и наконец сказал с сердцем:
– А наш бедный Коля все еще стоит навытяжку перед этой сволочью Жолудевым!
Я усмехнулась. И спросила словами Кривошеина:
– Но трубы дымят?
Абрамов промолчал.
– Но липы растут?
Я не могла бы толком объяснить, почему этот час, что мы провели в семье у Кривошеина, казался мне очень важным и нужным.
Тут вернулся Самарин. Красный, сердитый, молча бросил на стол планшет, молча сел на табуретку у стола.
– Влетело? – участливо спросил Абрамов.
– По первое число. Оказывается, он этого Яцыну обещал отчислить к какому-то интенданту в окружные мастерские. А я им всю музыку испортил. Командир части таких шуток не любит, он всю позолоту с Жолудева сдерет, если дознается… Тем более, он Марию Евдокимовну приплел… – Самарин с сердцем встал, отодвинул ногой табуретку. – Противно, ей-богу!
– Напиши рапорт командиру части, – посоветовал Абрамов.
– Неохота связываться, – ответил Самарин, отходя к окну. – У Жолудева жена беременная, скоро родить должна… Для нее это лишнее переживание…
Он стиснул голову руками.
Когда Абрамов ушел, Самарин вдруг сказал:
– Вы, конечно, давно догадались. Я за этой девушкой, за Люсей, которая потом за Жолудева вышла, ухаживал когда-то. Она мне даже карточку подарила, целовалась со мной, клялась… Но предпочла его… Да как! Сказала в самую последнюю минуту. Впрочем, он мужчина красивый…
– Для витрины в парикмахерской он бы весьма подошел…
Самарин удовлетворенно засмеялся:
– Теперь вы поймете всю затруднительность моего положения…
Тогда я спросила прямо:
– А почему вы спрятали ее снимок?
– Так, – ответил Самарин. – Просто так… Раз это было все ненастоящее, то и не надо… лучше совсем не надо… Это была слабость с моей стороны… – Он откашлялся. – Вы вот домой собираетесь. Рады небось?
– И рада, и страшно…
– Почему?
– Много воды утекло за эти годы…
Самарин задумался:
– Но у вас же сын…
– Ну и что? Сын и жена не одно и то же…
Самарин искренне удивился:
– Это же великое дело – семья. Я вот навещал жену Горлова. Работает на заводе, содержит детей, а в комнате чистота, занавески, картинки.
– Вы прелесть, Самарин. Если бы дело было только в картинках…
Мы неторопливо шли по лагерю. Самарин проверял караульные посты. Около орудия как ни в чем не бывало, положив голову на ствол, как на подушку, сладко спал Флегонтьев. Самарин потрогал его за плечо. Флегонтьев пробормотал во сне «чего?» и сразу же вскочил, протирая глаза, испуганный яростью, с которой Самарин рванул у него из рук винтовку.