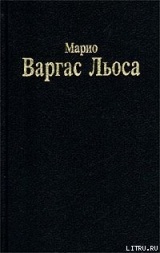
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Я тоже, – без промедления отозвался Сантьяго. – Иначе и быть не может.
Они снова зашагали, задавая друг другу вопросы по билетам, но иногда вдруг отвлекались, начинали разговаривать просто так, спорить, убеждать, соглашаться, шутить, и время летело незаметно, и вдруг раздалось: Савала Сантьяго! Ни пуха ни пера, улыбнулась ему Аида, вытяни легкий билет. Он пересек двойной кордон абитуриентов, вошел в аудиторию, но ты не помнишь, Савалита, какой билет тебе достался, не помнишь ни лиц экзаменаторов, ни того, как отвечал, но вышел ты довольный собой.
– Обычное дело, – говорит Амбросио, – девочку, что вам приглянулась, запомнили, а остальное как смыло.
Все нравилось тебе в тот день, думает он. И этот дом, который, казалось, вот-вот рассыплется от старости, и черные, или землисто-бледные, или красноватые лица поступающих, и насыщенный тревожным ожиданием воздух, и все, что говорила Аида. Ну, как ты, Савалита? Это было похоже на первое причастие, думает он.
– Да-а, к Сантьяго-то на конфирмацию пришел, – надулась Тете. – А ко мне – нет. Ну и пожалуйста. Я тебя не люблю больше.
– Ну-ну, дурочка, не говори глупости, поцелуй-ка меня лучше, – сказал дон Фермин. – Наш мальчик стал первым учеником, были бы у тебя отметки получше, я бы и на твое причастие пришел. Я вас всех троих люблю одинаково.
– Ничего подобного, – заныл Чиспас. – Ты и у меня тоже не был.
– Ну, хватит, хватит, вы этой сценой ревности окончательно испортите ему праздник. Хватит чепуху молоть, садитесь в машину, – сказал дон Фермин.
– В «Подкову», ты обещал молочные коктейли и хот-доги, – сказал Сантьяго.
– На Марсово Поле, там поставили американские горки, – сказал Чиспас.
– Сантьяго у нас сегодня герой дня, – сказал дон Фермин, – уважим его пожелание: как-никак – первое причастие.
Он вылетел из аудитории, не чуя под собой ног, но прежде, чем успел подойти к Аиде, на него – отметки сразу ставят? как спрашивают? – ринулись поступающие, а она встретила его улыбкой: по лицу поняла, что все прошло хорошо – вот видишь, все прошло хорошо, и стреляться не надо.
– Когда тянул билет, взмолился про себя: душу заложу, лишь бы повезло! – сказал Сантьяго. – Так что, если дьявол существует, мне прямая дорога в пекло. Но цель оправдывает средства.
– Нет ни дьявола, ни души, – ну, поспорь, решись! – А будешь целью оправдывать средства – станешь нацистом.
– Она возражала по любому поводу, она спорила из-за всего на свете, словно бес в нее вселялся, – говорит Сантьяго.
– Знавал я таких, – говорит Амбросио, – есть такая порода баб: ты ей – стрижено, она тебе – брито. Ты – брито, она – нет, стрижено. Хлебом не корми, дай поспорить. Но кое на кого это действует, разжигает, а им того и надо.
– Конечно подожду, – сказал Сантьяго. – Ну что, погонять тебя еще?
Персы и греки, Карл Великий, ацтеки, Шарлотта Корде[25]25
Шарлотта Корде (1768-1793) – французская дворянка, убившая Жана Поля Марата, одного из вождей Французской революции.
[Закрыть], внешние причины распада австро-венгерской империи, даты рождения и смерти Дантона; ни пуха ни пера, к черту. Они вернулись в большое патио, сели там на скамейку. Вбежал мальчишка, выкрикивая название газет, и юноша, сидевший рядом, купил «Эль Комерсио» и тут же воскликнул: ну, это уж слишком! Они взглянули на него, а он показал на фотографию усатого мужчины и крупные буквы заголовка. Ну что, его схватили, убили, выслали? И кто это? Вот, Савалита, там ты впервые и увидел Хакобо, щуплого и рыжего, со светлыми неистовыми глазами. Тыча пальцем в газетные листы, срывающимся от возмущения голосом он твердил, что Перу катится в пропасть, и горский выговор странно не вязался с его молочно-белым лицом, пальцем коснется – гной прольется, как говорила Гонсалес Прада, которую он иногда издали, а иногда совсем близко видел на улицах квартала Мирафлорес.
– А-а, тоже из этих? – говорит Амбросио. – Сан-Маркос – прямо какое-то гнездо смутьянов, мать их.
Да, тоже из этих, из чистых мальчиков, думает он, взбунтовавшихся против цвета своей кожи, и против своего класса, и себя самих, и Перу. Сохранит ли он свою чистоту, станет ли счастлив, думает он.
– Их там было не так уж много, Амбросио. Это чистая случайность, что мы все трое нашли друг друга в первый же день.
– Недаром вы своих дружков по Сан-Маркосу домой-то не водили, – говорит Амбросио. – Зато вот Попейе и другие ваши одноклассники от вас не вылезали, все чай пили.
Ты стеснялся, Савалита, думает он. Ты не хотел, чтобы Хакобо, Эктор, Солорсано видели, где и с кем ты живешь, не хотел, чтобы они видели сеньору Соилу и слышали дона Фермина, чтобы Аида выслушивала очаровательные пошлости Тете. Или все наоборот, думает он: ты не хотел, Савалита, чтоб родители знали твоих сокурсников, чтобы Тете и Чиспас вглядывались в широкоскулое лицо полуиндейца Мартинеса? Вот в тот самый свой первый университетский день ты и начал убивать родителей, и Попейе, и весь Мирафлорес. Ты порывал с ними, Савалита, ты уходил от них совсем в другой мир. Да с чем ты порывал, куда ты уходил? – думает он.
– Когда я заговорил с ними про Одрию, они поспешили убраться. – Хакобо показал на кучку удалявшихся абитуриентов, потом взглянул на Сантьяго, на Аиду с любопытством, без всякой насмешки. – Вы тоже, наверно, боитесь?
– Мы боимся? – яростно вскинулась Аида. – Я говорю, что Одрия – диктатор и палач, и могу повторить это здесь, и на улице, и где угодно.
Она была чиста, как те девушки из «Камо грядеши»[26]26
«Камо Грядеши» – исторический роман Генрика Сенксвича.
[Закрыть], думает он, ей не терпелось спуститься в катакомбы, выйти на арену, отдаться на растерзание клыкам и когтям римских львов. Хакобо слушал ее растерянно, а она забыла про экзамен: диктатор, который пришел к власти на штыках! – и говорила все громче, и размахивала руками, и я поглядывал на нее с симпатией, – который разогнал все партии и задушил свободу слова, – и даже, пожалуй, с восхищением, – который велел своим приспешникам устроить резню в Арекипе, а теперь замучил, посадил, выслал неизвестно даже скольких людей, – а Сантьяго смотрел на нее и на Хакобо. И внезапно ты почувствовал, Савалита, что это тебя предали, замучили, изгнали, думает он. За всю историю Перу не было у нас правителя хуже, вдруг прервал он Аиду.
– Ну, я не знаю, было или не было, – сказала она, переводя дыхание, – но он один из самых мерзких.
– Подожди немного, он еще себя покажет, – горячо настаивал Сантьяго, – тогда увидишь, что равных ему нет.
– Все диктатуры в историческом плане стоят друг друга, – сказал Хакобо. – Кроме диктатуры пролетариата, конечно.
– А ты знаешь, чем апристы отличаются от коммунистов? – говорит Сантьяго.
– В том-то и дело, что ждать нельзя, нельзя позволить ему стать худшим правителем Перу, – сказала Аида.
– А как же, – говорит Попейе. – Апристов много, а коммунистов – кот наплакал. Вот и вся разница.
– Я не думаю, чтоб они испугались твоих речей против Одрии, – сказал Сантьяго. – Они же зубрят. Здесь, в Сан-Маркосе, люди передовые.
Он посмотрел на тебя как на дурачка, на блаженненького, думает он, – Сан-Маркос давно уже не тот, – как на маленького и наивного несмышленыша. Ты же ничего не понимаешь, ты азов не знаешь, ты должен усвоить разницу между апристами, коммунистами, фашистами и понять, почему Сан-Маркос – не тот, что раньше. Потому что после переворота Одрии за всеми лидерами идет охота, все центры разгромлены, а университет кишит стукачами, зачисленными под видом студентов, но тут Сантьяго с некоторой развязностью вдруг перебил его, спросив, не в Мирафлоресе ли он живет, вроде лицо знакомое; а Хакобо покраснел и неохотно признался: да, в Мирафлоресе, а Аида расхохоталась: вот так встреча, вы оба – из хороших семей, из приличных домов, из порядочного общества. Но Хакобо, думает он, шуточки эти не пришлись по вкусу. Устремив голубой учительский взор на Аиду, он терпеливо, по пунктам объяснил ей, что не имеет ровно никакого значения, где человек живет, важно лишь, что он думает и как поступает, и Аида тут же согласилась, но ведь она не всерьез, она просто пошутила насчет «хороших семей», а Сантьяго подумал, что непременно начнет изучать марксизм и будет разбираться в нем не хуже Хакобо: ох, Савалита. Тут педель выкрикнул очередную фамилию, и Хакобо поднялся – пришла его очередь. Он шел к аудитории не торопясь, так же уверенно и спокойно, как говорил: умный парень, правда? – а Сантьяго, поглядев на нее, ответил: очень умный и в политике сечет потрясающе, а про себя подумал: я буду не хуже его.
– Неужели среди студентов есть стукачи? – спросила Аида.
– Если на нашем курсе появится, мы его быстро выловим, – сказал Сантьяго.
– Поступи сначала, – сказала Аида. – Ну, погоняй меня еще немножко.
Но чуть только пошли они по кругу и по билетам, из аудитории в своем тесноватом синем костюмчике медленно вышел Хакобо, улыбающийся и разочарованный: это не экзамен, а детские игрушки, Аиде совершенно нечего волноваться, председатель комиссии – химик и в гуманитарных предметах разбирается меньше нас с вами. Только надо не мямлить, а отвечать уверенно, без запинки – тогда не срежут. Ты подумал, Савалита, что он с тобой дела иметь не будет, но когда вызвали Аиду и они, проводив ее до дверей аудитории, снова сели на скамейку и стали разговаривать, оказалось, что ты ошибся. Ты перестал ревновать, думает он, ты испытывал восхищение. Хакобо окончил гимназию два года назад, а в прошлом году не поступал, потому что заболел брюшным тифом, говорил он веско и гладко, каждое слово – как удар топора. Империализм, идеализм – и голова у тебя пошла кругом, как у дикаря, увидевшего небоскреб, – материализм, общественное сознание, аморальность. Когда поправился, стал захаживать на филологический, записался в Национальную библиотеку – и все-то он знал, и на все-то он мог ответить, и говорил он о чем угодно, думает он, только не о себе. В какой гимназии он учился? Не еврей ли он? Есть ли у него братья или сестры? Где он живет? Хакобо, не раздражаясь, пространно и холодно объяснял, что АПРА – это реформистское движение, а коммунизм означает революцию. А Хакобо испытывал ли когда-нибудь к нему эту смешанную с уважением ненависть, думает он. Изучать он будет юриспруденцию и историю, и ты остолбенело слушал его: вместе, вместе учиться, вместе организовывать тайную печатню, уходить в подполье, сражаться, готовить революцию. А что он о тебе думал, думает он, что подумал бы сейчас? Подошла сияющая Аида: билет ей попался пустяковый, экзаменаторы даже устали ее слушать. Они поздравили ее, закурили, вышли на улицу. Автомобили ехали уже с зажженными фарами, легкий ветерок приятно холодил разгоряченные лица. Они говорили без умолку, еще не остыв от пережитого волнения, спустились по Асангаро в Университетский парк. Аида хотела пить, Хакобо проголодался, почему бы нам не посидеть где-нибудь? Удачная мысль! Я вас приглашаю! – воскликнул Сантьяго, и сейчас же получил от Аиды: как все-таки глубоко въелась в тебя буржуазность. Мы ходили в эту тошниловку на улице Кальмена, но не для того, чтобы есть, а чтобы поделиться друг с другом своими грандиозными планами, думает он, где мы спорили до хрипоты, где мы становились друзьями. Никогда больше не было такого радостного возбуждения, такой душевной открытости. И дружбы такой тоже не было, думает он.
– В полдень и по вечерам тут не протолкнуться, – сказал Хакобо. – После занятий весь университет сюда подваливает.
– Я хочу вам сразу сказать, – Сантьяго сглотнул, стиснул под столом кулаки, – чтобы вы знали: мой отец, ну, в общем, он – за режим.
Они замолчали и переглянулись, и переглядывание это продолжалось целую вечность. Сантьяго физически ощущал бег секунд и уже сожалел, что у него вырвалось это признание. Я ненавижу тебя, папа.
– Мне приходило в голову, что ты в каком-то родстве с этим Савалой, – сказала наконец Аида с печальной и сочувственной улыбкой. – Но не все ли равно: отец это отец, а ты – это ты.
– Самые великие революционеры были выходцами из буржуазных классов, – насупясь, ободрил его Хакобо. – Они порывали со своей средой и принимали идеологию пролетариата.
Хакобо привел несколько примеров, и, покуда взволнованный, думает он, благодарный Сантьяго рассказывал, какие схватки были у него с попами в гимназии, какие споры о политике кипели с отцом и одноклассниками, просмотрел лежавшие на столе книги: «Условия человеческого существования»[27]27
«Условия человеческого существования» – так называется в русском переводе роман Андре Мальро «La condition humaine» (1933).
[Закрыть] – интересно, но уж больно приземленно, а «Ночь миновала» вообще не стоит читать, автор – антикоммунист.
– Да нет, это же только в самом конце, – возразил Сантьяго. – Он разозлился на то, что партия не помогла ему вызволить жену от нацистов.
– Еще хуже, – объяснил Хакобо. – Сентиментальный ренегат.
– Разве революционер не имеет права быть сентиментальным? – спросила Аида, погрустнев.
Хакобо немного подумал и пожал плечами: наверно, имеет.
– Но хуже ренегатов ничего не может быть, – добавил он. – Вот возьмите АПРА. Революционер идет до конца, иначе это не революционер.
– Ты – коммунист? – спросила Аида так, словно хотела узнать, который час, и Хакобо на мгновение смешался: щеки его порозовели, он оглянулся по сторонам, прокашлялся, оттягивая время.
– Я – сочувствующий, – отвечал он осторожно. – Партия объявлена вне закона, войти с ними в контакт не так-то просто. И потом, чтобы стать коммунистом, надо многому научиться.
– Я тоже сочувствующая, – в восторге объявила Аида. – Как здорово, что мы встретились!
– И я тоже, – сказал Сантьяго. – Я плохо знаю марксизм, хотел бы разобраться получше. Да только где, как…
Хакобо поочередно заглянул им в глаза, впился в Сантьяго, потом в Аиду долгим, пронизывающим взглядом, словно прикидывая, достаточно ли они искренни и надежны, потом снова посмотрел по сторонам и подался вперед: есть один букинистический магазинчик, здесь, в центре. Он на него набрел совершенно случайно, зашел полюбопытствовать, пролистал кое-какие книжки, и тут вдруг обнаружились старые номера интереснейшего журнала – называется он, кажется, «Советская культура». Запрещенные книги, запрещенные журналы – Сантьяго увидел полки, набитые литературой, которая не продается в книжных лавках, томами, которые полиция изымает из библиотек. Под сенью изъеденных сыростью, покрытых паутиной стен, глухими ночами, при свете какой-нибудь самодельной плошки они будут изучать эти взрывоопасные книги, обсуждать их и конспектировать, делать рефераты, обмениваться идеями – читать, просвещаться, порывать с буржуазией, обретать и брать на вооружение пролетарскую идеологию.
– А еще журналы там есть? – спросил он.
– Кажется, есть, – ответил Хакобо. – Можем вместе туда сходить. Да хоть завтра.
– А еще можно пойти на какую-нибудь выставку или в музей, – предложила Аида.
– Конечно, – сказал Хакобо. – Я в Лиме ни в одном музее не был.
– И я, – сказал Сантьяго. – Пока занятия не начались, надо всюду побывать.
– Отлично: по утрам будем ходить в музеи, а потом пошарим у букинистов, – сказал Хакобо. – Я их много знаю, может быть, отыщется там кое-что интересное.
– Революция, книги, музеи, – говорит Сантьяго. – Видишь, до чего я был чист тогда?
– А я думал: это значит – без бабы обходиться, – говорит Амбросио.
– И еще в кино сходим, на что-нибудь стоящее, – сказала Аида. – Пусть буржуа Сантьяго нас пригласит.
– Стакана воды не дождешься, – сказал Сантьяго. – Ну, так куда мы завтра и когда встречаемся?
– Ну, сынок, – сказал дон Фермин. – Очень трудно было? Выдержал, как по-твоему?
– В десять, на площади Сан-Мартин, – сказал Хакобо. – На остановке «экспрессов».
– Кажется, выдержал, – сказал Сантьяго. – Так что не надейся увидеть меня когда-нибудь в Католическом.
– Уши бы тебе надрать за твое злопамятство, – сказал дон Фермин. – Неловко, ты ведь у нас теперь университетская штучка. Ну, обними меня.
Ты не спал всю ночь, думает он, и Аида, наверно, тоже не спала, и Хакобо. Все двери были распахнуты настежь, думает он, когда же и почему же стали они захлопываться одна за другой?
– Все-таки добился своего, поступил в Сан-Маркос, – сказала сеньора Соила. – Полагаю, теперь ты доволен.
– Я очень доволен, мама, – сказал Сантьяго. – И больше всего тем, что мне никогда больше не придется вращаться в приличном обществе. Ты не можешь себе представить, до чего я доволен.
– Если тебе уж так хочется превратиться в чоло, не в Сан-Маркос надо было поступать, а стать работягой, – сказал Чиспас. – Ходил бы босой, никогда бы не мылся, разводил бы вшей. Академик!
– Самое главное, что он поступил в университет, – сказал дон Фермин. – Разумеется, лучше бы в Католический, но ничего: кто хочет учиться, всюду выучится.
– Католический вовсе не лучше, чем Сан-Маркос, папа, – сказал Сантьяго. – Там всем заправляют попы, а я с ними не желаю иметь ничего общего. Я их ненавижу.
– Вот и попадешь в преисподнюю на веки вечные, дурак! – сказала Тете. – Почему ты ему позволяешь, папа, так разговаривать?
– Меня такое зло берет от твоих предрассудков, папа, – сказал Сантьяго.
– Это не предрассудки: мне вот совершенно безразлично, какого цвета кожи твои товарищи – белого, черного или желтого, – сказал дон Фермин. – Я хочу всего-навсего, чтобы ты учился, чтоб не терял времени даром и не слонялся без дела, как Чиспас.
– Очень мило, – сказал Чиспас. – Академик дерзит тебе, а отыгрываются на мне.
– Заниматься политикой – не значит тратить время даром, – заметил Сантьяго. – Неужели только военные имеют на это право?
– Опять он завел свою шарманку: сначала про попов, теперь про военных, – сказал Чиспас. – Отдохни, академик, надоело!
– До чего же ты точен, – сказала Аида. – Ты шел и разговаривал сам с собой, как ненормальный.
– До чего же мерзкий характер, – сказал дон Фермин. – С тобой по-хорошему, а ты все норовишь цапнуть побольней.
– А я не совсем нормальный, – сказал Сантьяго. – Не боишься со мной дело иметь?
– Да ладно, ладно, не плачь, встань с колен, – сказал дон Фермин. – Я верю, что ты сделал это ради меня. А ты не подумал, что не поможешь мне, а погубишь? Голова у тебя на плечах или что?
– Ну что ты, я от безумцев без ума, – сказала Аида. – Я еще колебалась – право изучать или психиатрию.
– Знаешь, – сказал дон Фермин, – это, пожалуй, уже слишком. Ты злоупотребляешь моим терпением. Ну-ка, живо ступай в свою комнату.
– Да-а, когда ты меня наказываешь, так карманных не даешь, а Сантьяго просто спать посылаешь, – сказала Тете. – Так нечестно.
– Знаете, – говорит Амбросио, – я вижу, никто своей жизнью не доволен. Вот у вас все есть, а жалуетесь. Что же мне тогда остается?
– Правда, папа, это несправедливо, – сказал Чиспас. – Лиши его карманных.
– Я очень рад, что ты все-таки выбрала юриспруденцию, – сказал Сантьяго. – А вот и Хакобо!
– Попрошу вас, милые детки, в мои разговоры с Сантьяго не встревать и советов мне не давать, – сказал дон Фермин. – Смотрите, как бы вам самим не остаться без карманных.
V
Ей выдали резиновые перчатки, халат, сказали – будешь укладчицей. Сыпались облатки, их надо было разложить по пузырькам, прикрыть ваткой. Тех, кто закрывал флаконы крышками, называли крышечницами, кто налеплял ярлычки – этикетчицами, а четырех женщин, которые складывали пузырьки в картонные коробки, – упаковщицами. Соседку ее звали Хертрудис Лама, она работала очень быстро. Начинали в восемь, кончали в шесть, с двенадцати до двух – обед. Недели за две до того, как Амалия поступила сюда, тетка ее переехала из Суркильо в Лимонсильо, и поначалу она ездила обедать к ней, но на это уходило слишком много времени, да и билеты туда-обратно – дороговато получалось. Однажды она на пятнадцать минут опоздала, и старшая ей сказала: «Думаешь, раз сам хозяин тебя велел принять, тебе все можно?» Хертрудис Лама ей посоветовала: бери еду с собой из дома, как все делают, сбережешь и время и деньги. С тех пор она стала приносить какой-нибудь сандвич, немножко фруктов, и они с Хертрудис уходили на проспект Аргентины, к акведуку: бродячие торговцы предлагали лимонад и ломтики вяленого мяса, окрестные работяги заигрывали с ними. Зарабатываю я теперь больше, думала она, работаю меньше, и подруга у меня появилась. Она, конечно, немного скучала по своей комнатке и по барышне Тете, а про этого гада, говорила она Хертрудис, и думать забыла. Амалия? говорит Сантьяго, а Амбросио ему: помните ее?
Она и месяца еще не отработала в лаборатории, как познакомилась с Тринидадом. Он тоже молол всякую чушь, но у него почему-то это выходило симпатичней, чем у других. Амалия, оставаясь одна, вспоминала все, что он нес, и начинала хохотать. Симпатичный, правда, но, кажется, у него не все дома, а? – сказала ей как-то Хертрудис, а потом: ну, чего ты так заливаешься, а потом еще: видно, он тебе нравится. Нравится, подумала Амалия, и Сантьяго спрашивает: так это Амалия была твоей женой? Амалия умерла в Пукальпе? Однажды они встретились на трамвайной остановке, наверно, он специально ее поджидал. Нахально уселся рядом – вы позволите, сударыня? – и понес, понес, затрещал без умолку, а Амалия даже не улыбнулась, хотя в душе помирала со смеху. За билет он заплатил, а когда она вышла, крикнул: до скорого, любовь моя! Он был тоненький, смуглый, совершенно шальной, волосы черные-пречерные и гладкие, славный, в общем, парень. Глаза у него были чуть вкось, и когда уж они с Амалией поближе познакомились, она ему сказала, что он на китайца похож, а он ей: а ты – белая чолита[28]28
Чолита – ласковое обращение к девушке.
[Закрыть], замечательные детки могут у нас получиться, а Амбросио отвечает: она самая. А потом он ее опять подкараулил и проводил до самого центра, вместе с нею пересел на автобус, и доехал до Лимонсильо, и опять заплатил за билет, а она ему: видно, денег-то куры не клюют? Тринидад позвал ее пообедать где-нибудь, но Амалия приглашения его не приняла. Нам выходить, любовь моя, вот сами и выходите, что это еще за вольности такие? Пора нам познакомиться, сказал он, и протянул ей руку: Тринидад Лопес, очень приятно, и Амалия тоже протянула ему руку: Амалия Серда, взаимно. На следующий день Тринидад подсел к ним у акведука, заговорил с Хертрудис, какая, мол, у вас жестокосердная подружка, я из-за нее ночей не сплю, а ей хоть бы что. Хертрудис ему подыграла, они мигом подружились, а потом Хертрудис сказала Амалии: ты бы приветила этого шалого, тогда и позабудешь про Амбросио, а Амалия: я и так про него забыла, а Хертрудис: да не может быть, и Сантьяго спрашивает: ты завел с ней шашни, еще когда она у нас служила? А Амалии, хоть ее и смущали вздорные разговоры Тринидада, нравился его рот, нравилось, что он себе ничего такого не позволял. А полез он к ней в первый раз, когда ехали в Лимонсильо, автобус был переполнен, их притиснуло друг к другу, тут-то она и заметила, что он трется об нее. Деваться было некуда, так что надо было делать вид, что она ничего не понимает. А Тринидад смотрел на нее очень серьезно, потом вдруг вытянул шею – и вдруг: я тебя люблю и – чмок! Ее прямо в жар бросило, вдруг кто заметит и засмеется. Зато, когда они вылезли, она ему устроила: нахал! за кого, мол, он ее принимает, опозорил перед всеми, нашел тоже место и время! Я давно такую ищу, сказал ей Тринидад, ты мне в самое сердце влезла. Я с ума покуда не сошла, отвечала Амалия, знаю, чего ваши сладкие слова стоят, вам, кобелям, только одно и нужно. Ну, дошли до ее дома, на уголку еще постояли, тут он снова ее поцеловал, ах, до чего ж ты хороша, и обнял крепко, и даже голос у него задрожал: я тебя люблю, разве ты не видишь, что со мною творится? Амалия, однако, попросила его рукам воли не давать: не позволила ни блузку расстегнуть, ни под юбку залезть. Вот, ниньо, тогда и началась у них любовь, но еще не взаправду, а серьезные дела попозже пошли.
Тринидад работал неподалеку от ее лаборатории, на текстильной фабрике; Амалии рассказал, что родом он из Пакасмайо, работал раньше в Трухильо в гараже. А про то, что он – априст, узнала она уже потом, когда гуляли они однажды по проспекту Арекипы. Гуляли и вдруг видят дом – сад там, деревья, а вокруг дома – патрули: солдаты и полиция, а Тринидад вдруг поднял левую руку и Амалии в самое ухо: Виктор Рауль, народ приветствует тебя! Она ему: ты что, совсем спятил? Это колумбийское посольство, сказал ей Тринидад, там успел спрятаться Айа де ла Торре, убежище, значит, попросил, а Одрия боится, как бы он не сбежал из страны, потому и нагнали столько полиции. Тут он засмеялся и рассказал ей, что как-то вечером они с приятелем проезжали тут, ну и нажали на клаксон, а он сыграл кусочек апристского гимна, а полиция за ними погналась и задержала их. Так Тринидад был апристом? До могилы. И в тюрьме сидел? А как же, видишь, я тебе доверяю, все тебе говорю. Рассказал он Амалии, что в АПРА вступил лет десять назад, в Трухильо, у них в мастерских все были членами АПРА, и еще он ей объяснил, что Виктор Рауль Айа де ла Торре – самый умный и понимающий во всем Перу, а АПРА – за всех бедных, за всех чоло. В Трухильо-то его и посадили первый раз: писал на стенах «Да здравствует АПРА!». А когда выпустили, на работу уже не взяли, вот он и приехал в Лиму, там партия устроила его на фабрику в квартале Витарте, а пока Бустаманте был у власти, он горой стоял за него, ходил с дружками разгонять манифестации, устроенные его противниками, затевал с ними драки и неизменно при этом бывал бит. Он был не трус, а просто хиловат для таких дел, а Амалия ему: ты же у меня слабенький, а он: зато – настоящий мужчина, а когда во второй раз забрали, ему на допросе зубы выбили, и все равно он никого не выдал. Когда же произошло выступление третьего октября и Бустаманте объявил АПРА вне закона, товарищи его уговаривали спрятаться, переждать, а он: я ничего не боюсь, я ни в чем не виноват. Так и ходил на свою фабрику до самого двадцать седьмого октября, когда Одрия устроил переворот; его и тогда спрашивали: ну, что, мол, и теперь не будешь прятаться, а он: и теперь не буду. Ну, и в начале ноября, под вечер, когда он выходил с фабрики, подошел к нему какой-то тип: вы будете Тринидад Лопес? Вас в машине ждет ваш двоюродный брат. Он припустил от него бегом, потому что у него отродясь двоюродных братьев не было, но, конечно, догнали, схватили. В префектуре добивались, чтобы он изложил террористические замыслы своей банды – какие еще замыслы? какой банды? – и чтоб сказал, кто и где издавал подпольную «Трибуну». Тут-то он и лишился двух зубов, а Амалия: каких? – а он: как – каких? – а она: у тебя ж все зубы целы, а он: это вставные, просто незаметно. Просидел он восемь месяцев – сперва в префектуре, потом в предвариловке и наконец во Фронтоне – и потерял за это время десять кило. Три месяца искал работу, а потом все-таки устроился на текстильную фабрику на проспекте Аргентины. Теперь дела у него наладились, теперь уж он был ученый. А когда его приволокли в комиссариат из-за того происшествия у колумбийского посольства, он думал – начнут раскручивать по новой, но обошлось: решили, что это он спьяну, и на следующий день выпустили. Теперь, говорил он, мне, Амалия, страшны только полицейские да бабы: у одних я в картотеке, на других, на гремучих этих змей с ядовитым жалом, я сам картотеку веду. Правда? – спросила его Амалия, а он: ну, как видишь, не уберегся – увидал тебя и опять влип, а у нас в доме никто не знал про твои дела с Амалией, – говорит Сантьяго, ни родители, ни мы с Чиспасом и Тете, и при этих словах снова ее поцеловал, а она: а ну пусти, прими-ка руки! – не знали, потому что мы от всех хоронились, отвечает Амбросио, а Тринидад ей: да я ж люблю тебя, как ты в толк не возьмешь. А почему? – спрашивает Сантьяго.
Амалия, узнавши, что Тринидад уже два раза сидел и свободно может загреметь опять, до того перепугалась, что даже Хертрудис ничего не сказала. Вскоре, однако, выяснилось, что больше политики его интересует спорт, а в спорте – футбол, а в футболе – команда «Мунисипаль». Он таскал ее с собой на все матчи, приводил на стадион пораньше, чтоб забить местечко получше, а на игре орал так, что неделю потом сипел, если, по его мнению, гол Суаресу был засчитан неправильно. В юности он сам играл в молодежном дубле «Мунисипаля», это когда он еще в Витарте жил, а теперь сколотил на своей текстильной фабрике команду и каждую субботу устраивал встречу. Ты и футбол – единственные мои слабости, говорил он Амалии, и та готова была согласиться: он почти не пил и не похож был на такого уж бабника. Кроме футбола, уважал он бокс и кетч. Он водил ее в луна-парк и объяснял: этот вот молокосос в красном – испанец Висенте Гарсия, а болеет он за Янки не потому, что тот лучше, а потому, что он, по крайней мере, перуанец. Амалии нравился Пета – он такой был изящный и элегантный и вдруг просил рефери остановить бой и приглаживал свой растрепавшийся кок, а Быка, который норовил ткнуть противника пальцем в глаз и бил ниже пояса, она терпеть не могла. Но женщины в луна-парк почти не ходили: уж больно много всякой пьяни там собиралось, могли пристать, и мордобой там случался почище, чем на ринге. Ну, говорила ему Амалия, понаслаждался своим футболом и боксом – хватит, теперь лучше давай в кино сходим. А он ей: твое желание – закон, но все равно тянул ее в луна-парк. Он выискивал в «Кронике» объявления о кетче, твердил только про захваты и зацепы: сегодня выяснится, кто ж у нас борется под Черной Маской, если Врач победит Монгола, это будет потрясающе, как ты считаешь. Никак не считаю, отвечала ему Амалия, все будет как всегда. Но иногда ей его жалко становилось, и она говорила: ладно, пойдем сегодня в луна-парк, а уж он – на седьмом небе.
Однажды – дело было в воскресенье – они где-то ужинали после кетча, и вдруг Амалия заметила: как-то он на нее необычно смотрит. Что такое? Знаешь, говорит, не ходи сегодня к тетке, останься у меня. Она, конечно, сделала вид, что страшно оскорбилась, даже накричала на него, но он, рассказывала она Хертрудис, прилип как смола и в конце концов уломал. Пошли к нему в Миронес и там разругались чуть не насмерть. Нет, поначалу-то все было очень хорошо: он ее обнимал и целовал и говорил «любовь моя» таким голосом, словно вот-вот помрет, а потом, уже под утро, она смотрит – он весь белый стал, глаза ввалились, губы дрожат: а ну говори, сколько уж тут перебывало? Амалия ему: у меня только один и был (дура, ох, ну ты ж и дура, говорила ей по этому поводу Хертрудис Лама), шофер из того дома, где я раньше в прислугах была, а больше ко мне никто и близко не подходил, а Тринидад начал ее тогда обзывать по-всякому и говорить, что он-то с ней как с порядочной, а она вот что, а потом вмазал ей так, что она с катушек слетела. Тут в дверь постучали, вошел какой-то старик – что тут происходит? – а Тринидад и старика обложил, и тогда она поскорей натянула платье и убежала. Утром, в лаборатории, все у нее валилось из рук, еле говорила от обиды и огорчения. У мужчин свои понятия, – втолковывала ей Хертрудис, с которой она поделилась своей бедой, – кто тебя тянул за язык, надо было все отрицать, понимаешь? – отрицать. Ну, ничего, он тебя простит, утешала она ее, сам придет, а Амалия: я его ненавижу теперь, мне легче помереть, чем снова с ним лечь, но после этой ссоры, ниньо, они еще долго крутили любовь, а мы-то с ней свиделись много времени спустя и совершенно случайно, говорит Амбросио. А в тот день она, как всегда, вернулась в Лимонсильо, и от тетки еще влетело, та ее честила и распутной девкой, и уличной тварью, и не хотела верить, что Амалия переночевала у подруги, и сказала: если еще раз такое повторится, вообще можешь сюда не являться – выгоню, мол. Несколько дней она была сама не своя, и есть-то не хотелось, и на свет глядеть, и ночью не спала, а ночи эти все никак не кончались, но однажды вдруг увидела Тринидада на остановке. Он влез вместе с нею, а она на него даже и не взглянула, но когда он заговорил, ее всю так жаром и обдало. Вот дура, подумала она, ты его любишь. Он просил прощения, а она: никогда в жизни тебя не прощу, хоть ей и понравилось у него, а он: давай все забудем, любовь моя, что было, то сплыло, ну, не злись. В Лимонсильо он попробовал ее обнять, она его отпихнула, пригрозила, что полицию позовет. Ну, все-таки он ее разговорил, улестил, она смягчилась, и на том ихнем углу он со вздохом сказал: знаешь, я с той ночи пил без просыпу, Амалия, но, выходит, любовь сильней гордости, Амалия. Ну, она потихоньку от тетки собрала свои вещички, и вечером они, держась за руки, приехали в Миронес. Там Амалия увидела того старика, что стучался тогда к Тринидаду, и Тринидад ее представил: знакомьтесь, дон Атанасио, это Амалия. В ту же ночь он потребовал, чтоб она бросила работу: что ж я, безрукий какой, что ж я, не прокормлю тебя? Она будет обед варить, белье стирать, а потом за детишками смотреть. Поздравляю, – сказал ей наутро инженер Каррильо, – я скажу дону Фермину, что ты замуж выходишь. Хертрудис ее обняла и даже всплакнула: грустно, что ты уходишь, но я так за тебя рада. А как узналось, что она вышла за априста, ниньо? Тебе повезло, говорила ей Хертрудис, с ним не пропадешь, такой не обманет. Да очень просто, Амбросио: Амалия дважды приходила к нам, просила отца, чтоб заступился, помог вытащить априста из тюрьмы. Так и узналось, Амбросио.








