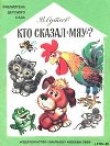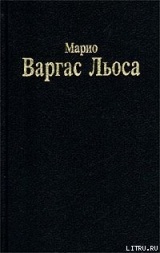
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 39 страниц)
– Она прогнала меня спать на ковер, – сказал Сантьяго. – Даже после нашей аварии у меня так не ныли все кости, как после этой ночевки у тебя на полу.
Карлитос и Китаянка, болтая, просидели у него около часа, а как только удалились, в палату тут же вошла сиделка: по губам ее порхала лукавая улыбка, а во взгляде было нечто сатанинское.
– Ну и ну, вот с кем вы компанию водите, – сказала она, оправляя ему подушки. – Эта Мария Антониета Понс – не из «Бим-бам-бом»?
– Неужели и вы смотрите их танцы, – сказал Сантьяго. – Быть не может.
– По фотографиям узнала, – сказала она, издав змеиный шип, означавший смешок. – Ада-Роса тоже оттуда?
– Ах, так вы подслушивали, – засмеялся Сантьяго. – Мы, наверно, несли черт знает что?
– Да уж, особенно эта дамочка, мне пришлось зажать уши, – сказала сиделка. – А ваша подружка, ну, та, что прогнала вас спать на ковер, она тоже так ругается?
– Еще похлеще, – сказал Сантьяго. – Только она никакая не моя.
– До чего невинный вид, кто б подумал, что бандит? – изнемогая со смеха, продекламировала она.
– Ну, завтра-то меня выпишут? – сказал Сантьяго. – Очень бы не хотелось застрять тут на субботу и воскресенье.
– Вас не устраивает мое общество? – сказала она. – Я же буду с вами, чего ж вам еще? Как раз мое дежурство. Но теперь, когда я узнала, что вы крутите романы с танцовщицами, доверия у меня к вам – никакого.
– А что вы имеете против танцовщиц, – сказал Сантьяго. – Танцовщицы что – не люди?
– Да? – Глаза ее искрились. – Ну конечно, конечно, вам и карты в руки, вам ли не знать?
Так это начиналось, Савалита, так это продолжалось: шуточки, заигрывания. Ты думал: какая кокетка, вот повезло, что попалась такая сиделка, поможет время убить, жалко, думал ты, могла бы быть и покрасивей. Но почему именно на ней, Савалита? Она появлялась в палате ежеминутно – приносила еду и болтала до тех пор, пока не приходила монахиня или старшая сестра, и тогда она спешно начинала поправлять простыни или с комично деловым видом совала тебе в рот градусник. Хохотала и беспрестанно поддразнивала тебя. И невозможно было понять, что крылось за ее невероятным всеохватным любопытством – а где учат на журналиста? а как пишут статьи? а как вы работаете? – искренний интерес или стратегический замысел, и было ли оно бескорыстным и спортивным, или ты ей и вправду понравился, или ты ей, как она тебе, помогал коротать время. Родилась она в Ике, жила неподалеку от площади Болоньези, несколько месяцев назад окончила школу медсестер, а в этой клинике проходила свою годичную стажировку. Она была словоохотлива и услужлива, тайком проносила тебе покурить и газеты. В среду доктор сказал, что рентгенограмма ему не нравится и что его будет смотреть специалист. Специалиста звали Маскаро, и он, едва скользнув вялым взглядом по снимкам, сказал: не годятся, надо новые. В субботу вечером появился со свертком под мышкой угрюмый и опечаленный Карлитос: поссорились, поссорились, теперь уж навсегда. Помнишь, Савалита, он принес какую-то китайскую снедь: меня с нею не выставят? Сиделка раздобыла им тарелки и вилки, посидела и даже отведала особым образом сваренного риса. Когда время посещения истекло, разрешила Карлитосу побыть еще и сказала, что потом незаметно его выведет. Карлитос принес и бутылку без этикетки, и на втором глотке начал проклинать «Кронику», Китаянку, Лиму и весь белый свет, чем сильно скандализовал Ану. В десять она с трудом увела его, но потом вернулась за вилками и уже с порога подмигнула: желаю тебе увидеть меня во сне. Ушла, наконец, и Сантьяго услышал в коридоре ее смех. В понедельник консультант посмотрел новые снимки и разочарованно произнес: да вы здоровей меня. У Аны был выходной. Ты, Савалита, оставил ей у привратника записку. Большое спасибо за все, думает он, как-нибудь на днях позвоню.
– А кем он был, этот самый дон Иларио? – говорит Сантьяго. – Помимо того, что ворюга?
Амбросио вернулся от дона Иларио Моралеса слегка под хмельком. Поначалу этот хмырь напустил на себя важность, рассказывал он Амалии, увидел цветного и решил, что я – без гроша, ему и в голову прийти не могло, что Амбросио хочет войти в дело на равных, а вовсе не собирается клянчить у него должностенку. Да нет, наверно, он просто вернулся из Тинго-Марии усталым, потому и принял тебя так нерадушно. Может, и так, Амалия: первым делом он, отдуваясь, как жаба, и матерясь через каждое слово, стал рассказывать, что грузовик, который он пригнал из Тинго-Марии, восемь раз застревал на размытых паводком дорогах, и что ехал он, трам-тарарам, тридцать пять часов. Всякий другой бы на его месте оказал внимание, сказал бы – пойдем, поставлю тебе пива – но только не дон Иларио, нет, Амалия. Да может, он просто не пьет, утешала его Амалия.
– Да где-то к пятидесяти, – говорит Амбросио. – Помню, все время в зубах ковырял.
Дон Иларио принимал его в своей засиженной мухами, ветхой конторе на Пласа-де-Арас и не предложил даже сесть. Так и держал его на ногах, пока читал письмо Лудовико, и только дочитав, кивнул на стул, но тоже – не больно-то приветливо, а с таким видом, что, мол, делать нечего. Оглядел его с головы до ног и наконец удостоил вопросом, позволил рот раскрыть: ну, как там этот недотепа Лудовико?
– Сейчас – очень хорошо, дон, – сказал ему Амбросио. – Его произвели наконец, а то он столько лет мечтал о звании. В гору пошел: он заместитель начальника отдела по расследованию убийств.
Но он, Амалия, ни вот на столечко не обрадовался добрым вестям, а пожал плечами, поскреб свой черный зуб длиннющим ногтем на мизинце, сплюнул и сказал: поди пойми его. Потому что Лудовико, хоть и приходился ему родным племянником, родился дурнем и неудачником.
– Оборотистый, – говорит Амбросио. – Три дома в Пукальпе, жена, и кучу ребятишек наплодил.
– Ну, ладно, теперь скажите, чего вам от меня надо, – пробурчал наконец дон Иларио. – Чем намерены заниматься у нас в Пукальпе?
– Работать, – сказал ему тогда Амбросио. – Вам же Лудовико написал.
Дон Иларио захохотал пронзительно – вроде как попугаи кричат – весь заколыхался.
– Да вы в своем уме? – сказал он, яростно ковыряя в зубах. – Нет на свете места хуже Пукальпы для тех, кто хочет найти работу. Вы разве не видали, сколько швали бродит по улицам, руки в карманы? Здесь восемьдесят процентов праздно шатается, потому что работы нет. Разве что киркой махать на ферме или вот – военные шоссе прокладывают, можно к ним. Но это тоже – не вдруг делается, и пойти туда можно только с голодухи. Здесь вам не светит. Так что уматывайте поскорее назад, в Лиму.
Он тогда, Амалия, очень захотел послать его подальше, но сдержался, приятно улыбнулся и предложил: не выпить ли нам с вами пивка где-нибудь? Очень жарко у вас, освежились бы, а заодно и поговорили. Иларио этот очень удивился, Амалия, понял наконец, что держал Амбросио не за того. Пошли они тогда на улицу Комерсио, сели в «Золотом петухе», спросили пива похолодней.
– Я, дон, приехал не работу у вас просить, – сказал ему Амбросио, – а предложить вам дело.
Дон Иларио потягивал пиво медленно, поглядывал на Амбросио внимательно. Потом поставил кружку на стол, поскреб морщинистый сальный зоб, сплюнул на улицу и стал смотреть, как жаждущая земля вбирает слюну.
– Ага, – заговорил он неторопливо, кивая в такт словам, а обращался словно к висевшему над столиком жужжащему рою мух. – Однако для дела, друг мой, нужен капитал.
– Понятное дело, – сказал ему Амбросио. – Есть у меня немножко прикопленных. Вот я и хотел узнать, не поможете ли вложить их повыгодней. Лудовико говорил: дядя мой – человек в высшей степени понимающий.
– Подольстился, значит, – засмеялась Амалия.
– Его сразу – как подменили, – сказал Амбросио. – По-человечески стал разговаривать.
– Ох уж этот Лудовико, – захохотал тогда дон Иларио; добрая душа: откуда что взялось – такой добряк. – Но он вам сказал чистую правду. Одни рождаются летчиками, другие – певцами. А я создан дела делать.
Он улыбнулся Амбросио не без лукавства: правильно сделал, что ко мне пришел, он его пристроит к месту. Уж он-то придумает что-нибудь, чтоб денежки к деньгам шли. И вдруг, с бухты-барахты: пойдем-ка поедим, проголодался что-то. Понимаешь, Амалия, ведь это что за народ – сразу и есть захотел, и пить.
– Жил он во всех трех своих домах одновременно, и ходили мы с ним из одного в другой, из другого – в третий, – говорит Амбросио. – А потом я узнал, что у него и в Тинго-Марии тоже жена и дети. Можете себе представить?
– Но ты же мне до сих пор не сказал, сколько у тебя отложено, – отважилась спросить Амалия.
– Двадцать тысяч, – сказал дон Фермин. – Да-да, это твои, это тебе. Они тебе помогут исчезнуть, дурень, исчезнуть и начать все сначала. Не надо плакать, Амбросио. Ступай, ступай. Помоги тебе Бог.
– Он закатил мне обед на славу, взяли еще полдюжинки, Амалия, – сказал ей Амбросио. – И за все он платил.
– В делах самое главное – знать, на что можешь рассчитывать, – говорил дон Иларио. – Тут как на войне. Представлять надо ясно, какие силы поднимаешь в атаку.
– На сегодня мои силы – пятнадцать тысяч, – отвечал ему Амбросио. – В Лиме у меня есть еще немножко, так что если дело мне подойдет, привезу попозже.
– Негусто, – задумчиво и старательно шарил во рту дон Иларио. – Но для начала и это сгодится.
– Как же не начать воровать при таком семействе, – говорит Сантьяго.
Амбросио, видите ли, дон, подошло бы что-нибудь связанное с транспортом, потому что он шофер, это уж его стезя. А он, Амалия, улыбался, когда я заговорил про фирму «Транспортная Компания Моралеса», и объяснил, что существует дело уже пять лет, что у него два грузовичка и три фургончика, которые возят пассажиров из Пукальпы в Тинга-Марию и обратно. Но работа, Амбросио, та еще: тут не шоссе, а форменная топь, ни скаты, ни моторы долго не служат – все в клочья. Но ничего, дело идет, не хиреет.
– Вот если б вы мне дали грузовичок, – сказал ему Амбросио. – На первый взнос у меня хватит. А остальное погасится – отработаю.
– Это что же, значит, я своими руками конкурента себе сделаю, – ласково засмеялся тогда дон Иларио.
– Пока не договорились, – сказал Амбросио. – Завтра опять встретимся.
Встретились назавтра, а потом послезавтра, а потом и на следующий день, и каждый раз Амбросио возвращался домой навеселе и дышал на нее пивным перегаром: ну и здоров же пить этот дон Иларио. Через неделю пришли к соглашению: Амбросио будет водить полугрузовичок за пятьсот солей жалованья плюс десять процентов за билеты и войдет компаньоном в одно дело, надежное и верное. Какое дело? – спросила Амалия, увидев, что он мнется.
– Похоронное бюро «Безгрешная душа», – сказал ей Амбросио. – Мы его покупаем за тридцать тысяч, дон Иларио говорит: просто даром. Да мне и делать-то ничего не надо, и покойников видеть я не буду, дон Иларио все берет на себя, а мне каждые полгода – мою долю прибылей. Ну, что ты? Что тут плохого?
– Да нет, плохого ничего, – сказала ему Амалия, – сама не знаю. Наверно, потому что деток хоронить.
– Мы и для стариков будем гробы делать, – сказал ей Амбросио. – Дон Иларио говорит, вернее бизнеса не бывает, потому что рано или поздно все там будем. Доходы – пополам. Говорю же, он все берет на себя – и бесплатно. Об этом только мечтать можно. Верно?
– Так, значит, ты теперь будешь все время ездить в Тинга-Марию? – сказала ему Амалия.
– Да, и мне будет не до этой похоронной конторы, – отвечал ей Амбросио. – Тебе придется. Не зевай, считай, сколько гробов продано. Ты ж совсем рядом. Тебе и из дому выходить не придется.
– Ладно, ладно, – все повторяла Амалия. – Не нравится мне это, а почему – сама не пойму.
– И вот несколько месяцев подряд я то газовал, то тормозил, – говорит Амбросио. – Древней этой машины, наверно, и на свете не было. Называлась «Горный гром».
III
– Так, значит, вы в семье первым женились? – говорит Амбросио. – Подали пример и Чиспасу и сестрице?
Из клиники он заехал в пансион побриться и переодеться, а оттуда – в Мирафлорес. Было только три, но автомобиль дона Фермина стоял у ворот. Дворецкий встретил его с видом значительным и недовольным: господа были очень встревожены тем, что он в воскресенье не пришел к обеду. Ни Тете, ни Чиспаса дома не было. Сеньора Соила смотрела телевизор в заново отделанной комнате под лестницей, где она со своими приятельницами играла по четвергам в канасту[66]66
Канаста – карточная игра.
[Закрыть].
– Наконец-то, – проговорила мать, обратив к нему хмурое лицо. – Пришел узнать, живы ли мы еще?
Он попытался отшутиться – вырвавшись из больничного плена, ты был в превосходном настроении, Савалита, – но она, слушая, бросала долгие взгляды на экран, где шла очередная серия какого-то телеромана, и продолжала пилить его: мы ждали тебя к обеду, Тете, Чиспас, Попейе и Кари не расходились до трех, все думали, ты соизволишь явиться, ты мог бы проявить чуточку больше внимания – ведь знаешь, что отец нездоров. Что он считает дни до встречи с тобой, думает он, что он очень огорчается, если ты не приходишь. Ты думал, Савалита, что он послушался совета врачей, не ездил в свой офис и отошел от дел. В тот день, Савалита, ты понял, что ошибался. Отец сидел у себя в кабинете один, укутав ноги пледом. Он листал какой-то журнал и улыбнулся тебе с ласковой укоризной. Кожа на лице, еще не утратившем летний загар, одрябла, рот как-то странно запал, отчего зубы казались полуоскаленными, словно он внезапно и стремительно похудел килограммов на десять. Он был без галстука, в вельветовой домашней куртке, из-под которой в распахе рубашки виднелась седая волосатая грудь. Сантьяго сел рядом.
– Отлично выглядишь, – сказал он, поцеловав отца. – Как твое здоровье?
– Получше, но твоя матушка и Чиспас делают все, чтоб я чувствовал себя полной рухлядью, – пожаловался дон Фермин. – В контору отпускают ненадолго, заставляют спать после обеда и сидеть здесь часами, как калеку.
– Но это же только пока ты не поправишься, – сказал Сантьяго. – Потом отыграешься за все.
– Я их предупредил, что буду соблюдать этот инвалидный режим только до конца месяца, – сказал дон Фермин. – С первого числа я возвращаюсь к нормальной жизни. Теперь я даже не знаю, в каком состоянии дела.
– Да пусть Чиспас делами занимается, – сказал Сантьяго. – У него ведь, кажется, это хорошо получается?
– Получается, – с улыбкой кивнул дон Фермин. – Он все взял в свои руки. Деловой малый, есть хватка и чутье. Но это не значит, что я согласен стать мумией.
– Кто бы мог подумать, что в Чиспасе прорежется бизнесмен, – засмеялся Сантьяго. – Видишь, как хорошо, что его отчислили из училища. Все к лучшему.
– Да нет, не все, – сказал дон Фермин прежним, ласково-усталым тоном. – Вчера я заезжал к тебе в пансион, и сеньора Лусия сказала, что ты несколько дней не приходил даже ночевать.
– Я был в Трухильо, папа. – Он понизил голос, думает он, как бы доверяя отцу мужской секрет: между нами, папа. – Командировочка. Очень спешно, я даже не успел вас предупредить.
– Ты стал взрослым, Сантьяго, поздно тебя журить или давать тебе советы, – по-прежнему мягко и грустно сказал дон Фермин. – Тем более что толку от этого все равно не будет.
– Ты, надеюсь, не думаешь, что я веду беспутную жизнь? – усмехнулся Сантьяго.
– До меня уже давно доходят тревожные слухи, – прежним тоном сказал дон Фермин. – Тебя видят в барах, в ночных клубах. И не в самых фешенебельных, далеко не самых. Но ты так рьяно отстаиваешь свою свободу, что я не решался тебя ни о чем спрашивать.
– Да, я бываю там – изредка, не чаще, чем другие люди, – сказал Сантьяго. – Ты же знаешь, папа, я не из породы вертопрахов и никакой не кутила. Помнишь, мама чуть не силой заставляла меня ходить на всякие там детские праздники?
– Детские, – рассмеялся дон Фермин. – А теперь чувствуешь себя глубоким старцем?
– Так что можешь пропускать все эти сплетни мимо ушей, – сказал Сантьяго. – Чего другого, а этого можешь не опасаться.
– Я так и думал, сынок, – после долгого молчания сказал дон Фермин. – Поначалу я считал: пусть развлекается, ему это пойдет на пользу. Но потом стал слышать от многих: его видели тут, его видели там, всегда рюмочки и общество самое неподходящее.
– Ну, правда же, у меня нет на кутежи ни денег, ни времени, – сказал Сантьяго. – Чушь какая-то.
– Я не знаю, что думать, – серьезно и веско сказал дон Фермин. – Шарахаешься из одной крайности в другую, и понять тебя трудно. Знаешь, я все же предпочел бы видеть тебя коммунистом, чем пьяницей и тем, что называется «кабацкая теребень».
– Можешь быть спокоен, я ни то, ни другое, – сказал Сантьяго. – Уже несколько лет, как я забыл, что такое политика. В газете читаю все, кроме статей о политике, не знаю, кто у нас министр, кто сенатор. И сам попросил, чтобы меня не заставляли писать о политике.
– И говоришь об этом с таким сожалением, – пробормотал дон Фермин. – Тебя печалит, что не пришлось всю жизнь швырять бомбы? Меня в этом не вини. Я дал тебе совет, не более того, и вспомни – ты всегда поступал наперекор мне. Ты не стал коммунистом потому, должно быть, что в глубине души сам не верил в правоту их дела.
– Верно, папа, – сказал Сантьяго. – Но меня это вовсе не печалит, я просто никогда об этом не думаю. Просто хотел тебя успокоить: я не стал коммунистом и не сопьюсь.
Они заговорили о другом, сидя в этом уютном и теплом кабинете, где так славно пахло книгами и деревом – в окне садился размытый первыми зимними туманами солнечный диск, а издали доносились реплики персонажей сериала, – и дон Фермин постепенно отваживался затронуть вечную тему и повторить освященную традицией просьбу: вернись домой, Сантьяго, получи диплом, работай со мною.
– Я знаю, тебе не по душе эти разговоры. – Тогда, Савалита, он попытался в последний раз убедить тебя. – Я знаю, что рискую вовсе не увидеть тебя.
– Ну, что за глупости, папа, – сказал Сантьяго.
– Разве четырех лет не довольно? – Он покорился неизбежному именно тогда, Савалита? – Разве не достаточно ты навредил себе и нам?
– Но я ведь получу диплом, папа, – сказал Сантьяго. – В этом году получу.
– В этом году, как и в прошлом, ты меня обманешь, – или до последней минуты лелеял и вынашивал тайную надежду на твое возвращение. – Я тебе не верю. Ты получишь диплом? Но ведь ты носу не кажешь в университет и не сдаешь экзамены?
– У меня было очень много работы, – защищался Сантьяго. – Но теперь буду ходить на лекции. Я так построю свое расписание, чтобы ложиться рано и…
– Ты уже привык к этим полуночным бдениям, к твоему нищенскому жалованью, к твоим беспутным дружкам из газеты: все это стало твоей жизнью. – Он говорил без гнева и без горечи, с угрюмой нежностью. – Как я могу спокойно смотреть на это? Ты ведь совсем не то, чем хочешь казаться. Ты не можешь больше вести это жалкое существование.
– Ты должен мне поверить, папа, – сказал Сантьяго. – На этот раз я правда буду ходить на лекции и сдавать экзамены. На этот раз так оно и будет.
– Сейчас я прошу тебя: если не хочешь пожалеть себя, подумай обо мне. – Дон Фермин подался вперед, накрыл ладонью его руку. – Мы устроим так, что ты сможешь ходить в университет, а получать будешь больше, чем в «Кронике». Тебе уже пора брать дело в свои руки. Я могу умереть в любую минуту, и вам с Чиспасом придется заменить меня. Ты нужен своему отцу, Савалита. – Нет, не в пример прочим таким разговорам он не сердился, не тосковал, не надеялся. Он был подавлен, он повторял обычные слова по привычке или от упрямства, как игрок, который ставит на кон последнее, наверное зная, что проиграет. Уныло поблескивали его глаза, и руки были покойно сложены на покрытых пледом коленях.
– Я буду тебе обузой, папа, – сказал Сантьяго. – Для тебя и для Чиспаса это только создаст ненужные трудности. И чувствовать я буду, что платят мне не за работу. И пожалуйста, не говори о смерти. Ты ведь сам только что сказал, что гораздо лучше себя чувствуешь.
Дон Фермин на несколько мгновений поник головой, потом выпрямился, с усилием улыбнулся: ладно, больше не буду испытывать твое терпение. Ты доставил бы мне беспримерную радость, если бы однажды вошел сюда и сказал, что уволился из газеты. Но появилась сеньора Соила, неся чай и сухарики, и отец замолчал. Серия кончилась, слава богу, и она заговорила о Тете и Попейе. Она была очень обеспокоена, думает он, Попейе хочет жениться на будущий год, но ведь Тете еще совсем дитя, она им советует подождать немного. Твоя старуха мать не хочет становиться бабушкой, пошутил дон Фермин. Ну, а Чиспас что? Ах, его Керн совершенно обворожительна, она живет в Пунте, говорит по-английски, и такая благоразумная и воспитанная. Тоже поговаривают о свадьбе на будущий год.
– Хорошо, что хоть ты не довершил свои безумства женитьбой, – осторожно сказала сеньора Соила. – Ты-то, я надеюсь, не собираешься заводить семью?
– У тебя наверняка кто-то есть, – сказал дон Фермин. – Кто она? Расскажи нам. Не бойся. Тете ничего не узнает.
– Нет, папа, никого у меня нет, – сказал Сантьяго.
– Неужели ты решил идти по стопам бедного дядюшки Клодомиро?
– Тете вышла замуж через несколько месяцев после моей свадьбы, – говорит Сантьяго. – А Чиспас женился через год с небольшим.
Я знала, что придет, подумала Кета. И все-таки показалось невероятным, что он отважился. Было уже за полночь, не протолкнуться, Мальвина напилась, а Робертито взмок как мышь. Топтались на месте пары, еле различимые в прокуренной, гремящей музыкой полутьме. Время от времени из разных концов бара, то из кабинета, то из номеров наверху доносился до Кеты натужный Мальвинин визг. А он, огромный, робеющий, все стоял в дверях в своем коричневом в полоску костюме, в красном галстуке, и глаза у него бегали. Меня ищет, подумала позабавленная Кета.
– Хозяйка негров не пускает, – сказала рядом с нею Марта. – Выставь его, Робертито.
– Это телохранитель Бермудеса, – сказал Робертито. – Спрошу сеньору Ивонну, как она распорядится.
– Да кто б ни был, – сказала Марта. – Роняет престиж заведения. Выгони его.
Юноша с пушком на верхней губе, который трижды приглашал Кету танцевать, но так и не сказал ни слова, снова приблизился, выговорил непослушными губами: поднимемся? Да, заплати и поднимайся, номер двенадцать, а она сейчас возьмет ключ. Юноша, лавируя между танцующими, прошел мимо самбо, и Кета, следя за ним взглядом, увидела его горящие, испуганные глаза. Что ему нужно, кто его прислал? Он отвел глаза, потом снова посмотрел на нее, пробормотал «добрый вечер».
– Сеньора Ортенсия прислала, – смущенно сказал он, и опять глаза его убежали в сторону. – Велела передать, чтобы вы ей позвонили.
– Я была занята. – Никто тебе ничего не велел и не поручал, и врать ты не умеешь, ты пришел ради меня. – Скажи, завтра позвоню.
Она повернулась к нему спиной, поднялась наверх, попросила у Ивонны ключ от двенадцатой, подумала: он уйдет, но потом вернется. Он будет караулить ее на улице, потом решится пойти следом в отдалении, потом отважится приблизиться и будет трястись как овечий хвост. Кета спустилась через полчаса и увидела, что он сидит в баре, спиной к парочкам в кабинете. Он пил, уставившись на грудастые фигуры, которые Робертито цветными мелками рисовал на стенах; в полутьме видно было, как вращаются белки его глаз, испуганных и блестящих, а ногти на пальцах, крепко обхвативших стакан с пивом, казались фосфоресцирующими. Набрался, значит, храбрости, подумала Кета. Она не удивилась, ей не было до него никакого дела. Но зато Марта, оказавшись в танце с нею рядом, прошипела: видишь? уже негров обслуживаем. Она попрощалась с юношей, вернулась в бар, когда Робертито подавал самбо еще стакан. По углам сидело и стояло много мужчин без пары, и не слышно что-то было Мальвины. Кета прошла через пятачок танцевальной площадки, чья-то рука ущипнула ее за бедро, и она улыбнулась, не замедляя шагов, но еще не успела подойти к стойке, как перед нею возникло опухшее лицо, угасшие старческие глаза под лохматыми бровями: пойдем потанцуем.
– Сеньорита обещала этот танец мне, – раздался сдавленный голос самбо: он стоял у самой лампы, и пятна зеленого света лежали у него на плече.
– Я первый подошел, – нерешительно сказал опухший, меряя взглядом громоздкую неподвижную фигуру. – Ну, ладно, так уж и быть.
– Ничего я ему не обещала, – сказал Кета, беря его за руку. – Пойдем потанцуем.
Она вытянула его в круг, смеясь про себя – сколько же пива выдуешь, чтоб отважиться? – думая: я тебе покажу, увидишь, увидишь, уже видишь. Она танцевала и чувствовала, что партнер ее топчется не в такт музыке, а глаза его с тревогой следят за негром, который, оставшись стоять, с преувеличенным вниманием рассматривал рисунки на стенах и посетителей в углах. Танец кончился, и бровастый отпустил ее. Уж не боишься ли ты негритоса, они могут еще потанцевать. Пусти, уже поздно, мне пора. Кета засмеялась, разжала пальцы, села на табурет у стойки, и уже через мгновение самбо был рядом. Она не взглянула на него, но и так представила себе исковерканное смущением лицо, раскрывающиеся толстые губы.
– Не пришла еще моя очередь? – сказал густой, тягучий голос. – Не потанцуете со мной?
Она серьезно взглянула ему в глаза и увидела, как он сейчас же потупился.
– А что будет, если я расскажу все Кайо? – сказала Кета.
– А его нет, – не поднимая глаз, не шевелясь, сказал он. – Уехал в южные департаменты.
– Вот он приедет, а я ему расскажу, что ты приходил ко мне. Тогда что? – терпеливо продолжала допытываться Кета.
– Не знаю, – мягко сказал он. – Ничего, наверно, не будет. Или уволит меня. Или посадит. Или еще что-нибудь, похуже.
Он на секунду вскинул глаза, словно взмолившись: плюнь в меня, только ему не говори, подумала Кета, и снова понурился. Так, значит, он наврал, что полоумная его прислала?
– Нет, это правда, – сказал самбо, а потом, поколебавшись и так и не поднимая голову, добавил: – Только оставаться здесь не приказывала.
Кета расхохоталась, и самбо поднял голову, устремил на нее глаза, полыхающие огнем, белые, полные надежды, испуганные. Подоспевший Робертито взглядом спросил у Кеты, все ли в порядке, и она так же молча ответила: да.
– Если хочешь поговорить, надо что-нибудь заказать, – сказала она. – Мне – вермут.
– Сеньорите – вермут, – повторил Самбо. – А мне – то же, что раньше.
Кета поймала кривую ухмылку удалявшегося Робертито, перехватила сердитый взгляд Марты из-за плеча партнера, увидела прикованные к ней и к самбо жаждущие и негодующие глаза сидевших по углам одиночек. Робертито принес пиво и рюмочку, где под видом вермута был жидкий чай, а уходя, подмигнул ей, как бы говоря: сочувствую – или – я тут ни при чем.
– Я понимаю, – прошептал самбо. – У вас ко мне никакой симпатии.
– Симпатии никакой, – сказал Кета. – Но не потому, что ты – черный, на это мне плевать, а потому, что прислуживаешь этому поганцу Кайо.
– Я никому не прислуживаю, – сказал самбо спокойно, – я его водитель.
– Охранник, лучше скажи, – сказала Кета. – Тот, второй, что был с тобой в машине, – он ведь из полиции? А ты? Тоже?
– Иностроса – да, – сказал самбо. – А я – просто водитель.
– Если захочется, можешь передать своему Кайо, что я назвала его поганцем, – улыбнулась Кета.
– Это ему будет неприятно, – медленно, с уважительной насмешкой сказал он. – Дон Кайо – человек гордый. Я ему не скажу, как вы его обозвали, а вы не говорите, что я был тут, вот и будем квиты.
Кета рассмеялась: огненные, белые, алчные, чуть оживившиеся, но по-прежнему неуверенные и боязливые глаза. Как его зовут? Амбросио Пардо, а вот он знает: Кета.
– А правда, что Кайо-Дерьмо и наша Ивонна – теперь компаньоны? – сказала Кета. – И что твоему хозяину принадлежит все это?
– Откуда ж мне знать, – пробормотал он и добавил настойчиво, с мягкой непреклонностью: – Он мне не хозяин, а начальник.
Кета отпила холодного чаю, поморщилась, быстро выплеснула содержимое рюмки на пол, схватила стакан и под изумленным взглядом Амбросио отхлебнула пива.
– Знаешь, что я тебе скажу, – сказала Кета. – Насрать мне на твоего хозяина. Я его не боюсь. Насрать мне на Кайо-Дерьмо.
– Разве только понос случится, – пробормотал он. – Лучше не будем о доне Кайо говорить, это опасное дело.
– Ты спишь с этой полоумной? С Ортенсией? – сказала Кета и увидела, как у него в глазах метнулся смертельный ужас.
– Да как вам такое в голову могло прийти? – ошеломленно пробормотал он. – Даже в шутку не надо так говорить.
– А как же ты со мной хочешь спать? – сказала Кета, отыскивая взглядом его ускользавшие глаза.
– Ну, потому что вы… – начал Амбросио и осекся, сконфуженно понурился. – Хотите еще вермуту?
– Сколько же пива ты выпил для храбрости? – забавляясь, сказала Кета.
– Много. Со счета сбился. – Кета по голосу поняла, что он улыбается и чувствует себя свободней. – Не только пиво, и «капитанов» пил. Вчера вечером я тоже приходил, но войти не вошел. А сегодня вошел, потому что сеньора велела вам передать.
– Ладно, – сказала Кета. – Закажи мне еще вермут и иди. Иди и не возвращайся.
Амбросио перекатил белые шары глаз на Робертито: еще порцию вермута, дон. Кета видела, что Робертито едва сдерживает смех, видела, как издали на нее с интересом смотрят Ивонна и Марта.
– Негры обычно хорошо танцуют. Надеюсь, ты – тоже, – сказала Кета. – Выпало тебе раз в жизни такое счастье – потанцевать со мной.
Он помог ей слезть с табурета и глядел на нее по-собачьи благодарными, едва не плачущими глазами. Он обнял ее за талию, но не сделал даже попытки прижаться. Он не умел или не мог танцевать: просто шагал не в такт. Кета чувствовала его учтивые пальцы на своей спине и руку, которой он поддерживал ее с боязливой осторожностью.
– Ты что меня так притиснул? – пошутила она. – Танцуй, как приличный.
Но он не понял и, вместо того чтобы придвинуться, отстранился, пробормотав что-то невнятное, еще на несколько миллиметров. Господи, что за трус, почти растроганно подумала Кета. Пока она вертелась и извивалась, припевая, поводя руками, он неуклюже топтался на месте, и лицо у него было такое же смешное, как те карнавальные маски, которые Робертито развесил под потолком. Вернулись в бар, и она заказала еще вермут.
– Большого дурака ты свалял, что сюда явился, – участливо сказала Кета. – Ивонна, или Робертито, или еще кто-нибудь обязательно расскажет Кайо, и ты погоришь.
– Да? – Перекосив лицо в нелепой гримасе, он огляделся по сторонам. Дурак, подумала Кета, все предусмотрел, кроме этого, ты ему испортила вечер.
– Конечно, – сказала она. – Разве не знаешь, что все перед ним трясутся еще хуже, чем ты? Не знаешь, что он вроде бы совладелец заведения? Как же у тебя мозгов не хватило додуматься?