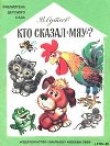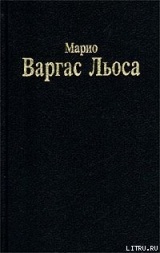
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)
VI
Ну что, Савалита, был ты счастлив в первые месяцы брака, когда не только не виделся с родителями, с Чиспасом и Тете, но и ничего про них не знал? Наверно, был, думает он, раз позабылись и нужда и долги, а ведь черные полосы в жизни никогда не забываются. Наверно, был, думает он. Наверно, эта монотонная и трудная жизнь, незаметно лишившаяся и честолюбивых порывов, и восторга, и страсти, эта безбурная обыкновенность во всем, включая постель, и была счастьем. С самого начала выяснилось, что в пансионе им жить плохо. Донья Лусия позволила Ане готовить на кухне с тем условием, что она не будет ей мешать, и потому они ели очень рано или совсем поздно. Очень скоро начались ссоры из-за ванной, из-за гладильной доски, из-за щетки и веника, из-за простыней и занавесок. Ана попыталась опять поступить в больницу, но место ее уже было занято, и пришлось ждать два или три месяца, пока она не устроилась на полставки в клинику Дельгадо. Тогда начали подыскивать квартиру. Возвращаясь из «Кроники», Сантьяго заставал Ану над разложенными по группам объявлениями и, раздеваясь, выслушивал ее отчет о том, где она успела побывать и что ей удалось посмотреть. Она находила в этом отраду, Савалита: отмечать в газете объявления, звонить по телефону, задавать вопросы, торговаться, а после клиники – обегать пять-шесть адресов. А их нынешнюю квартиру в Порте снял все-таки он. Сантьяго брал у кого-то интервью и, поднимаясь из Бенавидеса по улице Диагональ, обнаружил ее: красноватый фасад дома, крошечные домики, выстроившиеся по периметру посыпанного гравием треугольника, зарешеченные оконца, балкончики, клумбы гераней. Висело объявление: сдается внаем. Они с Аной долго колебались: восемьсот солей было дороговато. Но им так надоел пансион и распри с доньей Лусией, что они решились. Постепенно обставили две пустые комнатки купленной в рассрочку мебелью.
Если Ана работала с утра, Сантьяго, проснувшись часов в двенадцать, долго читал в кровати, потом грел себе уже приготовленный завтрак, уходил в газету или шел что-нибудь купить. Ана возвращалась к трем, они обедали, в пять он уходил на службу до двух часов ночи. Ана листала журналы, слушала радио, играла в карты с немкой-соседкой: та жила одна, в погожие дни загорала в купальнике и рассказывала о себе нечто совершенно несусветное: то она была агентом Интерпола, то политэмигранткой, то выполняла в Перу таинственные задания каких-то европейских концернов. По субботам, Савалита, у тебя был выходной, проходивший по уже установившемуся канону: они просыпались поздно, обедали дома, шли в кино на дневной сеанс, потом гуляли в парке Некочеа или по проспекту Пардо (о чем мы говорили, думает он, о чем говорим?), стараясь выбирать самые малолюдные места, чтоб не встретиться с Чиспасом, с Тете или с родителями, вечером ужинали в каком-нибудь дешевом ресторанчике («Холмик», думает он, а в конце месяца – в «Гамбринусе»), а потом опять шли в кино – на какую-нибудь премьеру, если хватало денег. Поначалу они старались, чтоб выходило поровну: днем – мексиканская мелодрама, вечером – вестерн или детектив. А сейчас – только мексиканские, думает он. Ты стал уставать, но в кино ходил, чтобы не ссориться с Аной или потому что тебе вдруг сделалось безразлично что смотреть? В одну из суббот съездили в Ику, повидаться с ее родителями. В гости не ходили и к себе не приглашали, друзей у них не было.
Ты больше не бывал с Карлитосом в «Негро-негро», Савалита, не смотрел за бесплатно шоу в ночных клубах, не ходил в бордели. Его и не приглашали и не настаивали, а однажды стали шутить: ты остепенился, Савалита, ты обуржуазился. Была ли счастлива Ана? Счастлива ли она сейчас, ты счастлива, Анита? И он слышит голос в темноте после того, как они разомкнули объятия: конечно счастлива, ты не пьешь, не шляешься по бабам, конечно я счастлива, милый. Однажды Карлитос явился в редакцию пьяный – сильней, чем всегда, присел на краешек стола Сантьяго и стал глядеть на него с молчаливым укором: только на этой могильной плите, Савалита, вы с ним виделись и разговаривали. Через несколько дней Сантьяго позвал его на обед. И Китаянку возьми, сказал он, думая, что скажет, что сделает Ана: нет, с Китаянкой они в ссоре. Он пришел один, и обед тянулся напряженно и тягостно, Карлитосу было явно не по себе, Ана поглядывала на него недоверчиво, и разговор замирал, не успев завязаться. Больше Карлитос у них не бывал. Клянусь, что навещу тебя, думает он.
Мир тесен, Савалита, но Лима велика, а Мирафлорес бесконечен: шесть или восемь месяцев они жили в одном квартале с родителями, с братом и сестрой и ни разу не встретились. Однажды вечером, когда он в редакции дописывал какую-то заметку, его тронули за плечо: а-а, конопатый, привет. Они пошли на Кольмену выпить кофе.
– В субботу у нас с Тете свадьба, – сказал Попейе. – Я затем и пришел.
– Знаю, читал в газете, – сказал Сантьяго. – Поздравляю, конопатый.
– Тете хочет, чтобы ты был ее свидетелем на регистрации, – сказал Попейе. – Ты ведь не откажешься, правда? Вы с Аной должны быть на свадьбе.
– Разве не помнишь, какая сцена разыгралась тогда у нас дома? – сказал Сантьяго. – Тебе разве неизвестно, что я с того дня ни с кем не вижусь?
– Да все уже давно улажено, мы уговорили сеньору Соилу. – Красноватое лицо Попейе осветилось оптимистической братской улыбкой. – Она тоже хочет, чтобы вы пришли. Ну, про отца я уж не говорю. Все хотят вас видеть и помириться наконец. Вот посмотришь, они будут вокруг Аны на цыпочках ходить.
Они ее простили, Савалита. Дня не проходило, чтобы дон Фермин не спросил, где же Сантьяго, отчего он у нас не бывает, отчего он обиделся на нас, чтобы не упрекнул мать, а иногда по ночам приезжает на проспект Такны и сидит в машине напротив редакции, поджидая тебя. Должно быть, много разговоров и споров, и много слез пролила мама, пока не свыклась с мыслью о том, что ты женат и на ком женат. Видишь, Анита, они тебя простили: давайте простим ей, что окрутила нашего мальчика, простим ей низкое происхождение и цвет кожи: пусть приходит, ничего.
– Сделай это ради Тете и, главное, ради отца, – настаивал Попейе. – Ты же знаешь, как он тебя любит. И он и Чиспас. Поверь мне, старина. Он только сегодня сказал мне: пусть академик бросит выпендриваться и приходит.
– Я с радостью буду свидетелем Тете. – Видишь, Анита, и Чиспас тебя простил: спасибо, Чиспас. – Только скажи заранее, где и что подписать.
– И надеюсь, вы с Аной будете у нас бывать, – сказал Попейе. – На нас-то тебе обижаться не приходится, мы ведь тебе ничего плохого не сделали, верно? И Ана нам очень понравилась.
– Тем не менее на свадьбу мы не придем, конопатый, – сказал Сантьяго. – Я вовсе не сержусь ни на стариков, ни на Чиспаса. Но еще одной такой сцены мне не надо.
– Ну-ну-ну, не лезь в бутылку, – сказал Попейе. – У доны Соилы, как и у каждого, есть свои предрассудки, но ведь она – добрейшей души человек. Ты очень огорчишь и обидишь Тете, если не придешь.
Попейе уже ушел из фирмы, куда поступил по окончании университета, и вместе с тремя приятелями открыл собственное дело, да ничего, помаленьку, грех жаловаться, уже появились заказчики. Но сильней всего он занят не архитектурой и даже не невестой – тут он игриво толкнул тебя в бок, Савалита, – а политикой. Все время сжирает, верно ведь?
– Политика? – заморгал Сантьяго. – Ты, конопатый, встрял в политику?
– «Белаунде[70]70
Белаунде Терри Фернандо (род. в 1912 г.) – лидер созданной в 1956 г. правоцентристской партии «Народное действие».
[Закрыть] – для всех и каждого!» – засмеялся Попейе, показывая на значок у себя в петлице. – Ты не знал? Я даже попал в региональный комитет «Народного действия». Что ж ты, газет не читаешь?
– Про политику не читаю, – сказал Сантьяго. – Ничего не знал.
– Профессор Белаунде преподавал у нас на архитектурном, – сказал Попейе. – На следующих выборах он пройдет обязательно. Потрясающий человек.
– А что говорит твой отец? – сказал Сантьяго. – Ведь он по-прежнему представляет в сенате одристов?
– У нас в семье – демократия, – засмеялся Попейе. – Иногда мы, конечно, с ним спорим, но остаемся друзьями. Так ты не симпатизируешь Белаунде? Нас ведь ругают леваками, ты по одному этому должен был бы поддержать его. Или ты все еще коммунист?
– Уже нет, – сказал Сантьяго. – Я – никто и ничего не желаю знать о политике. Она мне вот где, твоя политика.
– Очень зря, – пожурил его Попейе. – Если все будут думать как ты, перемены в стране никогда не наступят.
Когда же вечером он рассказывал об этом Ане, она слушала его очень внимательно, и глаза ее горели любопытством: ну, разумеется, Анита, они ни на какую свадьбу не пойдут. Нет, она-то, конечно, не пойдет, а вот он должен быть: ведь это твоя родная сестра, милый. А потом еще скажут, что это она его не пустила, и еще пуще ее возненавидят, нет, ему непременно надо пойти. Наутро – Сантьяго еще лежал в постели – на пороге неожиданно появилась Тете: волосы накручены на бигуди и покрыты шелковой косынкой, стройная, в брючках, и очень радостная. Казалось, Савалита, что она бывает здесь ежедневно: она хохотала, глядя, как ты зажигаешь газ, чтобы согреть завтрак, она внимательнейшим образом обследовала обе комнатки, сунула нос в книги и даже дернула цепочку слива, проверяя, как действует унитаз. Все ей очень понравилось: тут у вас все домики как игрушечки, такие одинаковые, разноцветные, такие чистенькие, такие хорошенькие.
– Пожалуйста, не устраивай тут беспорядка, – сказал Сантьяго. – Попадет от твоей невестки мне. Сядь, поразговаривай со мной.
Тете присела на маленький шкаф с книгами, но продолжала с жадностью осматриваться по сторонам. Ты любишь Попейе? Ну, конечно, что за идиотские вопросы, неужели бы она пошла за него замуж, если бы не любила? Поживут немного у родителей конопатого, пока не достроят дом, где те купили им квартиру. Медовый месяц? Сначала в Мексику, потом – в США.
– Пришли открыточек, – сказал Сантьяго. – Всю жизнь мечтал путешествовать и дальше Ики никуда не ездил.
– Ты даже не поздравил маму с днем рождения, а она так плакала, что мы чуть не утонули в слезах, – сказала Тете. – Но все же надеюсь, в воскресенье вы с Аной будете у нас.
– Придется тебе удовольствоваться тем, что я буду твоим свидетелем, – сказал Сантьяго. – Ни в церковь, ни домой мы не придем.
– Да брось ты свои глупости, академик, – со смехом сказала Тете. – Я уговорю Ану, и ты останешься в дураках, ха-ха-ха! И сделаю так, что она придет на мой журфикс, вот увидишь.
И действительно, к вечеру Тете появилась у них снова, и Сантьяго, уходя в «Кронику», видел, что они болтают как самые закадычные подруги. Когда же он вернулся, сияющая Ана рассказала ему, что они провели вместе весь вечер, что Тете ужасно симпатичная и что она ее уговорила. Но ведь правда же, милый, будет лучше, если они помирятся с его родителями? Разве не так?
– Нет, – сказал Сантьяго. – Не так. Не будем об этом.
Но все оставшиеся дни они спорили об этом: ну, милый, ты набрался наконец духу, мы идем? Ана ведь обещала Тете, что они придут, милый, и в субботу вечером они поссорились всерьез и спать легли в ссоре. В воскресенье рано утром Сантьяго зашел в кафе на углу позвонить.
– Где вы застряли? – сказала Тете. – Ана обещала прийти в восемь помочь мне. Попросить Чиспаса, чтоб заехал за вами?
– Мы не придем, – сказал Сантьяго. – Я тебя целую, Тете. Не забудь про открыточки.
– Ты думаешь, идиот, я у тебя в ногах валяться буду? – сказала Тете. – Ты просто – закомплексованный! Перестань дурить и приезжайте немедленно, или я тебя больше знать не хочу.
– Не злись, а то подурнеешь, а на свадебных фотографиях ты должна быть красивой, – сказал Сантьяго. – Целую тебя, Тете. Загляните к нам, когда вернетесь.
– Что ты строишь из себя ломаку-кривляку? – успела еще крикнуть Тете в трубку. – Приходите с Аной, слышишь? Не валяй дурака, будет чупе с креветками.
Потом он зашел в цветочный магазин на Дарко и послал Тете корзину роз. От всей души желаем сестре и брату счастья, Ана и Сантьяго, думает он. Ана дулась на него целый день и до ночи с ним не разговаривала.
– Не из-за денег? – сказала Кета. – А из-за чего же? Ты боялся его?
– И боялся временами, – сказал Амбросио. – Но и жалел иногда тоже. Я был ему благодарен, я его очень уважал. Даже дружба у нас была, хоть я и понимал, кто он и кто я. Знаю, вы мне не верите, но это так. Честное слово.
– И ты не стыдился? – сказала Кета. – Людей? Друзей?
В полутьме она заметила его горькую улыбку; окно было открыто, но ветра не было, и в неподвижной надышанной духоте комнаты его голое тело покрылось потом. Кета чуть заметно отодвинулась, чтобы не касаться его.
– Друзья у меня дома остались, здесь ни одного так и не завел, – сказал Амбросио. – Приятели были – вот вроде того малого, что возит теперь дона Кайо. Или Иполито, тоже охранник. Они и не знали ничего. А и узнали бы – мне наплевать. Для них тут ничего такого не было. Помните, я вам рассказывал, что Иполито выделывал над арестованными? Чего же мне было стыдиться? Перед кем стыдиться-то?
– А я? – сказала Кета.
– И перед вами тоже, – сказал Амбросио. – Вы же не станете звонить об этом?
– Почему это не стану? – сказала Кета. – Ты же мне не платишь, чтоб я хранила твои тайны.
– Почему? Потому, что вы не хотите, чтоб знали, что я к вам хожу, – сказал Амбросио. – Потому и будете молчать.
– А если я все расскажу полоумной? – спросила Кета. – Что бы ты стал делать, если б она разнесла это по всему городу?
В полутьме раздался его смех – тихий и вежливый. Он лежал на спине и курил, и Кета смотрела, как плавают в неподвижном воздухе кольца дыма. Не слышно было голосов, и под окнами не проносились машины, и только тикали часы на ночном столике – тиканье это то пропадало, то вновь воспринималось слухом.
– Больше бы не пришел никогда, – сказал Амбросио. – И вы потеряли бы выгодного клиента.
– Да, считай, уже потеряла, – сказала Кета. – Раньше ты приходил каждый месяц-два. А сейчас? Сколько ты не был у меня? Пять месяцев? Больше? Это почему? Из-за Златоцвета?
– Полежать с вами немножко – это две недели работы, – объяснил Амбросио. – Я так шиковать не могу. Да и вас не всегда застанешь. В этом месяце я три раза приходил, а вас все не было.
– А что будет, если он узнает, что ты у меня бываешь? – сказала Кета. – Златоцвет.
– Вы его не за того принимаете, – поспешно и серьезно сказал Амбросио. – Он же не убогий какой. И не самодур. Он – настоящий сеньор, я же вам говорил.
– Нет, ну все-таки, что будет, если он узнает? – настаивала Кета. – Что он с тобой сделает, если я вот встречу его у полоумной, в Сан-Мигеле, да и скажу: так и так, Амбросио тратит на меня все, что от тебя получает.
– Вы же видите только одну сторону, потому и ошибаетесь на его счет, – сказал Амбросио. – А у него и другая есть. Он не деспот. Он – добрый, он – сеньор с головы до ног. Он уважение вызывает.
Кета засмеялась громче, взглянула на Амбросио: он закуривал новую сигарету, и вспыхнувшая спичка осветила на мгновение умиротворенные глаза, спокойно-серьезное лицо, блестящий от испарины лоб.
– Он тебя переменил, – мягко сказала она. – Ты с ним не за деньги, не из страха. Тебе нравится.
– Мне нравится быть его водителем, – сказал Амбросио. – У меня есть комната, получаю я больше, все меня уважают.
– А когда он спускает штаны и говорит: «Давай приступай к своим обязанностям» – тоже нравится? – засмеялась Кета.
– Все не так, как вы думаете, – медленно повторил Амбросио. – Это вы все напридумывали. Все совсем не так.
– А если тебе противно, не хочется? – сказала Кета. – Вот со мной так бывает, но все равно – ложусь, хоть и нет охоты, и мне все равно, но ведь от меня ничего особенного не требуется. А ты-то как?
– От этого горько бывает, – пробормотал Амбросио. – И мне, и ему. Вы что, думаете, мы – каждый день? Иногда даже и не каждый месяц. Это когда обычно у него что-нибудь скверное случается. Я уж знаю. Стоит ему только в машину сесть, сразу смекаю: что-то у него стряслось. Бледный такой становится, глаза западают, и голос такой странный, словно бы и не его. В Анкон, он говорит. Или: поедем в Анкон. Или: отвези меня в Анкон. Я уже знаю. Всю дорогу молчит, как немой. Вы бы его увидали в такие минуты, подумали бы: у него кто-то умер или ему сказали, что жить ему до утра осталось.
– Ну, а что ты чувствуешь, когда он говорит «в Анкон»? – сказала Кета. – Тебе-то это как?
– Вам противно ведь, когда дон Кайо велит: «сегодня вечером приезжай»? – очень тихо спросил Амбросио. – Когда хозяйка вас зовет?
– Теперь уже нет, – засмеялась Кета. – Полоумная стала моей подругой. Мы с нею над ним смеемся. Но ты, наверно, думаешь: вот мука моя начинается? И ты, наверно, его ненавидишь?
– Я думаю о том, что будет, когда мы приедем в Анкон, и мне тошно делается, – пожаловался Амбросио, и Кета увидела, что он прикоснулся к животу. – Вот здесь нехорошо становится, крутить начинает. Мне тогда страшно и жалко, и злоба такая поднимается. И я думаю: хоть бы сегодня одни разговоры были.
– Разговоры? – засмеялась Кета. – У вас и разговоры бывают?
– Он входит, лицо как у покойника, задергивает шторы, наливает, – тягуче и жалобно сказал Амбросио. – И уж знаю: что-то его там грызет, сосет, точит. Он мне рассказывал, понимаете? Раз даже видел, как он плачет.
– Давай поскорей вымойся, – нараспев выговорила Кета, глядя на него. – И что же он делает? И что тебя заставляет делать?
– Он становится совсем белый, и голос у него обрывается, – пробормотал Амбросио. – Он садится и мне говорит «садись». Спрашивает о всякой всячине, мы разговариваем. Ну, больше-то он говорит.
– Он тебе говорит о бабах, рассказывает всякую похабень, показывает фотографии, журнальчики всякие, да? – допытывалась Кета. – Мне вот только лечь да ноги раскинуть. А тебе-то, тебе-то?
– Я ему рассказываю о себе, – жалобно проговорил Амбросио. – Как я в Чинче жил, про детство, про мамашу. Про дона Кайо он все выспрашивал. И вообще обо всем. Я начинаю чувствовать, будто мы с ним – друзья. Понимаете?
– И страх твой проходит, и неловкость, – сказала Кета. – Он играет с тобой, как кошка с мышкой. Ну, а ты-то, ты-то?
– Он о себе говорит, о своих заботах, – бормотал Амбросио. – И пьет, пьет. И я тоже. И по лицу вижу – что-то его точит, покоя не дает.
– А ты с ним на «ты»? – сказала Кета. – В эти-то минуты отваживаешься?
– С вами-то не отваживаюсь, хоть и лежу в этой постели второй год, – пожаловался Амбросио. – Он выкладывает все свои печали, обиды, – и про дела, и про политику, и про детей. Говорит, говорит, и словно бы вижу все, что у него в душе творится. Он говорит, ему стыдно, понимаете?
– А почему он плачет? – сказала Кета. – Оттого, что ты?..
– И так часами, часами, – продолжал Амбросио. – Он говорит, я слушаю, потом я говорю, а слушает он. И все пьем, пьем, пьем, пока не чувствую, что больше ни единого глоточка в меня не влезет.
– Значит, он тебя накачивает, – сказала Кета. – Иначе не возбудит.
– Он подсыпает что-то в стакан, – прошептал Амбросио слабо, еле слышно, и Кета взглянула на него: он лежал, прикрыв лицо сгибом локтя, словно загорал на пляже. – В первый раз я заметил это, и он понял, что я заметил. И понял, что я испугался. Что это такое, дон?
– Ничего, это называется «йобимбина», – сказал дон Фермин. – Смотри, я и себе насыпал. Пей смело, твое здоровье.
– А иногда ничего не помогает – ни зелье это, ни выпивка, ничего, – жаловался Амбросио. – И он это понимает, я же вижу. Глаза у него делаются такие, что заплакать впору, и голос. И пьет, пьет, пьет. И я видел, как он начинал плакать. Понимаете? Он тогда говорит «уходи» и запирается у себя в комнате. И там разговаривает сам с собой, иногда даже кричит. Он от стыда словно бы ума решается.
– Он сердится на тебя? Ревнует? – сказала Кета. – Он думает, что…
– Ты не виноват, не виноват, – простонал дон Фермин. – И моей вины здесь нет. Мужчину к мужчине не тянет, я знаю.
– И становится на колени, понимаете? – простонал Амбросио. – И жалуется, и чуть не плачет. Дай мне, говорит, быть тем, кто я есть, дай мне быть блядью, Амбросио. Понимаете? Он унижается, он страдает. Позволь мне коснуться тебя, позволь тебя поцеловать – это он – мне, он – меня. Понимаете? Хуже бляди. Понимаете?
Кета медленно засмеялась, перевернулась на спину, вздохнула.
– И тебе его жалко, – пробормотала она с глухой злобой. – А мне жаль тебя.
– Бывает, что и так тоже – ничего, – простонал еле слышно Амбросио. – Я думал, он рассердится, разъярится, скажет: а пошел-ка ты. Но нет. Да-да, говорит, ты прав, иди, оставь меня одного, приедешь через два часа. А иногда – или через час.
– Ну, а когда ты можешь его ублажить? – сказала Кета. – Он рад, да? Лезет за бумажником и…
– Тогда ему тоже стыдно, – простонал Амбросио. – Он уходит в ванную, запирается и сидит там. А я – в другую, душ принимаю, намыливаюсь. Там и вода горячая, и все. Возвращаюсь, а его все нет. Он часами, часами купается, моется, одеколоном обливается. Выходит весь белый и – ни словечка. Скажет только: спускайся, жди в машине, я сейчас. Я выйду в центре, скажет, не хочу, чтобы мы вернулись домой вместе. Стыдится, понимаете?
– И не ревнует? – сказала Кета. – Думает, что с бабами ты не спишь?
– Он никогда меня об этом не спрашивает, – сказал Амбросио, открыв лицо. – Ни что я в выходной делаю, и вообще ничего, разве только сам расскажу. Но я-то знаю, что он почувствует, если узнает, что у меня бывают женщины. Но это не ревность, понимаете? Он стыдится, стыдится и боится, что узнают. Он ничего мне не сделает и не рассердится даже. Скажет только «уходи», вот и все. Я знаю, что это за человек. Он не из тех, кто может обругать там, оскорбить, он просто не умеет этого. Он будет страдать, и все равно – ничего. Понимаете? Он – настоящий сеньор, а не то, что вы думаете.
– Он мне отвратительней, чем Кайо-Дерьмо, – сказала Кета.
Она была уже на восьмом месяце, когда однажды ночью почувствовала, что болит спина, и мрачный спросонья Амбросио растер ее, помассировал. Как огнем жгло, а слабость была такая, что, когда захныкала Амалита-Ортенсия, она расплакалась от одной мысли, что надо подняться и подойти к ней. А когда села на кровати, увидела, что и простыни и матрас – в густо-коричневых пятнах.
– Она подумала, что ребеночек умер у нее в утробе, – говорит Амбросио. – Почувствовала недоброе, заплакала и заставила меня сейчас же вести ее в больницу. Да не бойся, не бойся, все будет в порядке.
Опять выстояли обычную очередь, разглядывая коршунов на крыше морга, а доктор сказал: давай-ка мы тебя положим прямо сейчас. Почему, доктор, из меня потекло так? А он: мы должны будем немножко ускорить роды. Как это ускорить, доктор? А он: ничего-ничего, это неопасно.
– Вот она и осталась в больнице, – говорит Амбросио. – Я принес ее вещи, за девчонкой попросил присмотреть донью Лупе, а сам поехал в рейс. Днем опять заглянул к ней. Ее к тому времени всю уже искололи, живого места не было. Положили Амалию в общую палату: кровати и топчаны стояли там так тесно, что навещавшим больных и присесть было негде. Все утро Амалия смотрела в широкое окно на крыши квартала, тянувшегося за моргом. Донья Лупе с Амалитой-Ортенсией пришла ее проведать, но сиделка сказала, чтоб девочку больше не приводила. Она попросила донью Лупе присмотреть, как будет время, за Амбросио, и та сказала: о чем разговор, конечно, я ему и обед сготовлю.
– Сестра мне сказала, что ей вроде бы должны операцию делать, – говорит Амбросио. – Это опасно? Нет, не опасно. Обманули меня, понимаете, ниньо?
От уколов стало не так больно, и жар спал, но все равно целый день пачкала она простыни чем-то коричневым, так что сиделка трижды меняла ей белье. Тебе, кажется, операцию будут делать, сказал ей Амбросио. Она испугалась: нет, не надо, зачем это. Да нужно, нужно, глупая. Тогда она заплакала, а все больные в палате смотрели на них.
– Она до того расстроилась, что я стал ее утешать, выдумывать всякую всячину: сегодня, мол, сговоримся и купим фургончик у Панты. Но она и не слушала меня. Вся опухла от слез.
Ночью одна из соседок все кашляла, не давала Амалии заснуть, а другая, повернувшись к ней в своем гамаке, все материла во сне какую-то женщину. Она их упросит, она их умолит: колите сколько угодно, только операцию не надо, и доктор ее послушает, ведь я в прошлый раз, доктор, так намучилась. Утром всем принесли кофе в жестяных кружках, а ей – нет. Потом пришла сестра и, ни слова не говоря, сделала ей укол. Амалия стала ее просить: позовите доктора, ей надо с ним поговорить, она его уговорит, но сестра пропустила это мимо ушей, только сказала: думаешь, они для своего удовольствия будут тебя резать? Потом другая сестра вытянула ее топчан к дверям, ее стали перекладывать на каталку, и тут она вдруг на крик стала звать мужа. Сестры ушли, а пришел рассерженный доктор: это что такое? ты что тут шумишь? Она ему все рассказала – про то, как рожала в Лиме, как настрадалась, а он только кивал: ладно, ладно, успокойся. Тут появилась давешняя сестра: хватит плакать, муж к тебе пришел.
– Она так в меня и вцепилась, – говорит Амбросио. – Не дамся резать, не хочу. Тут и у доктора терпенье лопнуло. Или согласишься, сказал, или сейчас же тебя выпишу. Что мне было делать, ниньо?
Амбросио и еще одна сестра – она была годами постарше, подобрее первой, говорила ласково – стали ее уговаривать, что, мол, это для ее же блага и для ребеночка нужно. Переложили ее на каталку, повезли. Амбросио шел следом, до самых дверей операционной, все говорил что-то, а она и не слышала его.
– Она что-то предчувствовала, – говорит Амбросио. – А иначе почему бы ей так пугаться и отчаиваться.
Лицо Амбросио скрылось за створкой закрывшейся двери. Она видела, как доктор надевает передник и разговаривает с другим человеком в белом, в белой шапочке и в маске. Сестры переложили ее с каталки на стол. Поднимите мне голову, задохнусь, взмолилась она, но они не послушались: тс-с, лежи тихо, все хорошо. Оба мужчины в белом продолжали разговаривать, а сестры направили ей в лицо лампу, так что пришлось жмуриться, а через минуту почувствовала, что ее опять колют. Потом у самого своего лица увидела лицо доктора и узнала его голос: «считай раз, два, три». Она считала, и голос делался все слабей и наконец замер.
– Мне ведь работать надо было, – говорит Амбросио. – Ее взяли в операционную, а я ушел. А донья Лупе мне сказала: «Дурень, что ж ты не дождался, когда кончится», и тогда я вернулся в больницу.
Ей казалось, что все вокруг и она сама мягко покачивается, плывет, как на воде, и с трудом узнала печальные лица Амбросио и доньи Лупе. Хотела спросить – кончилась операция? – хотела сказать – ничего не болит, – но от слабости не могла пошевелить губами.
– Там и сесть-то негде было, – говорит Амбросио. – Я стоял столбом и курил, все, что было, выкурил. Потом донья Лупе пришла, тоже стала ждать, а ее все не вывозили из операционной.
Она не шевелилась: казалось, что при малейшем движении в тело вопьются тысячи игл. И чувствовала она не боль, а тяжкое, покрывающее тело потом ожидание боли и слабость, и слышала, словно из дальней дали, голоса Амбросио, доньи Лупе и даже голос сеньоры Ортенсии: родила? мальчик или девочка?
– Наконец пришла сестра: идите отсюда, – говорит Амбросио. – Потом вернулась с чем-то. Что такое? Потом появилась еще одна сестра. Ребенка не спасли, сказала, но мать, может быть, выкарабкается.
Ей чудилось: плачет Амбросио, донья Лупе произносит слова молитвы, какие-то люди снуют вокруг нее и что-то говорят. Кто-то наклонился над нею, и она ощутила прикосновение чьих-то губ, тепло дыхания на щеке. Они думают, ты умрешь, что ты уже умерла, подумала она и вдруг несказанно удивилась и очень пожалела всех.
– Может быть, выкарабкается, а может быть, и нет: так это надо было понимать, – говорит Амбросио. – Донья Лупе стала на колени, начала молиться. А я прислонился к стене.
Она не смогла бы ответить, как долго испытывала это удивление и жалость, сколько времени продолжала слышать не только голоса, но и долгую, обретшую звучание, звенящую тишину. Ей по-прежнему казалось, что она покачивается на воде, то понемногу погружаясь, то вновь всплывая, и тут внезапно увидела перед собой лицо Амалиты-Ортенсии и услышала: вытирай ноги как следует.
– Потом пришел доктор, положил мне руку сюда вот, на плечо, – говорит Амбросио. – Мы сделали все возможное, чтобы спасти твою жену, сказал, и что, видно, Бог не захотел, и что-то еще, и что-то еще.
Ей показалось, что ее куда-то тянут, что она сейчас задохнется, и подумала: больше не буду смотреть, не буду говорить, она не будет больше двигаться, а так и поплывет. Как же ты будешь слышать тогда, что уже прошло, дура, подумала она, и снова ощутила страх и жалость.
– Бдение было там же, в больнице, – говорит Амбросио. – Пришли все водители из обеих компаний, и даже сукин сын дон Иларио явился.
Она погружалась все глубже, и чувствовала все большую жалость, и с головокружительной быстротой неслась куда-то вниз, падала и знала, что все, что она слышит, остается там, наверху, а она, летя вниз все стремительней, может только унести с собой эту невероятную жалость.
– Гроб для нее взяли в «Безгрешной душе», – говорит Амбросио. – На кладбище надо было заплатить, не помню уж сколько. У меня не было. Шоферы скинулись, и даже сукин сын дон Иларио дал что-то. А в самый день похорон больница прислала мне счет. Умерла, не умерла – все равно плати. А чем платить-то, ниньо?