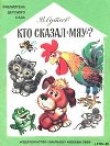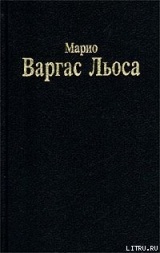
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 39 страниц)
Настоящее мексиканское кино, вроде тех, что так тебе нравились, Ана. Не хватало только сомбреро и ансамбля марьячи[68]68
Марьячи – мексиканские музыканты.
[Закрыть], думает он. Чиспасу и отцу удалось наконец силой выволочь сеньору Соилу из-за стола, отвести ее в кабинет. Сантьяго стоял посреди комнаты. Ты глядел на лестницу, Савалита, ты прикидывал расстояние от туалета до гостиной: да, конечно, она все слышала. Чувство праведного гнева, священной ненависти, полузабытое чувство времени «Кауйде» и революции охватило тебя, Савалита. Издали доносились стоны матери, уныло-укоризненный голос отца. Через минуту в гостиную вернулся побагровевший от невиданного бешенства Чиспас.
– Довел до истерики. – Он был вне себя, думает он. Чиспас был вне себя, бедный Чиспас вне себя. – Вечно какие-то безумные идеи, жить невозможно из-за твоих штук, кажется, что у тебя одна цель в жизни – довести родителей до исступления.
– Чиспас, Чиспас, пожалуйста, – взмолилась, вскакивая, Керн. – Ради бога, Чиспас.
– Ничего, ничего, дорогая, – сказал Чиспас. – Ничего страшного. Просто этот сумасброд всегда все испортит. Папа был так деликатен, а он…
– Чиспас, я тебя предупреждаю, – сказал Сантьяго. – То, что я могу снести от мамы, от тебя сносить не собираюсь.
– Ты меня предупреждаешь? – сказал Чиспас, но Керн и Попейе уже вцепились в него и оттащили назад: чего вы смеетесь, ниньо? – говорит Амбросио. Ты не смеялся, Савалита, ты смотрел на лестницу и слышал за спиной задушенный голос Попейе: ну, чего ты, чего ты, ну, было б из-за чего, ну, брось, брось. Что она, плакала и поэтому не спускалась с гостиную? Ты должен был пойти за ней или ждать? Наконец они показались на площадке, и Тете выглядела так, словно гостиная была полна чудищ или демонов, но ты, милая, держалась с удивительной надменностью, думает он, и, пожалуй, заткнула бы за пояс Марию Феликс в том кино или Либертад Ламарке[69]69
Мария Феликс – популярная мексиканская киноактриса 40-60-х годов. Либертад Ламарке – аргентинская киноактриса.
[Закрыть] в этом.
Она медленно сошла по ступеням, крепко держась за перила, глядя только на Сантьяго, и сказала твердо:
– Уже поздно. Нам, должно быть, пора, не правда ли, милый?
– Да, – сказал Сантьяго. – Тут, на площади, возьмем такси.
– Да мы вас отвезем, – срываясь на крик, воскликнул Попейе. – Отвезем, Тете?
– Конечно, – пробормотала она. – Заодно и проветримся.
Ана сказала «до свиданья», прошла мимо Чиспаса и Керн, не подав им руки, и быстро зашагала к саду. Сантьяго, не прощаясь, последовал за ней. Попейе вприпрыжку обогнал их, отворил перед Аной дверь на улицу, потом кинулся, словно за ним гнались, за машиной, подогнал ее, выскочил, распахнул дверцу, бедняга конопатый. Сначала все молчали. Сантьяго закурил. Попейе тоже. Ана, сидя очень прямо, смотрела в окно.
– Ана, ты мне позвони, хорошо? – сказала жалким голосом Тете, когда подъехали к пансиону. – Может, я тебе помогу подыскать квартирку или просто, если что-нибудь надо…
– Конечно, – сказала Ана. – Ты мне поможешь снять квартиру. Договорились.
– Надо бы нам вчетвером куда-нибудь выбраться, старина, – сказал Попейе, улыбаясь от уха до уха и яростно хлопая ресницами. – Пообедаем вместе или сходим в кино. Позвони, как надумаете.
– Конечно, – сказал Сантьяго. – На днях позвоню, конопатый.
В номере Ана разрыдалась так, что прибежала донья Лусия. Сантьяго успокаивал ее, утешал, уговаривал, объяснял, и Ана наконец вытерла глаза. Тотчас началось: она никогда в жизни больше не пойдет туда, она их ненавидит, она их презирает. Сантьяго со всем соглашался: да, милая, ты права, да, любовь моя, это верно. Она сама не понимает, почему не спустилась и не выдала этой старой дуре, не ответила ей, как стоило бы: да, милая, да. Хоть она и твоя мать, хоть она и старше, но чтоб зареклась обзываться мещанкой, чтоб поняла: да, любовь моя, да.
– Ладно, – сказал Амбросио. – Я вымылся, я чистый.
– Ладно, – сказала Кета. – Так что случилось? А меня разве не было на этой вечеринке?
– Нет, – сказал Амбросио. – Да и самой вечеринки тоже не было. Там что-то стряслось, и почти никто из приглашенных не пришел. Всего трое-четверо, ну, и он среди них. Хозяйка очень сердилась, говорила, что ей в душу плюнули.
– Полоумная считает, что Кайо устраивает вечера для ее развлечения, – сказала Кета. – Как бы не так. Он развлекает своих приспешников.
Они лежали рядом, на спине, оба уже оделись, оба курили. Пепел стряхивали в пустой спичечный коробок, который Амбросио пристроил у себя на груди; конус света из окна падал на ноги; лица оставались в темноте. Не слышно было ни музыки, ни голосов, только изредка скрипел где-то далеко замок или щеколда да иногда с ревом проносился под окнами автомобиль.
– Я сам заметил, что приемы эти не просто так, – сказал Амбросио. – А вы думаете, он для этого и держит сеньору Ортенсию? Чтоб приваживала друзей?
– Нет, не только для этого, – негромко, медленно рассмеялась Кета, провожая взглядом тающую струйку дыма. – Еще и потому, что она хорошенькая и выполняет его прихоти. Ну, так как же все-таки это было?
– Вы тоже, – почтительно сказал он, не поворачиваясь, не глядя на нее.
– Я выполняю его прихоти? – с расстановкой сказала Кета, подождала, пока не погаснет огонек сигареты, и снова рассмеялась тем же медленным полуиздевательским смешком. – Но ведь и твои тоже, а? Тебе ведь недешево обходятся эти два часа со мной, а?
– В заведении выходило дороже, – сказал Амбросио и добавил как бы по секрету: – Вы же за номер с меня не берете.
– Ну, так ему это стоит много дороже, чем тебе, – сказала Кета. – Я – совсем другое дело. Полоумная это делает не за деньги, не из корысти. Ну, и, конечно, не потому, что любит его. По глупости, по простоте душевной. Я вторая дама Перу, Кетита. У меня бывают министры и послы. Совсем дурочка. Никак не поймет, что они ездят к ней в Сан-Мигель как в бордель. Уверена, что это ее друзья, что они приходят ради нее.
– Дон Кайо-то понимает, – пробормотал Амбросио. – Эти сволочи, говорит, меня считают ровней себе. Я, когда его возил, тысячу раз это слышал. И что льстят они ему потому, что он им нужен.
– Это он им льстит, – сказала Кета и без перехода спросила: – Ну, так что же все-таки было на этой вечернике?
– Я несколько раз его там видал, – сказал Амбросио, и что-то едва заметно изменилось в его тоне, и весь он как бы неуловимо подобрался, поджался. – Знал, например, что он с хозяйкой на «ты». Мне его лицо запомнилось, еще когда я дона Кайо возил. Раз двадцать, наверно, я его видал. А он меня – нет. Вот до той самой вечеринки.
– А как ты вообще туда попал? – спросила Кета. – Разве тебя когда-нибудь впускали в дом?
– Нет, только один раз, вот тогда, – сказал Амбросио. – Лудовико прихворнул, и дон Кайо отправил его спать. А я сидел в машине и приготовился уж было всю ночь так прокуковать, а тут вдруг вышла хозяйка и говорит: идем, поможешь.
– Полоумная? – засмеялась Кета. – «Идем, поможешь»?
– Нет, правда, им надо было помочь, они прислугу рассчитали, или она сама ушла, толком не знаю, – сказал Амбросио. – Вот и надо было тарелки подавать, бутылки откупоривать, лед носить. Я, знаете, никогда раньше этим не занимался. – Он помолчал, засмеялся. – Помощи от меня мало было. Два стакана раскокал.
– Кто же там был? – сказала Кета. – Китаянка? Люси? Карминча? Как же это они тебя не углядели?
– Я по именам их не знаю, – сказал Амбросио. – А женщин в тот раз вообще не было. Только мужчины – человека три-четыре. А его я заметил, когда приносил что-нибудь – лед там, тарелки. Он пил как все, а головы не терял. Хмель его не брал. Или, может, он умел вид делать.
– Элегантный такой, и седина ему идет, – сказала Кета. – Наверно, в молодости был просто красавец. Он ведет себя неприятно: этакий самодержец.
– Нет, – твердо и убежденно сказал Амбросио. – Он не напился, как другие, ничего себе не позволял, я видел. Пил рюмку за рюмкой – и ничего. Я видел. И вовсе он себя не считает самодержцем, нет. Я его знаю, и это для меня ясно: нет.
– А почему же ты на него именно обратил внимание? – сказала Кета. – Что в нем было такое особенное?
– Ничего, – прошептал, словно винясь в чем-то, Амбросио. Голос его звучал еле слышно, как бывает, когда говорят о чем-то сокровенном. – Он и раньше раз сто, наверно, на меня смотрел, а тут вдруг мне показалось, что он понял, что смотрит на меня. Смотрел, правда, все равно как на стенку.
– Полоумная так и остолбенела, когда узнала, что ты будешь работать у него, – сказала Кета.
– Я вошел в комнату и словно уже заранее знал, что он сейчас на меня посмотрит, – прошептал Амбросио. – Глаза у него были блестящие и смеющиеся. Как будто он что-то говорил мне без слов. Понимаете?
– И ты до сих пор еще не понял? – сказала Кета. – А вот Кайо, пари держу, обо всем сразу догадался.
– Я понял только, что смотрит он как-то странно, – пробормотал Амбросио. – Он скрывал чего-то. Поднял стакан, поднес его к губам, чтобы дон Кайо подумал, что он собирается выпить, но я – то понял: нет, не для этого. Я опустил глаза и, пока из комнаты не вышел, ни на кого не глядел.
Кета засмеялась, и он мгновенно умолк. Окаменев, ждал, когда она остановится. Снова закурили, и он положил руку на ее колено. Рука не ласкала, а лежала покойно и расслабленно. В комнате было не жарко, но тот кусочек нагого тела, к которому прикасались его пальцы, стал влажным. В переулке зазвучал, постепенно замирая, чей-то голос. Потом зарычал мотор машины. Кета взглянула на часы: два.
– А потом я спросил, не хочет ли он еще льду, – бормотал Амбросио. – Другие гости уже разошлись, вечер кончался, он один сидел. И ничего мне не ответил. Зажмурился и сразу открыл глаза – не могу объяснить как. Не то шутливо, не то с вызовом. Понимаете?
– А ты – нет? – настойчиво спросила Кета. – Значит, ты глуп.
– Это – да, – сказал Амбросио. – Я подумал: он прикидывается пьяным, а может, и вправду напился, а может, хочет подшутить надо мной. Я-то пил на кухне: думаю, может, я напился и мне мерещится бог знает что. Но когда вышел в следующий раз, понял: нет. Было уже часа два или три, не знаю. Я вошел окурки выбросить, пепельницу сменить. Вот тут он и заговорил со мной.
– Ну-ка сядь, – сказал дон Фермин. – Посиди с нами, выпей.
– Это было не приглашение, а приказ, – бормотал Амбросио. – Он не знал, как меня зовут. Хоть и слышал раз сто, как дон Кайо ко мне обращается, но все равно не знал. Так он мне потом рассказал.
Снова засмеялась Кета, и снова он замолк на полуслове, пережидая. Слабое свечение доходило до стула, где в беспорядке лежала его одежда. Табачный дым струился над ними, сворачиваясь таинственными спиралями, расплываясь и тая в воздухе. За окном промчались, словно наперегонки, две машины.
– А она? – уже переставая смеяться, сказала Кета. – А Ортенсия?
Глаза Амбросио заворочались в безмерном смущении: дон Кайо вроде совсем не удивился и неудовольствия не выказал. Поглядел на него сосредоточенно и потом кивнул: можешь сесть. В поднятой руке Амбросио ходуном ходила пепельница.
– А она уже к тому времени заснула, – сказал Амбросио. – Прикорнула в кресле. Она набралась порядочно. А я присел на кончик стула, мне было не по себе – неловко как-то, я стеснялся.
Он потер руки и вдруг, с церемонной торжественностью произнеся «ваше здоровье» и ни на кого не глядя, выпил.
Кета повернулась, чтобы видеть его лицо: глаза его были закрыты, губы плотно сомкнуты, лоб в испарине.
– Ну, этак мы за тобой не угонимся, – рассмеялся дон Фермин. – Налей себе еще.
– Он играл с тобой, как кошка с мышкой, – брезгливо и тихо произнесла Кета. – А тебе, как я понимаю, это нравилось. Нравится чувствовать себя мышкой. Нравится, когда тебя пинают, когда тобой помыкают. Если бы я поначалу была с тобой поприветливей, ты вряд ли бы копил деньги, чтоб лежать тут и плакаться. А на что плакаться? Раньше я думала, что у тебя разные горести, а теперь вижу: нет. Тебе нравится все, что с тобою происходит.
– И я сидел с ними, как равный, и пил с ними. – Голос его был так же тускл, безразличен, и слова выговаривались с расстановкой. – И казалось, что дону Кайо это ничего, а, может, он прикидывался, что ничего. А тот все не отпускал меня. Понимаете?
– Да куда ж ты так гонишь, не торопись, – в десятый раз полушутливо приказал дон Фермин. – Мы за тобой не поспеваем.
– Он в тот раз был совсем другой, я его таким раньше не видел, – сказал Амбросио. – Раньше – это когда он меня не замечал. Он и смотрел по-другому, и говорил. А говорил без умолку, обо всем на свете и вдруг выругался. Такой образованный человек, и культурный, и вид такой, что похож…
Он вдруг замолчал, как бы засомневавшись, и Кета повернула голову: на кого похож?
– На знатного сеньора, – быстро выговорил Амбросио. – Или на самого президента.
Кета засмеялась дерзко и весело и с каким-то затаенным любопытством, потянулась всем телом, задев бедром ногу Амбросио, и почувствовала, как пальцы, сжимавшие ее колено, сейчас же ожили, и поползли под юбку, и стиснули, ощупывая, ее ляжку, зашарили вверх-вниз, насколько хватало руки. Она не оттолкнула его, а как со стороны услышала свой смех.
– Значит, ты размяк тогда от выпитого, – сказала она. – А Ортенсия что?
Она, словно выныривая время от времени из-под воды, вскидывала голову, обводила комнату туманным влажным взглядом разъезжавшихся глаз, подносила к губам свой стакан, пила, проборматывала что-то невнятное и снова погружалась. А Кайо что? Он пил в раз и навсегда заданном ритме, односложными восклицаниями участвовал в разговоре и вел себя так, словно нет ничего более естественного, чем видеть Амбросио у себя за столом.
– Так мы довольно долго сидели, – сказал Амбросио; рука его утихомирилась, снова легла на колено Кеты. – Я, конечно, осмелел – принято было немало, – стал выдерживать его взгляд и отвечал на его шуточки. Конечно, дон, мне нравится виски. Нет, что вы, дон, не в первый раз, нет.
Но теперь дон Фермин уже не слушал его или делал вид, что не слушает. Он все смотрел на него, и Амбросио словно отражался у него в зрачках и видел себя в них, понимаете? Кета кивнула, и вдруг дон Фермин торопливо допил свой стакан и поднялся: я устал, дон Кайо, пора и честь знать. Кайо Бермудес тогда тоже встал.
– Амбросио вас отвезет, дон Фермин, – позевывая в кулак, сказал он. – До утра мне машина не понадобится.
– Ах, значит, он не просто все знал, – задвигалась на кровати Кета. – Ну, конечно, конечно. Значит, он все и подстроил.
– Не знаю, – вдруг резко приподнявшись и повернувшись, оборвал ее Амбросио. Минуту он смотрел на нее, потом снова повалился на спину. – Не знаю, знал ли он, подстроил ли. А хотелось бы. Он говорил, что тоже не знает. А вы?
– Теперь знает, вот и все, что мне известно, – засмеялась Кета. – Но ни полоумная, ни я никогда не могли из него слова вытянуть, добиться правды. Он в таких делах – могила.
– Не знаю, – повторил Амбросио. Голос его стал отдаленным и гулким, словно шел со дна колодца, а потом зазвучал слабо и тревожно. – И он не знает. Иногда говорит, конечно, Кайо все подстроил, а иногда: нет, может быть, и нет. Я много раз видел дона Кайо, и никогда он не дал понять, что знает.
– Ты совсем рехнулся, – сказала Кета. – Разумеется, теперь он знает. Да и кто теперь не знает?
Он проводил их до ворот, сказал Амбросио «завтра в десять», протянул руку дону Фермину и через сад вернулся в дом. Светало, по небу уже бегали голубые лучики, и постовые на углу пробормотали «добрый вечер» охрипшими от курева и бессонной ночи голосами.
– И тут тоже странно вышло, – шептал Амбросио. – Он сел не назад, как полагается, а рядом со мной. Я что-то заподозрил, но все же до конца поверить не мог. Не мог я его в этом заподозрить. Такой человек.
– Такой человек, – с отвращением передразнила Кета и повернулась к нему: – Почему же ты таким холуем уродился?
– Я подумал было: это он чтобы, значит, дружелюбие свое показать, – шептал Амбросио. – Там он с тобой себя вел как с равным, думал я, и здесь – тоже. Подумал, стих такой на него нашел, решил поближе к народу быть. Нет, сам не знаю, что я тогда думал.
– Да, – сказал, не глядя на него и аккуратно прихлопнув дверцу, дон Фермин. – В Анкон.
– Я видел его лицо, и был он такой же, как всегда, – нарядный такой, приличный, – жалобно сказал Амбросио. – Я заволновался, понимаете? В Анкон?
– Да, в Анкон, – кивнул дон Фермин, глядя в окно на светлеющее по краю небо. – Бензину хватит?
– А я ведь знал, где он живет, возил его однажды из министерства дона Кайо, – продолжал жаловаться Амбросио. – Дал газ, и уже на проспекте Бразилии решился все-таки спросить: вы разве не в Мирафлорес, дон? Не домой?
– Нет, в Анкон, – сказал дон Фермин; он смотрел теперь прямо перед собой, но через минуту повернулся, посмотрел на него, и его прямо как подменили, понимаете? – Уж не боишься ли ты ехать со мною в Анкон? Боишься, что с тобой на шоссе что-нибудь случится?
– И засмеялся, – прошептал Амбросио. – И я тоже хотел было засмеяться, но ничего у меня не вышло. Не смог я. Очень волновался, понимаете?
На этот раз Кета не засмеялась: она перевернулась на бок, подперев голову, и смотрела на него. Он все так же неподвижно лежал на спине и больше не курил, и рука его мертво покоилась на ее голом колене. Пронесся автомобиль, залаяла собака. Амбросио закрыл глаза и дышал так, что раздувались ноздри. Медленно поднималась и опадала его грудь.
– И это было с тобой в первый раз? – сказал Кета. – До этого – никогда ничего?
– Да, мне было страшно, – пожаловался он. – Поднялся по проспекту Бразилии, свернул на Альфонса-Угарте, потом на Пуэнте-дель-Эхерсито, и оба мы молчали. Да, в первый раз. На улицах ни души не было. На шоссе пришлось включить дальний свет: туман. Я так волновался, что все прибавлял скорость, прибавлял. Вдруг увидел, что держу девяносто, потом сто. Понимаете? Но, однако, все же не стукнулся.
– Уже фонари погасили, – отвлеклась на миг Кета и спросила: – И что почувствовал?
– Но не стукнулся, не стукнулся, – повторил он с яростью, сжимая ее колено. – Почувствовал, что вдруг очнулся, почувствовал, что… но успел затормозить.
Машина, пронзительно визжа тормозами, словно впереди внезапно возник нахальный грузовик, или осел, или дерево, или человек, пошла юзом, ее раскрутило на мокром шоссе, но на обочину все же не выбросило. Амбросио, весь дрожа, сбросил газ, и едва не перевернувшаяся машина со страшным скрежетом вновь стала на все четыре колеса.
– Думаете, когда нас волчком крутило, он убрал руку? – жалобно-раздумчивым тоном сказал Амбросио. – Нет. Продолжал держать ее там, там.
– Кто тебе велел останавливаться? – раздался голос дона Фермина. – Я же сказал: в Анкон.
– А рука была там… – прошептал Амбросио. – Я ни о чем не мог думать, и снова рванул. Не знаю почему. Не знаю, понимаете? И опять на спидометре девяносто, сто. А он меня не отпускал. Держал руку там.
– Он тебя раскусил с первого взгляда, – пожала плечами Кета. – Он только глянул – и сразу понял, что из тебя можно веревки вить. Только не надо с тобой по-хорошему, и тогда ты сделаешь все, что скажут.
– Я думал: сейчас, сейчас стукнемся и все равно жал и жал на газ, – задыхаясь, жаловался Амбросио. – Жал и жал, понимаете?
– Он понял, что ты умираешь от страха, – сухо, безжалостно сказала Кета. – Что ты ничего не сделаешь, а он с тобой сделает все, что захочет.
– Сейчас вмажемся, сейчас, – задыхался Амбросио. – А педаль не отпускал. Да, я боялся. Понимаете?
– Ты боялся, потому что ты холуй по натуре, – брезгливо сказала Кета. – Потому что он – белый, а ты – нет, потому что он богатый, а ты – нет. Потому что ты привык, чтоб об тебя ноги вытирали.
– Ни о чем больше думать не мог, – горячо зашептал Амбросио. – Если не отпустит, стукнемся. А он так и не убрал руку, понимаете? До самого Анкона.
Амбросио вернулся от дона Иларио, и Амалия уже по одному его виду сообразила, что дело плохо. Спрашивать ни о чем не стала. Он прошел мимо нее молча, даже не взглянул в ее сторону, сел в огородике на продавленный стул, снял башмаки, закурил, злобно чиркнув спичкой, и уставился на траву убийственным взглядом.
– В тот раз не было ни пива, ни закусочки, – говорит Амбросио. – Я вошел, и он сразу дал понять, что я лопух.
Он рубанул себя ребром ладони по затылку, а потом приставил указательный палец к виску: кх-х, Амбросио. Но при этом щекастое его лицо улыбалось, а выпученные, все на свете повидавшие глаза, тоже улыбались. Он обмахивался газетой: дела, негр, хуже некуда, сплошной прогар. Гробы почти не покупают, а последние месяца два он из своего кармана выложил денежки за аренду помещения, жалованье придурку приказчику и то, что причиталось плотникам, вот счета. Амбросио проглядел их, ничего, Амалия, не понимая, и сел у стола: какие скверные новости, дон Иларио.
– Новости отвратительные, – согласился он. – Дела в Пукальпе до того плохи, что людям и помереть-то не на что.
– Вот что я вам скажу, дон Иларио, – помолчав минутку и со всей почтительностью сказал ему Амбросио. – Наверно, вы правы. Наверно, через некоторое время дело наше начнет приносить доход.
– Всенепременно начнет, – сказал ему дон Иларио. – Терпение, друг мой. Терпение и труд все перетрут.
– Но у меня денег совсем не стало, а жена второго ждет, – продолжал Амбросио. – Так что и хотел бы потерпеть, да не могу.
Еще шире разъехались щеки дона Иларио от удивленной улыбки: одной рукой он все обмахивался газетой, а другой ковырял свой зуб. Что такое двое детей, Амбросио, бери с него пример, меньше дюжины не заводи.
– Так что я желаю оставить «Безгрешную душу» вам в полное владение, – стал объяснять ему Амбросио. – Верните мне мою долю. Буду сам на себя, дон, работать. Может, больше повезет.
И тут, Амалия, он начал смеяться своим кудахтающим смехом, и Амбросио замолчал, словно бы для того, чтобы собраться с мыслями и начать крушить все вокруг: и траву, и деревья, и Амалиту-Ортенсию, и небо над головой. Он не смеялся. Смотрел, как дон Иларио колышется на стуле, торопливо обмахиваясь газеткой, и ждал сосредоточенно и серьезно, когда тот отсмеется.
– Так ты, значит, думаешь, это как в сберегательной кассе? – загремел наконец дон Иларио, утирая взмокший лоб, и снова его скрючило от смеха. – Захотел – внес деньги, захотел – взял назад?
– Кудахтал, кудахтал, – говорит Амбросио. – Даже слезы у него от смеха полились, весь красный стал, так я его рассмешил. А я сидел себе тихо, ждал.
– Это даже уже не глупость, а я не знаю что. – Дон Иларио, весь багровый и мокрый, стукнул по столу. – Ну скажи мне, скажи, за кого ты меня-то считаешь? За полного олуха, что ли? За малоумного, а?
– Сначала смеялся, потом разозлился, – сказал Амбросио. – Что это с вами сегодня, дон?
– Если я тебе скажу, что дело наше тонет, то что тонет вместе с ним? – Он, Амалия, стал загадки загадывать, и глядел на Амбросио с жалостью. – Если мы с тобой погрузили в лодку по пятнадцать тысяч каждый, а лодка тонет, то что тонет с нею вместе?
– «Безгрешная душа» вовсе не тонет, – заявил ему тогда Амбросио. – Стоит себе целехонька перед моими окнами.
– Ты хочешь ее продать? – спросил его дон Иларио. – Да на здоровье, продавай хоть сию минуту. Только отыщи сначала дурня, который согласится ввязаться в гиблую затею. Нет, такого полоумного, что дал тебе и мне тридцать тысяч, ты не найдешь, не надейся. Отыщи такого, кто взял бы ее даром да в придачу с придурком приказчиком да с долгами плотникам.
– Так что же, выходит, я больше не увижу ни гроша из тех денег, что вложил в дело? – сказал ему тогда Амбросио.
– Ты найди хотя бы такого, кто бы мне вернул денежки, которые я тебе дал авансом, – сказал ему тогда дон Иларио. – Их уже тысяча двести, вон счета. Может, ты забыл?
– Заяви на него в полицию, – сказала ему тогда Амалия. – Пусть заставят вернуть тебе деньги.
И в тот день, покуда он, сидя на продавленном стульчике, курил одну сигарету за другой, Амалия ощутила вдруг сосущую пустоту под ложечкой, невесть откуда возникшее жжение, как бывало в самые скверные минуты ее жизни с Тринидадом: неужели и здесь не спрятаться от беды? Пообедали в молчании, а потом заглянула к ним донья Лупе, но, увидевши, что они такие хмурые, вскоре ушла. Ночью, в постели, Амалия спросила: что же ты будешь делать теперь? Он сказал, что еще не знает, что будет думать. На следующий день спозаранку отправился куда-то и завтрака с собой не взял. Амалию тошнило, а когда часов примерно в десять зашла донья Лупе, началась рвота. Она ей рассказывала про их неприятности, когда вдруг появился Амбросио: откуда ты взялся? разве ты не поехал в рейс? Нет. «Горный гром» чинят в гараже. Опять уселся он в огороде, так там все утро и просидел в задумчивости. В полдень Амалия позвала его обедать, и только начали, как вбежал к ним какой-то мужчина. Он замер перед Амбросио, а тот и не взглянул на него, и с места не приподнялся. Был это сам дон Иларио.
– Ты сегодня утром обливал меня грязью, весь город слышал. – Он, донья Лупе, прямо заходился от ярости и вопил так, что Амалита-Ортенсия проснулась и заплакала. – Ты сегодня на площади говорил, что Иларио Моралес украл у тебя деньги.
Амалию замутило, как тогда, утром. Амбросио не шевельнулся: почему ж он не встанет, не ответит ему как полагается? Нет, он сидел как сидел и смотрел на орущего дона Иларио.
– Ты, оказывается, мало того что дурак, так еще и язык распускаешь, – кричал он. – Ты, значит, прилюдно обещал, что полиция со мной разберется, выведет меня на чистую воду?! Вот, значит, как? Отлично. Вставай, пошли со мной.
– Я обедаю, – пробурчал Амбросио. – Куда это мне идти, дон?
– В полицию! – завопил дон Иларио. – Ты же хотел разобраться, вот пускай майор и разберется, кто кому должен денег, тварь ты неблагодарная!
– Не надо так, дон Иларио, – попросил его Амбросио. – Вам кто-то наврал на меня. Экий вы доверчивый. Присядьте-ка лучше. Не угодно ли вам будет пива выпить?
Амалия глядела на Амбросио и диву давалась: он улыбался и предлагал гостю стул. Вскочила, опрометью вылетела из дому, а на огороде стало ее выворачивать. А из дому доносилось: я сюда не пиво пить пришел, я желаю, чтоб все ясно стало, так что пусть Амбросио встает и идет с ним к майору. А голос Амбросио звучал все тише, все слаще: да помилуйте, дон, да как же можно ему не доверять, он всего лишь пожаловался на злосчастную свою судьбу.
– Ну, смотри, чтоб больше грозить мне не смел и собак на меня не вешал, – сказал ему тогда, чуть успокоившись, дон Иларио. – Не моги мое имя трепать, а не то пеняй на себя.
Амалия видела, как он пошел к двери, а на пороге снова повернулся и как закричит: чтоб ноги его в конторе не было, ему такая скотина в шоферах без надобности, в понедельник можешь получить расчет. Значит, опять начались их беды. Но она злилась на Амбросио больше, чем на этого дона Иларио, и бегом вбежала в комнату:
– Почему ты так себя вел, почему позволил так с собой обращаться?! Почему не пошел в полицию, не заявил на него?!
– Из-за тебя, – сказал ей Амбросио, глядя как побитая собака. – Про тебя вспомнил. А ты забыла? Ты уж не помнишь, почему оказались мы в Пукальпе? Вот потому я все и терпел от него.
Тут она заплакала, стала просить у него прощения, а ночью опять началась у нее рвота.
– Дал он мне в возмещение расходов шестьсот солей, – сказал Амбросио. – Не знаю, как мы жили на это целый месяц. Я работу искал. Но в Пукальпе легче золото найти. Наконец устроился в Яринакоче водителем автобуса – за сущие гроши, только чтоб с голоду не подохнуть. Ну, тут и последний удар подоспел.