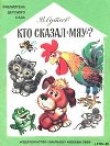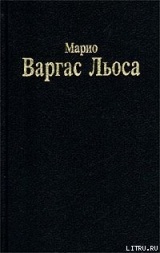
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 39 страниц)
– Стоило так торопиться и совать мне деньги, которых у тебя нет, – сказала она, увидев, что он даже не пошевельнулся.
– Вы со мной так обращаетесь, – тягуче, испуганно сказал он. – Я же не животное. У меня гордость есть. Даже не притворяетесь.
– Сними рубашку и чушь не мели, – сказала Кета. – Ты что думаешь, мне противно? Мне, негритосик, все равно – что с тобой, что с римским папой.
Она почувствовала, угадывая в темноте его движения, что послушно приподнялся, увидела, как мелькнуло белое пятно рубашки, которую он швырнул на стул, куда дотягивалась ниточка света с улицы. И снова нагое тело тяжело рухнуло рядом с нею. Она слышала его учащающееся дыхание, почувствовала запах его желания и потом – его прикосновение. Откинулась на спину, раскинув руки, принимая всем телом влажную тяжесть, вминающую ее в кровать. Он тяжело дышал возле самого ее уха, его руки влажно ползали по ее коже, и она ощутила, что его плоть мягко проникает в нее, что он пытается снять с нее лифчик, и, изогнувшись, помогла ему. Она чувствовала мокрые губы на шее и плечах, слышала, как он дышит, чувствовала движения его тела: обвила его ногами, впилась пальцами в спину, в подрагивающие ягодицы. Позволила поцеловать себя, но не разомкнула крепко сцепленные зубы. Потом услышала несколько коротких задыхающихся стонов. Она отодвинула его, и он перекатился на бок, как труп. Нашарив туфли, она пошла в ванную, а когда вернулась и зажгла свет, увидела, что он снова лежит навзничь, прикрыв лицо скрещенными руками.
– Я так давно мечтал об этом, – услышала она, застегивая крючки лифчика.
– Теперь тебе будет жалко этих пяти сотен, – сказала Кета.
– Вот уж нет, – услышала она его смех. – В жизни еще не тратил деньги так удачно.
Надевая юбку, она опять услышала, что он смеется, по-прежнему закрывая лицо, и удивилась простодушной искренности этого смеха.
– Ну что, я правда плохо с тобой обошлась? – сказала она. – Это не из-за тебя, это Робертито виноват. Все нервы вымотал.
– Можно я выкурю сигарету, вот так, как есть? – сказал он. – Или мне надо уходить?
– Хоть три, – сказала Кета. – Только сначала пойди вымойся.
Мальчишник, который войдет в анналы, должен был начаться в полдень в «Уголке Кахамарки» обедом в креольском стиле, где будут только Карлитос, Норвин, Перикито, Солорсано, Мильтон и Дарио; продолжиться походом по разным барам, а в шесть вечера завершиться коктейлем с участием ночных бабочек и ребят из других газет в квартире Китаянки (они с Карлитосом в очередной раз помирились), а под самый занавес Карлитос, Норвин и Сантьяго отправятся в бордель. Так было задумано, но накануне торжества, уже под вечер, когда Карлитос и Сантьяго, перекусив в редакционном буфете, поднялись наверх, они увидели, что Бесеррита грудью лежит на столе, произнося непослушными губами невнятные ругательства. Помнишь, Савалита, как обмякло его квадратное мясистое тело, как засуетились вокруг редакторы? Его подняли: лицо, ставшее почти лиловым, кривилось гримасой бесконечного отвращения. Его обмахивали сложенной газетой, ему развязали галстук, влили в рот что-то спиртное. Он лежал апоплексичный и безжизненный и только непрерывно хрипел. Ариспе и еще двое из уголовной хроники повезли его в больницу, и через два часа позвонили оттуда и сказали, что он умер от кровоизлияния в мозг. Ариспе сочинил некролог, напечатанный в соответствующем разделе. Репортеры уголовки не пожалели лестных слов: беспокойный дух… вклад в развитие отечественной журналистики… основоположник полицейской хроники и репортажа… четверть века на переднем крае…
А ты, Савалита, вместо мальчишника попал на панихиду, думает он. Следующую ночь они провели на бдении над покойником в квартирке Бесерриты, помещавшейся в одном из закоулков Барриос-Альтес. Помнишь, Савалита, эту трагикомическую ночь, этот дешевый фарс? Там были исполненные скорби репортеры и женщины, вздыхавшие у гроба, который стоял в комнатке с ветхой мебелью и старыми фотографиями в овальных рамках по стенам. Уже в первом часу ночи появились дама в трауре и мальчик, и послышался тревожный шепот, вот черт, это его вторая жена, вот черт, это его сын. Произошло прерываемое рыданиями тягостное объяснение между семейством покойного и вновь прибывшими. Присутствующим пришлось вмешаться, стать посредниками и примирителями соперничающих родных. Обе жены были одного возраста, думает он, и похожи друг на друга, и мальчик был почти неотличим от своих сводных братьев. Обе семьи встали в изголовье гроба как на карауле, и над телом Бесерриты скрестились их полные ненависти взгляды. Всю ночь бродили по дому косматые отставные репортеры, помнившие иные времена, странные субъекты в потертых костюмах, а на самих похоронах произошло беспримерное единение скорбящих родственников с непривычными к дневному свету подозрительными личностями явно уголовного вида, полицейских сыщиков с вышедшими в тираж шлюхами с размазанной от слез тушью на ресницах. Сказал речь Ариспе, потом взял слово представитель отдела по расследованию, и тут обнаружилось, что Бесеррита сотрудничал с полицией чуть ли не с двадцати лет. Выходя с кладбища, зевая и расправляя затекшие ноги и руки, Карлитос, Норвин и Сантьяго решили пообедать в ресторанчике на Санта-Кристо, совсем рядом с Полицейской школой, и заказали свинину, вкус которой был отравлен незримо витавшей над столом тенью Бесерриты, чье имя ежеминутно возникало в разговоре.
– Ариспе обещал мне ничего не печатать, но я ему не верю, – сказал Сантьяго. – Ты бы занялся этим, Карлитос. Чтоб обошлось без шуточек, а то знаю я наших остроумцев.
В тот вечер, накануне свадьбы, Сантьяго и Карлитос зашли в «Негро-негро», поговорили о прошлом: шутили, вспоминая, сколько раз сиживали в эти самые часы за этим самым столом, и Карлитос был грустен, словно ты, Савалита, уезжал навсегда. В ту ночь он не надрался. Вернувшись в пансион, ты уже не стал ложиться, Савалита, а курил, думая о том, какое изумленное сделалось лицо у сеньоры Лусии, когда он сообщил ей эту новость, представляя, каково будет жить в этой комнатке вдвоем, прикидывая, не слишком ли им с Аной будет там тесно, не придется ли сидеть друг у друга на голове, пытаясь вообразить, как отнесутся к его женитьбе родители. Когда взошло солнце, он начал тщательно укладывать чемодан. Задумчиво оглядел комнату – кровать, маленькую полку с книгами. Автобус приехал за ним в восемь. Сеньора Лусия, так и не оправившись от удивления, спустилась в халате проводить его: да-да, конечно, она клянется, что папе – ни слова, – обняла и поцеловала в лоб. В Ику он приехал около одиннадцати и первым делом позвонил в Гуакачину проверить, забронирован ли номер в гостинице. Темный костюм, только накануне полученный из чистки, измялся в чемодане, будущей теще пришлось его выгладить. Скрепя сердце родители Аны выполнили его требование никого не звать. Только с этим условием, предупредила их Ана, Сантьяго согласен венчаться в церкви, думает он. Вчетвером отправились в муниципалитет, оттуда – в церковь, а час спустя уже сидели в гостиничном ресторане. Мать о чем-то шепталась с Аной, отец сыпал анекдотами и невесело напивался. Помнишь Ану, Савалита? – ее счастливое лицо, ее белое платье? Когда усаживались в такси, чтобы ехать в Гуакачину, мать вдруг расплакалась. Помнишь, Савалита, три дня на берегу зловонного зеленоватого озера? Прогулки по дюнам, думает он, идиотские разговоры с другими новобрачными, долгие сиесты, партии в пинг-понг, которые неизменно выигрывала Ана.
– Я считал дни, – говорит Амбросио. – Все ждал, когда же наконец пройдут эти полгода. Однако сильно просчитался.
Однажды на реке Амалия вдруг поняла, что привыкла к Пукальпе даже сильней, чем сама думала. Они с доньей Лупе купались, а Амалита-Ортенсия спала себе под воткнутым в песок зонтиком, как вдруг подошли к ним двое мужчин. Один был племянник мужа доньи Лупе, а другой – коммивояжер, только накануне приехавший из Гуануко. Его звали Леонсио Паниагуа, и уселся он прямо рядом с Амалией и стал ей рассказывать разные разности насчет того, что объездил Перу вдоль и поперек и чем отличается Гуанкайо, скажем, от Серро, а Ласка – от Айакучо. Ишь форсит, подумала Амалия, смеясь про себя, пыль в глаза пускает. Она долго слушала его разглагольствования, не мешала ему красоваться, а потом возьми да и скажи: а я сама-то из Лимы. Из Лимы? Леонсио Паниагуа никак не мог в это поверить: да ведь у вас здешний выговор, так нараспев тянет, и словечки местные, да и вообще.
– Да ты что, спятил? – воззрился на него дон Иларио, обретя наконец дар речи. – Дела идут, конечно, неплохо, но пока мы, как и должно быть, в сплошном убытке. Да как ты мог подумать, что через полгода начнем доход получать?
Вернувшись домой, Амалия спросила донью Лупе, правду ли сказал Леонсио, а та: истинную правду ты говоришь, в точности как горянка, можешь гордиться. Амалия подумала, как, наверно, удивились бы все – и сеньора Росарио, и Симула, и Карлота, – если б узнали. А она, донья Лупе, и не замечала, а донья Лупе, лукаво улыбаясь: этот комми на тебя глаз положил. Да, донья Лупе, он даже ее в кино приглашал, но Амалия, ясное дело, не пошла. А донья Лупе, вместо того чтобы возмутиться таким нахальством со стороны этого Леонсио, стала ее ругать: ну и очень глупо сделала, она, Амалия, еще молодая и имеет право развлечься, Амбросио-то, когда в Тинго-Марии ночует, времени даром не теряет. Так что возмущаться пришлось одной Амалии.
– Да я же все подсчитал по документам, – говорит Амбросио. – Я обалдел от таких цифр.
– Налоги, гербовый сбор, и еще надо было сунуть делопроизводителю, который устроил купчую, – тут, Амалия, он сунул нос в документы и передал их мне. – Все законно. Доволен?
– По правде говоря, не очень, дон Иларио, – сказал ему Амбросио. – Я совсем поиздержался, надеялся хоть что-то получить на руки.
– И потом, не забудь, жалованье этому дурачку, – завершил дон Иларио. – Я не беру ни гроша за то, что управляю конторой, но ведь ты ж не хочешь, чтоб я самолично торговал гробами, верно ведь? И деньги-то небольшие. Сто солей в месяц – говорить не о чем.
– Стало быть, дела идут не так уж хорошо, дон, – сказал ему Амбросио.
– Дальше будет лучше. – Дон Иларио задвигал шеей, как бы говоря «да напрягись же, да постарайся же уразуметь». – Поначалу всегда оказываешься в убытке. Потом прибыль появляется и доходы перекрывают затраты.
Через некоторое время после этого разговора с доньей Лупе, когда Амбросио, вернувшись из очередного рейса, умывался в задней комнатке, Амалия вдруг увидела на углу Леонсио Паниагуа: он был причесанный, при галстуке и шел прямо к их домику. Амалия чуть не выронила Амалиту из рук. Потом спохватилась, побежала в смятении в огород и спряталась в высокой траве, крепко прижимая девочку к груди. Сейчас войдет, сейчас встретится с Амбросио, а Амбросио его пришибет на месте. Однако все было тихо: по-прежнему насвистывал Амбросио, журчала вода, трещали во тьме цикады. Потом раздался голос Амбросио – он просил поесть. Вся дрожа, пошла стряпать, и долго еще все валилось у нее из рук.
– А когда прошло еще шесть месяцев, то есть стукнул нашему предприятию год, оказалось, что опять я рано обрадовался, – говорит Амбросио. – Ну, так как же, дон Иларио? Неужто опять остались без барыша? Не поверю.
– Какой там барыш? – сказал ему тогда дон Иларио. – Тухлое дело мы затеяли. Я как раз хотел с тобою потолковать об этом.
На следующий день негодующая Амалия отправилась к донье Лупе рассказать: нет, ну вы представьте, какое нахальство, представьте, что было бы, если б Амбросио… Но донья Лупе не дала ей и слова вымолвить: я все знаю. Он был у нее и излил ей душу: с тех пор, донья Лупе, как я познакомился с Амалией, меня как подменили, таких, как ваша подруга, на свете больше нет. Он, Амалия, не такой дурак, чтоб заходить к вам, хотел только издали на тебя посмотреть. Ну, Амалия, ты ему разбила сердце, ты его, Амалия, с ума свела. А Амалия чувствовала себя как-то странно: приятно стало, хоть и продолжала сердиться. Вечером пошла к реке и все думала: если он мне хоть слово скажет, я его обругаю по-настоящему. Но Леонсио Паниагуа не делал никаких намеков, вел себя культурно: почистил песок, чтоб она не испачкалась, когда сядет, угостил мороженым, а когда она на него поглядела, завздыхал и смущенно потупился.
– Да-да-да, – сказал дон Иларио. – То, что слышишь. Я все изучил до тонкостей. Лопатой будем деньги грести, надо только вложить еще немного средств.
Леонсио Панигуа наезжал в Пукальпу каждый месяц, но всякий раз – дня на два, не больше, и Амалии стало нравиться, как он себя ведет: робко и застенчиво. Привыкла встречать его каждые четыре недели у реки, привыкла к его накрахмаленным рубашкам, начищенным туфлям: церемонно с ней раскланяется, задохнется от смущения и будет вытирать цветным платком взмокшее лицо. Он никогда не купался, только сидел рядом с нею и с доньей Лупе, разговаривал, а когда они лезли в воду, присматривал за Амалитой-Ортенсией. Ничего себе не позволял, ничего ей не говорил, только глядел и вздыхал и только изредка отваживался произнести: как жаль, что мне завтра уже уезжать, – или: как много я думал о Пукальпе, – или: почему это мне так нравится бывать здесь? – только на это его и хватало. До чего ж стыдливый, а, донья Лупе? А донья Лупе: не-е, он не стыдливый, он, знаешь, романтическая натура.
– Выгоднейшее дело сделаем, если купим еще одно похоронное бюро, – сказал ей Амбросио. – «Мелело».
– Старая фирма, проверенная, оттого она и перебивает у нас всех клиентов, – сказал ему дон Иларио. – И ни слова больше не скажу. Завтра же привези из Лимы деньги, и мы с тобой, Амбросио, станем монополистами.
Только через несколько месяцев и то, чтобы не огорчать донью Лупе, а вовсе не из-за него, согласилась Амалия сходить с ним в китайский ресторанчик, а потом в кино. Пошли вечером, по пустынным улицам, ресторанчик выбрали не очень посещаемый, а в кино попали посреди сеанса, а до конца не досидели. Леонсио Паниагуа смущался еще больше, чем всегда, и не только не попытался воспользоваться тем, что наконец-то оказался с Амалией наедине, но и вообще чуть не весь вечер промолчал. Он говорит, Амалия, это от волнения и от счастья. Неужели я и вправду так ему нравлюсь, донья Лупе. Вправду, Амалия. Когда он бывает в Пукальпе, приходит к ней, говорит о тебе часами и даже плачет. А почему же мне он ни слова не решается сказать? Я ж говорю, Амалия, – романтическая натура.
– У нас еле-еле на еду хватает, а вы у меня еще пятнадцать тысяч требуете. – И знаешь, Амалия, он поверил моей брехне. – Я, дон Иларио, еще не совсем спятил, чтоб затевать новое похоронное бюро.
– Да не новое, а старое – крупное, и всем известное, и надежное, – настаивал дон Иларио. – Обмозгуй – и увидишь, что я прав.
А потом целых два месяца не показывался в Пукальпе. Амалия даже и забыла его и вдруг увидела на берегу реки – сидит, аккуратно сложив на газетку свой пиджак и галстук, а в руке – игрушка для девочки. Где ж это вы пропадали? А он, дрожа как в лихорадке: я больше в Пукальпу никогда не приеду, нельзя ли им поговорить с глазу на глаз? Донья Лупе взяла Амалиту, отошла в сторонку, а они стали разговаривать и проговорили целых два часа. Он уже не коммивояжер, получил в наследство от дядюшки магазинчик, вот об этом он и хотел с нею поговорить. Он так робел, так путался и запинался, когда предлагал ей уехать с ним, выйти за него замуж, что ей, донья Лупе, совестно и жалко было отвечать, что он, видно, рехнулся. Видишь, Амалия, значит, он не просто увлекся, а полюбил тебя по-серьезному. Леонсио Паниагуа не настаивал, он сразу замолчал, и вид у него сделался совсем придурочный, и когда Амалия ему посоветовала забыть про нее и найти у себя в Нуануко другую женщину, только горестно помотал головой и вздохнул: никогда. Из-за этого дурачка, донья Лупе, почувствовала она, какая она бессердечная и жестокая. В тот день видела его Амалия в последний раз: он шел через площадь к своей гостинице, и шатало его как пьяного.
– А когда с деньгами у нас совсем стало туго, Амалия обнаружила, что беременная, – говорит Амбросио. – Одно к одному, ниньо.
Однако поначалу он обрадовался: у Амалиты-Ортенсии будет братик, горец. Вечером к ним пришли Панталеон и донья Лупе, пили пиво допоздна: Амалия-то ребенка ждет, как вам это нравится? Весело было, и Амалия удержу не знала в ту ночь: танцевала, пела и несла что-то несусветное. Утром еле ходила от слабости, и рвало ее, и Амбросио ее стыдил: что ж ты, Амалия, сама напилась и младенчика нерожденного напоила?
– Если б доктор сказал, что она может умереть, я бы ее заставил вытравить плод, – говорит Амбросио. – Там это просто. Старухи умеют готовить настой из трав. Но ведь она себя отлично чувствовала, мы и не тревожились ни о чем. Как-то в субботу, на первом месяце, Амалия с доньей Лупе отправились в Яринакочу, целый день там провели: сидели под деревом, смотрели, как люди купаются в озере, а в чистом-чистом небе горит круглый глазок солнца. В полдень развязали свои узелки, покушали там же, под деревом, а рядом две какие-то женщины, попивая лимонад, крыли последними словами Иларио Моралеса – и такой он, и сякой, и разэтакий, и жулик, и мазурик, и кабы была на свете справедливость, сидеть бы ему за решеткой, а то и вообще не жить. Да не слушай ты, мало ли что бабы болтают, сказала ей донья Лупе, но в ту же ночь Амалия передала услышанное Амбросио.
– Я и похуже слышал, – сказал он ей, – и не только здесь, а и в Тинго-Марии. Вот только не пойму, почему он никак не раскочегарит дело, чтоб стало наконец доход приносить.
– Потому что он доход с тебя, дурак, получает, а тебе и невдомек, – сказала ему Амалия.
– И знаете, ниньо, после этих ее слов я призадумался, – говорит Амбросио. – Нюх у нее был как у гончей.
И с той поры, приезжая в Пукаьпгу и не успев даже отряхнуть красноватую дорожную пыль, он тревожно спрашивал Амалию: ну, сколько взрослых? сколько детских? Число проданных гробов заносил в книжечку и каждый день приносил новые и новые рассказы о том, какой дон Иларио бессовестный жулик.
– Ну, если ему ни на волос веры нет, знаешь что сделай? – сказал Панталеон. – Забери у него все деньги, и давай мы с тобой откроем какое-нибудь дело.
После того подслушанного разговора Амалия глаз не сводила с дверей «Безгрешной души». Не сравнить, донья Лупе, с тем, когда я Амалитой ходила: голова не кружится, и тошноты нет, и даже пить не так хочется. И силы она не потеряла, все по дому делала лучше, чем прежде. Однажды утром повел ее Амбросио к врачу, и пришлось выстоять длинную очередь. От нечего делать считали коршунов, которые грелись на солнце на соседних крышах, а когда пришел их черед, Амалию совсем сморило. Доктор осмотрел ее быстро и сказал: одевайся, все в порядке, месяца через два придешь показаться. Амалия оделась и уже у самой двери вдруг вспомнила:
– А в Лиме мне говорили, доктор, что мне больше рожать нельзя, умереть могу.
– Что ж ты в таком случае не береглась? – проворчал доктор, но потом увидел, как она напугалась, и нехотя улыбнулся: – Не бойся, ничего с тобой не будет.
Вскоре после этого исполнился год их житья в Пукальпе, и Амбросио, перед тем как пойти в контору к дону Иларио, сказал ей с плутоватым видом: знаешь, что я ему скажу? Чего? А скажет он ему, Амалия, что больше не желает быть ни компаньоном его, ни шофером и пусть засунет свою похоронную контору и «Горный гром» сама понимаешь куда. Амалия уставилась на него в изумлении, а он: это тебе, Амалия, сюрприз. Они с Панталеоном все это время шевелили мозгами и удумали одну гениальную штуку. Набьют мошну за счет дона Иларио. Тут продается один списанный драндулет, они с Панталеоном его разобрали, проверили, простучали до самых печенок, вполне еще побегает. Стоит он восемьдесят тысяч, первый взнос – тридцать, а на остальное – векселя подпишут. Панталеон получит свою компенсацию, выцарапает, чего бы это ни стоило пятнадцать тысяч, они купят машину в складчину и водить и владеть будут сообща, за проезд брать будут меньше и отобьют всех пассажиров у «Транспортес Моралес» и «Транспортес Пукальпа».
– Навообразили себе бог знает что, – говорит Амбросио. – Этим не кончать надо было, а начинать – как только попал в Пукальпу.
V
Из Гуакачины в Лиму их привезла на своей машине еще одна чета молодоженов. Сеньора Лусия встретила их на пороге пансиона, завздыхала от полноты чувств и, обняв Ану, поднесла к глазам краешек фартука. Она поставила в номер цветы, выстирала занавески, переменила белье и купила бутылку портвейна, чтобы выпить за здоровье новобрачной. Когда Ана начала разбирать багаж, хозяйка, таинственно улыбаясь, отозвала Сантьяго в сторону и вручила ему конверт: ваша сестрица привезла позавчера. Помнишь, Савалита, бисерный почерк барышни из квартала Мирафлорес: ах, негодяй, мы узнали, что ты женился! – и вычурный стиль – причем из газеты, что уж ни в какие ворота не лезет! – и все страшно рассердились на тебя (не верь, не верь, академик) и сгорают от желания поскорее познакомиться с твоей избранницей. Пусть немедленно приходят, всем нам не терпится увидеть новую родственницу. Ты совсем у нас спятил, академик, целую вас тысячу раз, Тете.
– Ну, что ты так побледнел? – засмеялась Ана. – Ну, подумаешь, узнали про нашу свадьбу, не держать же нам это в секрете?
– Да нет, не в том дело, – сказал Сантьяго. – Понимаешь ли… А вообще ты права, а я дурак.
– Конечно дурак, – снова засмеялась Ана. – Позвони им сейчас же, или давай прямо поедем. Не съедят же они нас.
– Да уж, лучше сразу, – сказал Сантьяго. – Скажу, что мы приедем сегодня вечером.
Чувствуя, как посасывает под ложечкой, он спустился к телефону и только успел сказать «алло», как услышал торжествующий вопль Тете: папа, папа, это академик! Помнишь, Савалита, ее взвизгивающий – да как же это ты решился? – ликующий голос – неужели это правда? – ее любопытство – да на ком же? – ее нетерпение – когда, как, где? – ее смех – почему же ты не говорил, что у тебя есть невеста? – град ее вопросов – ты что, умыкнул ее? вы обвенчались тайно? она – несовершеннолетняя? Ну, говори же, говори.
– Да ты же не даешь слова сказать, – сказал Сантьяго. – Давай по порядку.
– Ее зовут Ана? – снова посыпались вопросы. – Какая она? Откуда? Как фамилия? Я ее знаю? Сколько ей?
– Знаешь что, – сказал Сантьяго, – ты лучше сама ее обо всем спроси. Вы сегодня вечером дома?
– Да почему же вечером?! – завопила Тете. – Приходите сейчас же! Мы не доживем до вечера, мы умираем от любопытства!
– Мы придем часам к семи, – сказал Сантьяго. – Да-да, на обед. О'кей. Пока, Тете.
К этому визиту она готовилась тщательней, чем к свадьбе, думает он. Побежала в парикмахерскую, попросила донью Лусию выгладить ей блузку, перемерила все свои наряды и туфли, долго вертелась перед зеркалом, целый час красила губы и покрывала лаком ногти. Бедняжка, думает он. Днем она была вполне уверена в себе, прихорашивалась и наряжалась, заливалась смехом, расспрашивая его про дона Фермина и сеньору Соилу, про Чиспаса и Тете, но ближе к вечеру, когда прохаживалась перед ним по комнате – идет мне это платье, милый? может, лучше надеть это? – словоохотливость ее стала чрезмерной, а непринужденность – нарочитой и в глазах замерцали искорки тревоги. По дороге в Мирафлорес, в такси, она стала молчалива и сосредоточенна, и углы поджатых губ опустились – она волновалась.
– Они будут на меня смотреть как на марсианина, да? – сказала она вдруг.
– Тогда уж – как на марсианку, – сказал Сантьяго. – А тебе-то что до этого?
Ох, ей было много дела до этого, Савалита. Нажимая кнопку звонка, он увидел, как она ищет его руку, а свободной рукой поправляет прическу. Что за чушь, зачем они здесь, кому понадобился этот экзамен: ты чувствовал гнев, Савалита. На пороге прыгала нарядная Тете. Она чмокнула Сантьяго, обняла и поцеловала Ану, трещала без умолку и взвизгивала, а глаза ее, точно так же, как минуту спустя – глаза Чиспаса, глаза матери, глаза отца, шарили по Ане, ползали по ней, проникали, как на вскрытии, в самое нутро. И смех, и визг, и объятия, а два глаза делали свое дело. Тете, ни на миг не закрывая рта, схватила их обоих за руки, протащила через сад, подставив под водопад восклицаний, вопросов, поздравлений и продолжая посылать из-под ресниц быстрые колючие взгляды на спотыкавшуюся Ану. Все семейство поджидало их в гостиной. Настоящий трибунал, Савалита. Все были там, даже Попейе, даже Керн, невеста Чиспаса, все собрались и принарядились по такому случаю. Пять двустволок нацелились в лицо Аны и выстрелили залпом. Какое лицо стало у мамы, думает он. Ты ведь не знал родную мать, Савалита, думает он, ты полагал, что она лучше владеет собой, лучше управляет своими чувствами. Нет, она не сумела скрыть ни глубочайшего изумления, ни разочарования, ни досады, только ярость удалось ей кое-как замаскировать. Она подошла к ним последней – без кровинки в лице, словно «кающаяся», которая волочит свои цепи. Она поцеловала Сантьяго, пробормотав слова, которые ты не разобрал – губы у нее дрожали, думает он, и глаза сделались громадными, – и с явным усилием повернулась к Ане, уже раскрывшей объятия. Но мать не обняла ее и не улыбнулась ей, а только прикоснулась щекой к ее щеке и тотчас отстранилась: добрый вечер, Ана. Еще жестче стало ее лицо, повернувшееся к Сантьяго, а Сантьяго посмотрел на Ану: она вспыхнула, но дон Фермин уже спешил на выручку. Он снова обнял ее: вот, значит, какая у нас невестка, вот кого прятал от нас наш Сантьяго. Чиспас, ощерясь подобно бегемоту, обнял Ану, а Сантьяго хлопнул по спине, коротко воскликнув: ну, ты и скрытный же! И на его лице появлялось по временам то же растерянно-похоронное выражение, которое наплывало на лицо дона Фермина, когда тот на миг расслаблялся и забывал улыбаться. Только Попейе веселился от души. Керн, хрупкая, рыженькая, в черном платье, детским голоском, похожим на звук глиняной свистульки, уже задавала какие-то вопросы, заливалась невинным хохотком с неожиданно сварливым отзвуком. Но Тете была на высоте: она совершала невозможное, заполняя мучительные паузы в разговоре, пытаясь хоть как-то подсластить ту горькую отраву, которой мама вольно или невольно два часа поила Ану. Она же ни разу не обратилась к Ане, а когда натужно оживленный дон Фермин откупорил шампанское, забыла предложить ей сырные палочки. Она была по-прежнему напряжена и безразлична, и все так же подрагивала у нее нижняя губа и неподвижны были расширенные глаза, когда Ана под напором Тете и Керн, запинаясь и путаясь, стала объяснять, где и как происходила свадьба. Ну, что за блажь, восклицала Тете, втихомолку, без гостей, без торжества, а Керн: как здорово, как мило! – и поглядывала на Чиспаса. Время от времени дон Фермин, спохватываясь, внезапно обретал дар речи, подавался вперед и говорил Ане что-то ласковое. Как неловко ему было, Савалита, каких усилий стоила ему эта естественность, эта родственность. Подали еще маленьких сандвичей, и дон Фермин налил всем по второму бокалу шампанского, и на те мгновения, что они пили, всем стало немного свободней и легче. Краем глаза Сантьяго видел, как Ана глотает бутербродики, передаваемые ей Тете, и отвечает как умеет – и с каждым разом все застенчивей, все фальшивей – на шутки Попейе. Казалось, думает он, что сам воздух в комнате сейчас воспламенится, что они все вот-вот вспыхнут, займутся огнем. Невозможно, упорно, участливо всаживала Керн вопрос за вопросом. Она открывала рот – в каком коллеже ты училась, Ана? – и атмосфера сгущалась. – «Мария Парада де Бельидо» – это, кажется, муниципальная, да? – и сильнее дергалось веко – ах, ты кончила медицинское училище? – и подрагивала губа матери – ах, не как доброволец Красного Креста? Так ты умеешь делать уколы, Ана, а работала в рабочем госпитале в Ике? Помнишь, Савалита, как мама моргала, как закусывала губу, как ерзала она на стуле, словно села на муравейник? Помнишь, как отец, устремив взгляд на кончик своего башмака, слушал и вытягивал шею, стараясь улыбаться тебе и Ане? А та, сжавшись и съежившись, держа в пляшущих пальцах ломтик поджаренного хлеба с анчоусом, глядела на Керн, как запуганный студент на экзаменатора. Минуту спустя она поднялась, подошла к Тете и в мгновенно наступившей, насыщенной электричеством тишине что-то сказала ей на ухо. Ну, конечно, сказала Тете, пойдем. Они исчезли на лестнице, а Сантьяго взглянул на сеньору Соилу. Она еще не произнесла ни слова, Савалита. Сдвинув брови, дрожа нижней губой, она встретила твой взгляд. Ты подумал, что присутствие Попейе и Керн ее не остановит, думает он, ей на них плевать, это сильнее ее, она сейчас сорвется.
– Тебе не стыдно? – Голос ее суров и глубок, глаза покраснели, она заломила руки. – Как ты мог жениться так, так, никому ничего не сказав? Какому унижению ты подверг своего отца, брата, сестру!
Дон Фермин не поднимал головы, весь уйдя в созерцание своих башмаков, а Попейе выдавил из себя улыбку, отчего лицо его приняло необыкновенно глупое выражение. Керн вертела головкой из стороны в сторону, догадываясь, что что-то случилось, спрашивая глазами, что же именно, а Чиспас, скрестив руки на груди, глядел сурово.
– Сейчас неподходящее время, мама, – сказал Сантьяго. – Если бы я знал, что тебе это будет неприятно, мы бы не пришли.
– Я тысячу раз предпочла бы, чтоб ты не приходил, – громче заговорила сеньора Соила. – Ты слышишь меня? Тысячу раз предпочла бы вовсе тебя не видеть, чем видеть с этой… Идиот!
– Ну, перестань, Соила. – Дон Фермин взял ее за руку, Попейе и Чиспас испуганно глядели на лестницу. Керн раскрыла рот. – Перестань, прошу тебя.
– Ты не видишь, на ком он женился?! – зарыдала сеньора Соила. – Не видишь, да? Не понимаешь? Как я могу с этим смириться, когда мой сын женился на женщине, которую я не взяла бы и в горничные?!
– Соила, опомнись. – Помнишь, Савалита, он тоже по бледнел и тоже испугался.
– Что за глупости ты говоришь. Она может услышать, она жена Сантьяго.
Помнишь, Савалита, какой хриплый, потерянный голос был у отца, как пытался он вместе с Чиспасом успокоить, унять маму, которая уже плакала навзрыд. Помнишь, как залилось краской веснушчатое лицо Попейе, как съежилась на стуле Керн, словно в комнате вдруг повеяло арктической стужей?
– Ты никогда ее больше не увидишь, мама, – сказал наконец Сантьяго. – Но сейчас прошу тебя замолчать. Я не позволю ее оскорбить. Она не сделала тебе ничего плохого и…
– Вот как? Ничего плохого? Ничего плохого? – выкрикнула сеньора Соила, пытаясь высвободиться из рук дона Фермина и Чиспаса. – Она тебя завлекла, заманила, окрутила, и ты еще смеешь говорить, что эта мещанка мне не сделала ничего плохого?!