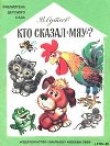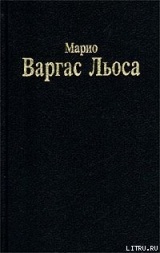
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)
Хозяйка, сеньора Ортенсия, была ростом повыше Амалии, но пониже сеньориты Кеты, волосы до того черные, что даже в синеву отливали, а кожа белая-белая, словно никогда солнца не видела, глаза зеленые, губы красные, и она их то и дело покусывала ровными своими зубками очень кокетливо. Сколько ей лет, интересно? За тридцать, говорила Карлота, а Амалия считала, что не больше двадцать пяти. От талии вверх – ничего особенного, но зато вниз – крутой такой изгиб. Плечики пряменькие, назад откинуты, груди торчком, а талия – как у девочки. Но бедра – с ума сойти, прямо сердечком: сначала широкие, а потом плавно так сужаются, все уже, уже, а лодыжки совсем тоненькие, и сами ножки – тоже как у ребенка. И ручки тоже. А ногти – длинные и того же цвета, что и помада на губах. Когда ходила в брючках и в блузке, все – напрогляд. А платья шила с глубокими вырезами: плечи голые, спина голая и грудь до половины тоже голая. Когда садилась, закидывала ногу на ногу, подол вздергивался много выше колена, и Карлота с Амалией, затаясь в буфетной, кудахтали, обсуждая, как шарят гости глазами за вырезом и под юбкой у хозяйки. Дряхлые старики, седые и лысые – чего только они не придумывали, чтоб заглянуть куда не следует: кто поставит на ковер, а потом поднимет стакан с виски, кто наклонится пепел стряхнуть. А она нисколько не сердилась, даже наоборот: усаживалась, откидывалась, играла ручками, перекидывала ножки. А хозяин совсем, что ль, не ревнует? – спрашивала Амалия у Карлоты: другой бы на его месте рассвирепел, глядя, что они только позволяют себе. А Карлота: чего ж ему ревновать? Она ведь ему не законная, а полюбовница. А все-таки странно: он, конечно, и немолодой, и некрасивый, но ведь не слепой же, не придурок какой, чтоб в полном спокойствии наблюдать, как его гости, уже поднабравшись и вроде бы в шутку, безбожно заигрывают с сеньорой Ортенсией. То в танце присосутся губами к шее, то прижмут, то погладят. А хозяйка только хохочет, как всегда, особо дерзкого хлопнет по руке, или толкнет на диван, или продолжает танцевать как ни в чем не бывало, предоставляя партнеру делать все, что тому заблагорассудится. Дон Кайо никогда не танцевал. Сидел в кресле со стаканом в руке, беседовал с гостями или смотрел своим водянистым взором на хозяйкины забавы. Однажды один гость – багроворожий такой – крикнул ему: дон Кайо, не отпустите ли вашу фею со мной на уик-энд? – а хозяин: сделайте одолжение, генерал, а хозяйка: чудно, вези меня в Паракас, я твоя! Амалия с Карлотой помирали со смеху, подсматривая и подслушивая все это бесстыдство, но не больно-то можно было разгуляться: либо Симула уж тут как тут и дверь запрет, либо появится сама хозяйка – глаза сверкают, щеки горят – и погонит спать. Но Амалия и из своей комнаты слышала смех, голоса, звон и подолгу лежала без сна и покоя, посмеиваясь чуть слышно. А уж наутро они с Карлотой работали за десятерых. Горы окурков, порожние бутылки, вся мебель сдвинута к стенам, на полу – битое стекло. Чистили, мыли, прибирали, чтоб хозяйка, спустившись, не сказала: «Боже, какой хлев!» В такие дни хозяин оставался ночевать. Уезжал он рано. Амалия из окна видела, как он, желтый, с набрякшими мешками под глазами, торопливо шел по двору, будил тех двоих, что всю ночь караулили его в машине – интересно, сколько ж им платят за такую каторжную работу? – и уезжал, и тотчас исчезали и двое, торчавшие на углу. В такие дни хозяйка поднималась очень поздно. У Симулы уже стояли наготове блюдо мидий с луковым соусом и чесноком, большой стакан ледяного пива. Хозяйка в халате, с опухшими, красными глазами спускалась, ела и возвращалась к себе, снова укладывалась в постель, а потом Амалия по звоночку приносила ей минеральную воду и «алька-зельтцер».
– «Олаве», – сказал он, выпустив дым. – Из Чиклайо люди вернулись?
– Сегодня утром вернулись, дон Кайо, – кивнул Лосано. – Все решилось. Вот рапорт префекта, вот копии полицейского донесения. Трое задержаны.
– Апристы? – Он снова выпустил дым, заметив, что Лосано едва сдерживается, чтобы не чихнуть.
– Из АПРА один только человек, некто Ланса, из главарей. Двое других – юнцы, у нас нигде не проходили.
– Везите их в Лиму, пусть покаются в грехах смертных и невольных. Такая забастовка, как на «Олаве», стихийно не возникает – ее готовили, готовили долго и профессионально. Работы возобновились?
– Да, утром, дон Кайо, – сказал Лосано. – Я связывался с префектом. Мы оставили там на несколько дней агентов, хотя префект уверяет…
– Так. Дальше. Сан-Маркос.
Лосано закрыл рот на полуслове, руки его, пролетев над столом, ухватили три, четыре листка, опустили на ручку кресла.
– На этой неделе никаких перемен, дон Кайо. Собираются группками, апристы дезорганизованы как никогда, красные чуть активней, чем всегда. Ах да, выявлена новая троцкистская ячейка. В основном разговоры, собрания, ничего серьезного. Через неделю на медицинском факультете – выборы. У апристов есть шансы на победу.
– Так. Другие университеты. – Он снова дунул дымом, и на этот раз Лосано чихнул.
– То же самое, дон Кайо. Споры, собрания, свары. Наконец-то наладился канал информации из университета Трухильо. Вот – меморандум № 3. Там у нас два осведо…
– Только меморандумы? – сказал он. – Ни листовок, ни плакатов, ни журнальчиков на гектографе?
– Разумеется, дон Кайо, как же без них? – Лосано подхватил свою папку, вжикнул молнией, с торжествующим видом извлек пухлый конверт. – Вот: листовки, плакаты и даже резолюции Федеральных центров. Все имеется, дон Кайо.
– Так. Поездка президента, – сказал он. – С Кахамаркой связывались?
– Там уже начали подготовку, – сказал Лосано. – Я выеду в понедельник, а в среду утром представлю вам подробный доклад, с тем чтобы в четверг вы смогли сами проверить расположение постов. Если сочтете нужным, дон Кайо.
– Ваших людей отправьте в Кахамарку автобусами. В пятницу они должны быть на месте. Если они полетят, а самолет разобьется, вы не успеете послать замену.
– В сьерре такие дороги, что еще большой вопрос, что безопасней – самолет или автобус, – пошутил Лосано, но он не улыбнулся, и Лосано вмиг посерьезнел. – Мудрая мысль, дон Кайо.
– Бумаги мне оставьте. – Он встал, и тотчас вскочил Лосано. – Завтра вам верну.
– Не буду вас больше обременять, дон Кайо… – Лосано со своей раздутой папкой под мышкой пошел к дверям кабинета.
– Еще минутку, Лосано. – Он снова закурил, со всхлипом затянулся, чуть прижмурил глаза. Улыбающийся Лосано выжидательно стоял перед ним. – Больше не берите денег со старухи Ивонны.
– Простите, дон Кайо?.. – Он увидел, как тот заморгал, смешался, побледнел.
– То, что вы берете по сколько-то там солей с каждой лимской проститутки, меня не касается, – сказал он улыбчиво и любезно. – Но Ивонну оставьте в покое, а если у нее возникнут какие-либо трудности, – помогите. Это хороший человек.
Толстощекое лицо вмиг взмокло, поросячьи глазки тщетно пытались улыбнуться. Он открыл перед ним дверь, похлопал по плечу: до завтра, Лосано, и вернулся в кабинет. Поднял трубку: доктор, соедините с сенатором Ландой. Собрал оставленные Лосано бумаги, спрятал их в портфель. Через минуту зазвонил телефон.
– Алло, дон Кайо? – раздался бодрый голос Ланды. – Как раз собирался вам звонить.
– Ну, вот видите, сердце сердцу весть подает, – сказал он. – Я к вам с доброй вестью.
– Как же, как же, я уже знаю… – Ишь, как ты обрадовался, сволочь. – Да-да-да, на «Олаве» утром возобновили работы. Вы не представляете себе, дон Кайо, до чего я вам благодарен.
– Мы взяли зачинщиков, – сказал он. – Некоторое время они никому мешать не будут.
– Да, если бы к уборке не приступили, это было бы сущее бедствие для всего департамента, – сказал сенатор. – А что, дон Кайо, вы свободны сегодня вечером?
– Приезжайте в Сан-Мигель, поужинаем, – сказал он. – Ваши поклонницы беспрестанно справляются о вас.
– Польщен и тронут. Значит, часам к девяти, да? – Смешок. – Прекрасно. В таком случае, до скорого свидания, дон Кайо.
Он дал отбой, а потом набрал номер. Трубку сняли только после четвертого гудка, и сонный голос протянул: да-а?
– Я пригласил на сегодня Ланду, – сказал он. – Позови Кету. И можешь передать Ивонне, что мзды с нее больше брать не будут. Спи дальше.
Рано утречком двадцать седьмого октября отправились они с Лудовико, и Иполито уверял, что все будет в порядке. Издалека еще увидали они толпу – яблоку, дон, там негде было упасть. Горели кучи мусора, ветер разносил пепел, в небе кружили ястребы. Все начальство вышло их встречать, а впереди – Каланча, и медовым таким голоском он спросил: ну, что я вам говорил? Пожал им руки, представил остальных, пошли объятия. На крышах, в дверях – портреты Одрии, у каждого в руках – флажок, кругом – плакаты «Да здравствует революция-восстановительница! Да здравствует Одрия! Одрия, мы с тобой!». Народ на них пялился, ребятишки путались под ногами.
– Что ж, они и на площади будут стоять с такими постными рожами? – сказал Лудовико. – Кого хоронить собрались?
– Развеселятся, не беспокойтесь, – с важным видом заверил Каланча.
Погрузились в автобусы, но народу было много, особенно женщин и горцев, так что пришлось сделать несколько ездок. Площадь Армас была заполнена, были там люди и из городских кварталов, и из предместий, и из окрестных имений. Целое море голов, а над головами – портреты генерала, транспаранты, флажки. Поставили своих подопечных куда было велено сеньором Лосано. В дверях всех магазинов и лавок торчали люди, из окон муниципалитета выглядывали любопытные, может, и дон Фермин там был – нет? И Амбросио вдруг сказал: глядите-ка, вон там, на балконе, – сеньор Бермудес. Тут они стали расшевеливать народ – давайте смейтесь, машите флажками, не спите, – переходя от одной кучки к другой, – повеселей, поживей! Прибыли оркестры, грянули вальсы и маринеры, и наконец на балкон дворца вышел президент, а за ним много всяких военных и штатских, и народ тогда вправду оживился. А когда Одрия сказал речь про революцию и про отчизну – еще больше. Стали кричать «Ура! Да здравствует Одрия!», а потом долго ему хлопали. Ну что, сдержал я свое слово? – все приставал к ним Каланча уже по возвращении. Ему отдали обещанные три сотни, а он захотел их угостить, потому, мол, и беру эти деньги. Людям уже раздали спиртного и курева. Они выпили с Каланчой по нескольку рюмочек и смылись, а Иполито оставили приглядывать.
– Как ты думаешь, будет доволен сеньор Бермудес?
– Я думаю, Лудовико, будет.
– А не мог бы ты устроить меня в охрану вместо Иностросы, мы бы тогда вместе были?
– Это ж каторга, Лудовико. Иностроса от этих бессонных ночей уже заговаривается.
– Зато на пятьсот солей больше, Амбросио. И потом, может, звание присвоят, и потом, вместе будем.
Ну, Амбросио замолвил словечко дону Кайо, чтоб вторым охранником в машине был не Иностроса, а Лудовико, и дон Кайо посмеялся и сказал: ага, негр, теперь уж и ты протекции составляешь.
III
Однажды утром после очередных гостей пришлось Амалии несказанно удивиться. Она услышала, как сошел вниз хозяин, потом увидала в окно, как отъехала машина, как покинули свой пост охранники на углу. Тогда она поднялась в спальню, чуть слышно стукнула в дверь – можно, сеньора, я туфли заберу почистить? – открыла и на цыпочках вошла. Вон они, у туалетного столика. Она различала крокодильи лапы кровати, ширму, шкаф, все остальное тонуло в теплой, надышанной полутьме. Уже в дверях она обернулась, посмотрела на кровать. И похолодела: на кровати спала и сеньорита Кета. Простыни и одеяло сбились, сеньорита лежала к ней лицом, одна рука закинута на бедро, другая свесилась, а сама сеньорита была голая, голая! Теперь за ее смуглой спиной видела она и белое плечо, белую руку, иссиня-черные хозяйкины волосы: она спала, повернувшись к стене, укрывшись простыней. Амалия стала выбираться из комнаты, ступая словно по битому стеклу, и уже на самом пороге неодолимое любопытство заставило ее еще раз обернуться – пятно темное, пятно светлое, и обе спят так тихо и мирно, но что-то странное, таящее непонятную угрозу исходило от кровати, и отражался в зеркальном потолке дракон, словно вывихнувший себе все свои лапы и шею. Тут одна из спящих пробормотала что-то невнятное, и Амалия, испугавшись, поскорей выскользнула из спальни, дыша так, словно за ней гнались. На лестнице напал на нее неудержимый смех, а на кухню она прибежала, зажимая себе рот, задыхаясь. Карлота, Карлота, хозяйка-то спит в одной постели с сеньоритой Кетой, – тут понизила голос, выглянула в патио, – и обе в чем мать родила. Подумаешь, сказала Карлота, сеньорита часто остается ночевать, – но вдруг раскрыла рот и тоже зашептала, – и обе, говоришь, голые? И все утро, покуда они прибирались, поправляли криво висевшие картины, меняли воду в кувшинах и вазах, выбивали ковры, то и дело подталкивали друг друга локтями: а хозяин-то, значит, на диванчике, в кабинете, – изнемогая от смеха, – или под кроватью? – и даже слезы наворачивались на глаза от сдерживаемого смеха, и они хлопали друг друга по спине – да как же это понимать? да что же у них творится? – и Карлота фыркала, а Амалия закусывала руку, чтоб не прыснуть. Тут вернулась ходившая за покупками Симула: и что это вас разбирает? Да нет, ничего, по радио смешную постановку передавали. Хозяйка с сеньоритой поднялись за полдень, покушали прочесноченных мидий, запили ледяным пивом. Сеньорита была в хозяйкином халате, коротковатом ей. Звонить в тот день они никуда не стали, крутили пластинки и разговаривали, а под вечер сеньорита Кета ушла.
– Только пришел, дон Кайо, примете его?
– Приму.
Через секунду дверь отворилась – золотистые кудряшки, гладкие, пухлые розовые щечки, упругий бесшумный шаг. Теноришка, подумал он, херувимчик, евнух.
– Чрезвычайно рад, сеньор Бермудес, – протягивал руку, улыбался и кланялся, сейчас поглядим, долго ль ты будешь радоваться. – Надеюсь, вы помните меня, в прошлом году вы…
– Разумеется, помню. Поговорим прямо здесь, если не возражаете. – Он подвел гостя к тому самому креслу, на котором недавно сидел Лосано. – Вы курите? Прошу.
Тот торопливо вытащил сигарету, достал свою зажигалку, с полупоклоном щелкнул ею.
– Я как раз собирался посетить вас, сеньор Бермудес. – Тальио беспрестанно двигался, ерзал в кресле, сидел как на иголках.
– Сердце сердцу весть подает, – сказал он с улыбкой. Увидел, что Тальио кивнул и открыл рот, и не дал ему сказать ни слова – протянул пачку газетных вырезок. Тот с преувеличенным удивлением взял ее, принялся сосредоточенно перебирать, кивая. Кивай, кивай, делай вид, что читаешь, макаронник поганый.
– Да-да, я видел, это ведь насчет беспорядков в Буэнос-Айресе. – Теперь перестал ерзать, замер, застыл. – Есть правительственное сообщение по этому поводу? Мы его немедленно распространим.
– Все газеты опубликовали сообщение АНСА, вы обскакали все остальные агентства, – сказал он. – Сорвали, должно быть, недурной куш?
Он улыбнулся и поймал ответную улыбку Тальио, но счастья в ней уже не было, воспитанный ты человек, евнух, и щеки стали еще красней.
– Мы-то считали, что лучше было бы не рассылать эту информацию в газеты, – сказал он. – Апристы забросали камнями посольство своей родной страны. Весьма прискорбный факт, не правда ли? Зачем об этом трубить?
– Я, по правде говоря, был удивлен, что напечатана только телеграмма АНСА. – Он плечами пожимал, руками разводил.
– Мы включили ее в наш бюллетень потому лишь, что никаких указаний на этот счет не получали. Телеграмма прошла через Службу информации, сеньор Бермудес. Надеюсь, мы не совершили никакой ошибки, сеньор Бермудес?
– Все информационные агентства придержали эту телеграмму, все, кроме АНСА, – горестно сказал он. – И это при наших-то с вами добрых отношениях, сеньор Тальио.
– Но телеграмма вместе со всеми остальными прошла через ваше ведомство, сеньор Бермудес. – Раскраснелся, забыл про улыбки, почуял, что жареным запахло. – Никаких замечаний, никаких указаний нам не давали. Прошу вас, вызовите доктора Альсибиадеса, я хочу разрешить это недоразумение немедленно.
– Наше ведомство не оценивает информацию, – он потушил сигарету и очень медленно закурил снова, – а только подтверждает получение, сеньор Тальио.
– Но если бы доктор Альсибиадес предупредил меня, я бы не стал включать эту телеграмму в информационный бюллетень, мы всегда так поступали. – Теперь встревожился не на шутку, растерялся, заволновался. – У нашего агентства и в мыслях не было распространять сведения, которые могут огорчить правительство. Но ведь мы не ясновидящие, сеньор Бермудес.
– Мы не даем никаких инструкций, – сказал он, увлеченно разглядывая кольца дыма, белые горошины на галстуке Тальио. – Мы лишь по-дружески, и в самых крайних случаях, рекомендуем не распространять сведения, роняющие престиж страны.
– Ну да, ну конечно, сеньор Бермудес. – Вот и ухватило кота поперек живота. – Я всегда выполнял все рекомендации доктора Альсибиадеса. Но на этот раз ни слова не было сказано, даже намека не было. Я прошу вас…
– Правительство не стало вводить предварительную цензуру именно затем, чтобы не причинять вреда агентствам, – сказал он.
– Если вы не вызовете доктора Альсибиадеса, мы никогда не восстановим истину. – Ну, Робертито, запасайся вазелинчиком, пришел твой час. – Пусть он даст объяснения вам и мне. Пожалуйста, я ничего не понимаю, сеньор Бермудес.
– Я сам закажу, – сказал Карлитос и, обращаясь к официанту: – Немецкого пива, этого, в жестянках.
Он прислонился к стене, сплошь оклеенной страницами «Нью-Йоркера». Лампа с рефлектором освещала всклокоченную голову, выпученные глаза, заросшее двухдневной щетиной лицо, нос, покрасневший от пьянства, думает Сантьяго, и от насморка.
– Оно, наверно, дорогое? – сказал Сантьяго. – У меня, знаешь, сейчас с деньгами туговато.
– Я угощаю, – сказал Карлитос. – Я только что расхвалил этих сволочей в статье. А ты знаешь, что сегодня вечером погубил свою репутацию, явившись сюда со мной?
Большая часть столов пустовала, но из-за плетеной занавески, перегораживавшей зал надвое, доносились голоса, у стойки бара человек без пиджака пил пиво, и кто-то, невидимый в темноте, наигрывал на рояле.
– Случалось мне здесь оставлять жалованье целиком, – сказал Карлитос. – В этом вертепе я как рыба в воде.
– А я впервые в «Негро-негро», – сказал Сантьяго. – Здесь что, правда, собираются художники и писатели?
– Непечатающиеся писатели, невыставляющиеся художники, – сказал Карлитос. – Когда я был еще совсем желторотым, я шел сюда как верующий к причастию. Садился вон туда, в уголок, смотрел, слушал, а если узнавал по фотографии писателя, сердце мое билось учащенно. Мне хотелось быть поближе к гениям, хотелось, чтоб частица их гениальности меня осенила.
– Так ведь ты сам пишешь, – сказал Сантьяго. – Пишешь и печатаешься, я читал твои стихи.
– Собирался писать, собирался печататься, – сказал Карлитос. – Поступил в «Кронику» и изменил призванию.
– Ты предпочел журналистику? – сказал Сантьяго.
– Я предпочитаю выпить, – засмеялся Карлитос. – Журналистика – это не призвание, а крах всех надежд. Скоро ты сам это поймешь.
Он весь сжался, и там, где только что была его голова, появились рисунки, карикатуры и английские буквы заголовков, и гримаса исказила его лицо, Савалита, пальцы судорожно впились в столешницу. Он тронул Карлитоса за руку: тебе нехорошо? Карлитос выпрямился, снова привалился затылком к стене.
– Наверно, язва моя дает себя знать. – Теперь за правым ухом у него был небоскреб, а за левым – человек-ворон. – Наверно, выпить надо. Ты думаешь, я пьяный, а у меня капли во рту не было.
Это твой последний друг, Савалита, и он – в больнице с белой горячкой. Завтра уж обязательно навестишь его, отнесешь ему что-нибудь почитать.
– Я садился за столик и чувствовал себя в Париже, – сказал Карлитос. – Я мечтал, как однажды окажусь в Париже и – бац! – непостижимым образом стану гением. Однако никуда я не поехал, Савалита, и вот сижу перед тобой, и у меня схватки, как при родах. Интересно, кем ты хотел быть, пока тебя не прибило к нашему берегу?
– Адвокатом, – сказал Сантьяго. – Нет, пожалуй, – революционером. Коммунистом.
– Журналист и коммунист, по крайней мере, рифмуется, а вот поэт и журналист – нет, – засмеялся Карлитос. – Меня, кстати, выперли со службы за то якобы, что я коммунист. А не выперли бы, я бы не пошел в газету и продолжал писать стихи.
– Знаешь, что такое белая горячка, Амбросио? – говорит Сантьяго. – Это когда ты ни о чем не желаешь знать, когда тебе ничего не хочется и не надо.
– А я такой же коммунист, как ты – китайский император, – сказал Карлитос. – Это самое пикантное: я так и не знаю, за что же все-таки меня выперли. Однако выперли, и вот я сижу перед тобой – пьяница с язвой желудка. Твое здоровье, хороший мальчик. Твое здоровье, Савалита.
Сеньорита Кета была хозяйкина лучшая подруга, она чаще всех появлялась в Сан-Мигеле, и ни одни гости без нее не обходились. Она была высокая, длинноногая, рыжая – крашеная, говорила Карлота, – смуглая, фигуристая, поярче была, чем сеньора Ортенсия, и одевалась смелей, и вела себя, выпивши, пошумней. Самый шум от нее был, когда приходили гости, самая была заводная и танцевала до упаду, и уж она-то предоставляла своим кавалерам полную волю и сама же их подстрекала: прижималась, ерошила им волосы, дышала в ухо, усаживалась, бесстыжая, на колени. Без нее никакое веселье не клеилось. В первый раз увидев Амалию, она долго ее разглядывала с непонятной какой-то улыбочкой, задумчиво так рассматривала с головы до ног, и Амалия еще удивилась, чего это она? Значит, ты и есть та знаменитая Амалия, наконец-то я с тобой познакомилась. Чем это она знаменита? Ну, как же, засмеялась та, разбиваешь сердца, сводишь мужчин с ума. Тоже вроде бы с приветом, но, видно, незлая и симпатичная. Они с сеньорой если не развлекались по телефону, то сплетничали. Влетала в дом, в глазах – шальной огонек, и начиналось: ох, я тебе такое расскажу! И из кухни Амалия слышала, как они перемывают кости всем своим знакомым, все высмеивают, над всеми потешаются. Она и их с Карлотой вгоняла в краску своими шуточками. Но зато была добрая: когда посылала за чем-нибудь к китайцу в лавочку, всегда давала соль или два. А однажды, когда у Амалии был выходной, посадила ее в свою белую машинку, подвезла до самой остановки.
– Альсибиадес лично звонил в ваше агентство и просил не рассылать телеграмму из Буэнос-Айреса по газетам, – вздохнул он, потом улыбнулся едва заметно. – Я бы не стал вас беспокоить, если б уже не велось следствие.
– Но этого не может быть. – Тугие щеки словно опали, язык вдруг стал заплетаться. – Мне звонил?.. Но ведь секретарша передает… Доктор Альсибиадес лично звонил?.. Я не понимаю, каким образом…
– Каким образом могла не попасть к вам телефонограмма? – без всякой иронии пришел он к нему на помощь. – Я так и думал. Кажется, Альсибиадес разговаривал с кем-то из редакторов.
– Из редакторов? – Ни тени прежнего улыбчивого апломба, ни следа былой победительности. – Не может быть, сеньор Бермудес. Я совершенно сбит с толку… Поверьте, мне очень жаль. Вы не знаете, с кем именно из редакторов говорил доктор? У меня всего два сотрудника… и в конце концов, я клянусь вам, подобное не повторится.
– Я и сам был, признаться, удивлен, потому что у нас с АНСА всегда было полное взаимопонимание, – сказал он. – Радио и Служба информации покупают у вас информационные бюллетени. Правительство платит за это деньги, как вы знаете.
– Разумеется, разумеется, сеньор Бермудес. – Давай теперь, разыгрывай негодование, теноришка, начинай свою сольную партию. – Вы позволите? – кивок на телефон. – Я немедленно выясню, кто разговаривал с доктором Альсибиадесом. Мы сейчас же все установим, сеньор Бермудес.
– Сядьте, не волнуйтесь. – Он улыбнулся ему, протянул сигареты, поднес огня. – Мы со всех сторон окружены врагами, возможно, что и в вашем агентстве работает тот, кто нас не любит. Следствие все расставит по своим местам, сеньор Тальио.
– Но эти мои редакторы – мальчишки, которые… – он огорченно замолк, – ну, короче говоря, я все выясню сегодня же. В дальнейшем пусть доктор Альсибиадес связывается непосредственно со мной.
– Да, так, конечно, будет лучше, – сказал он, словно по рассеянности устремив задумчивый взгляд на трепетавшие в пальцах Тальио вырезки. – Печально, что у меня возникли неприятности. И президент и министр непременно спросят меня, почему мы покупаем информацию у агентства, причиняющего столько хлопот. А ведь это я отвечаю за контракт с АНСА. Сами понимаете…
– Именно поэтому, сеньор Бермудес, я так растерян… – Да уж, ты бы хотел сейчас оказаться за тысячу миль отсюда. – Того, кто разговаривал с доктором, я уволю сегодня же.
– … Что все это наносит ущерб нашему строю, – сказал он, как бы делясь с собеседниками невеселыми потаенными думами. – Наши враги не преминут воспользоваться такой информацией, появившейся в газетах. А у нас и так с ними много возни. А теперь еще и друзья подбрасывают проблемы. Разве это справедливо?
– Это не повторится, сеньор Бермудес. – Вытащил небесно-голубой платок, яростно вытер руки. – Можете быть совершенно уверены, уж в этом, сеньор Бермудес, можете не сомневаться.
– Я люблю подонков. – Карлитос вдруг снова согнулся пополам, словно его пнули под ложечку. – Уголовная хроника меня развратила.
– Хватит на сегодня, – сказал Сантьяго. – Пойдем-ка отсюда, лучше будет.
Но Карлитос распрямился и улыбнулся:
– Ничего, от второй кружки рези стихают, я прихожу в норму, ты просто меня не знаешь. Мы ведь впервые с тобой выпиваем? – Да, Карлитос, думает он, это было впервые. – Очень уж ты серьезный юноша, Савалита, кончил работу и – привет, никогда не посидишь, не выпьешь с нами, с неудачниками. Бежишь от нашего тлетворного влияния?
– Я едва дотягиваю до получки, – сказал Сантьяго. – Если буду шататься с вами по кабакам, нечем будет с хозяйкой расплатится.
– Ты разве один живешь? – сказал Карлитос. – Я думал, ты маменькин сынок. И родных нет? А сколько ж тебе лет? Молодой еще, да?
– Слишком много вопросов, – сказал Сантьяго. – Родные у меня есть, а живу я один. А ты мне лучше скажи, как это вы умудряетесь напиваться и к девицам ходить на ваше жалованье? Я никак не пойму.
– Тайны ремесла, – сказал Карлитос. – Искусство брать в долг и одалживать. А у тебя, значит, баба есть, раз ты не ходишь с нами?
– Ты еще спроси, бросил ли я онанизмом заниматься, – сказал Сантьяго.
– Если бабы у тебя нет и в бордель не ходишь, только это и остается, – сказал Карлитос. – Или, может, ты мальчиками увлекаешься?
Он опять скрючился, а когда разогнулся, все лицо его размякло, разъехалось, потеряло очертания. Он привалился заросшим косматым затылком к стене, посидел минуту с закрытыми глазами, а потом, порывшись в карманах, что-то достал, поднес к носу, глубоко вдохнул. Некоторое время он так и оставался – голова закинута, рот полуоткрыт, на лице – хмельное умиротворение. Потом открыл глаза, насмешливо посмотрел на Сантьяго:
– Чтоб брюхо не болело. Чего ты так испугался? Я ж это не проповедую.
– Хочешь потрясти мое воображение? – сказал Сантьяго. – Зря стараешься. Я знаю, что ты пьяница и кокаинист, все в редакции поспешили меня предупредить. Я сужу о людях не по этому.
Карлитос улыбнулся ласково и протянул сигареты.
– Я был немножко предубежден – слышал, что тебя приняли по чьей-то там рекомендации – и потом ты сторонился нас. Выходит, я ошибся. Ты мне нравишься, Савалита.
Он говорил медленно, и по лицу его разливался покой, и движения становились церемонно плавными.
– Я однажды попробовал, но никакого эффекта. – Карлитос, это была ложь. – Вывернуло наизнанку, и желудок расстроился.
– Итак, ты три месяца служишь в «Кронике», и жизнь тебе еще не опротивела, – торжественно, словно молясь, сказал Карлитос.
– Три с половиной, – сказал Сантьяго. – Только что кончился испытательный срок. В понедельник подписываем контракт.
– Бедняга, – сказал Карлитос. – Смотри, как бы ты на всю жизнь не застрял в репортерах. Послушай, нет-нет, придвинься поближе, это не для чужих ушей. Я открою тебе страшную тайну. Поэзия – это самое великое, что есть на свете, Савалита.
В тот раз сеньорита Кета приехала в Сан-Мигель около полудня. Вихрем влетела в дом, мимоходом ущипнула за щеку Амалию, открывшую ей дверь, и Амалия подумала: совсем ошалела. На лестнице появилась хозяйка, и сеньорита послала ей воздушный поцелуй: пустишь меня? Я приехала дух перевести, старуха Ивонна меня ищет, а я умираю спать хочу. Заходи, заходи, рассмеялась хозяйка, давно ли ты стала такой церемонной? Они обе ушли в спальню, а потом оттуда донесся хозяйкин голос: Амалия! Принеси нам пива похолодней! Амалия с подносом поднялась по лестнице и остановилась на пороге – сеньорита Кета в одних штанишках валялась на кровати: платье, чулки, туфли были раскиданы по полу, а сама она пела, хохотала и разговаривала сама с собой. Она как будто и хозяйку заразила: та еще ничего с утра не пила, но тоже смеялась, напевала, сидя на банкетке у трюмо. Сеньорита швыряла в нее подушками, рыжие волосы падали ей на глаза, она болтала длинными ногами в воздухе, как будто гимнастику делала, и ноги эти отражались в бесчисленных зеркалах, и казалось, что их у нее – как у сороконожки. Увидевши Амалию с подносом, она приподнялась и села – ух, как пить хочется! – и одним глотком выдула полстакана – ух, хорошо! И вдруг ухватила Амалию за руку: поди-ка, поди-ка сюда, – глядя на нее лукаво и хитровато, – нет, стой, не уйдешь! Амалия взглянула на хозяйку, но та – ничего, только смотрела на сеньориту, словно говоря: ну-ну, посмотрим, что дальше, и тоже смеялась. Где это ты таких откапываешь? – и сеньорита вроде бы как погрозила хозяйке, – может, ты собралась мне с нею изменить, а? А сеньора Ортенсия закатилась, как всегда: ага, с нею, с нею! А сеньорита захохотала в ответ: но ты ж не знаешь, с кем эта тихоня тебе изменяет! У Амалии зазвенело в ушах, а сеньорита держала ее крепко и приговаривала: око за око, зуб за зуб – и все глядела на Амалию – а скажи-ка мне, Амалия, ты по утрам, когда хозяин уезжает, поднимаешься утешать нашу куколку? Амалия уж и не знала, сердиться или смеяться. Иногда, – еле пролепетала она, и как будто анекдот рассказала. Ах, подлянка, – так и грохнула сеньорита, глядя на хозяйку, а та, тоже помирая со смеху, сказала: я ее тебе одолжу, только ты смотри мне, будь поласковей, и тогда сеньорита дернула Амалию за руку, усадила к себе на кровать. Хорошо хоть, сеньора Ортенсия тут наконец встала, подбежала к ним, стала отнимать Амалию, оторвала ее от сеньориты и сказала: иди, иди, Амалия, эта полоумная тебя испортит. Амалия вышла из спальни, а вдогонку ей несся хохот, и спустилась по лестнице: ей и самой было смешно, хоть коленки у нее дрожали, а когда пришла на кухню, все веселье как рукой сняло, рассердилась. Симула, что-то напевая, полоскала белье: что это ты такая смурная? Да ну их, отвечала Амалия, напились обе, несут такое, что уши вянут.