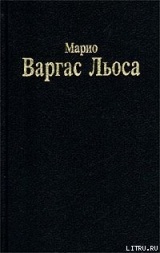
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Как ты, как ты, сынок? С тобой ничего не делали?
– Ничего, папа. Только не понимаю, за что меня сюда привезли, я ни в чем не виноват.
Дон Фермин заглянул ему в глаза, еще раз обнял, потом отпустил, как-то странно улыбнувшись, и повернулся к письменному столу, за которым уже сидел какой-то человек.
– Ну вот, дон Фермин, – я видел над столом только его голову, Карлитос, слышал его безразлично услужливый голос, – вот вам ваш наследник в целости и сохранности.
– Этот молодой человек неустанно доставляет мне все новые и новые хлопоты, – бедняга, он хотел, чтобы его слова звучали непринужденно, а выходило театрально, фальшиво и даже смешно. – Впору позавидовать вам, дон Кайо, что у вас нет детей.
– Когда приходит старость, – да, Карлитос, это был Кайо Бермудес собственной персоной! – хочется, чтоб кто-нибудь остался вместо тебя в этом мире.
Дон Фермин издал сдавленный смешок, присел на край письменного стола, а Кайо Бермудес поднялся: вот, значит, он какой, вот что он из себя представляет. Обтянутое пергаментной кожей, сухое, никакое лицо. Садитесь в кресло, дон Фермин. Нет, дон Кайо, благодарю, мне удобно.
– Эх, молодой человек, во что вы только впутались, – он, Карлитос, говорил ласково и как бы сожалея. – Вместо того чтобы учиться, полезли в политику.
– Я не интересуюсь политикой, – сказал Сантьяго. – Мы просто собрались с товарищами, но я ничего такого не сделал.
Но Бермудес, наклонившись, протянул пачку «Инки» дону Фермину, и он, который ничего, кроме «Честерфильда», не курил, а черный табак вообще не переносил, с той же ненатуральной улыбкой поспешил взять сигарету, зажать ее в зубах. Жадно затянулся и закашлялся и, наверно, обрадовался этому как возможности скрыть свою неловкость, свою ужасающую, Карлитос, тревогу, свое беспокойство. Бермудес с угрюмым видом провожал клубы дыма, а потом вдруг взглянул на Сантьяго:
– Хорошо, когда молодой человек – бунтарь по натуре, когда он повинуется безотчетным душевным порывам. – Он говорил, Карлитос, как в какой-нибудь светской гостиной, где смысл слов не имеет ровно никакого значения ни для говорящего, ни для слушающего. – Но принимать участие в коммунистическом заговоре – это совсем другое дело. Разве вы не знаете, что эта партия запрещена? А что, если к вам будет применен закон о внутренней безопасности?
– Закон о внутренней безопасности – это не для сопляков, которые сами не понимают, куда их несет, дон Кайо. – Он говорил, Карлитос, со сдержанной яростью, однако не повышая голоса, чтобы не сорваться, не крикнуть собеседнику: холуй! собака!
– Дон Фермин, – укоризненно протянул Кайо, как бы слегка пораженный тем, что собеседник не понимает шуток, – ни к соплякам, как вы изволили выразиться, ни тем более к сыну человека, оказавшего такие услуги нашему государству, закон этот неприменим.
– У Сантьяго – трудный характер, мне ли этого не знать. – Он улыбался, Карлитос, и тут же становился серьезным, и менял интонации чуть не на каждом слове. – Но не стоит преувеличивать, дон Кайо. Мой сын не принимает участия в заговорах и, уж конечно, не якшается с коммунистами.
– Тогда пусть он сам вам расскажет, дон Фермин, – он, Карлитос, сказал это дружелюбно, даже чуть-чуть заискивающе, – пусть расскажет вам, что он делал в этой захудалой гостинице в квартале Римак, и что такое «фракция», и что скрывается за словом «Кауйде». Пусть он сам все объяснит. – Он выпустил струю дыма и проводил ее меланхолическим взглядом.
– Да у нас в стране коммунистов вообще нет. – Давясь то ли кашлем, то ли яростью, отец с ненавистью раздавил окурок в пепельнице, Карлитос.
– Нет, дон Фермин, они есть, они немногочисленны, но очень упорны. – Он говорил, Карлитос, так, словно я уже ушел или вообще никогда не приходил туда. – Они печатают на гектографе свою газетенку «Кауйде», где последними словами поносят Соединенные Штаты, президента и вашего покорного слугу. У меня полный комплект этого издания, если угодно, я вам покажу.
– Не знаю, – сказал Сантьяго. – Ни одного коммуниста я в Сан-Маркосе не знаю.
– Мы им дали поиграть в революцию, пусть забавляются, только не переходя известных границ. – Он говорил, Карлитос, так, словно собственные слова его раздражали и уже надоели до смерти. – Но политическая забастовка, но поддержка трамвайщиков – сами посудите, дон Фермин, ну какое отношение имеет Сан-Маркос к профсоюзу вагоновожатых? Это уже слишком.
– Забастовка не носит политического характера, – сказал Сантьяго, – ее объявила Федерация. Все студенты…
– Этот молодой человек – делегат от своего курса и от Федерации в забастовочном комитете. – Он, Карлитос, как будто не слышал меня и не смотрел в мою сторону, он улыбался отцу, словно рассказывал ему пикантную светскую сплетню. – Он член «Кауйде», так уже давно называется коммунистическая организация. Двое из задержанных вместе с ним – известные террористы. У нас не было другого выхода, дон Фермин.
– Мой сын – не преступник, не уголовник, он не может здесь оставаться. – Тут он, Карлитос, перестал сдерживаться, гаркнул, стукнул кулаком по столу. – Я поддерживаю режим, и не со вчерашнего дня, а с первого часа, я оказал ему важные услуги. Я сейчас же отправлюсь к президенту.
– Дон Фермин, побойтесь Бога. – Он говорил, Карлитос, как будто был прострелен навылет, из-за угла зарезан, предан лучшим другом. – Я вас и вызвал для того, чтобы уладить это дело, замять его, ибо никто лучше меня не знает, чем обязано вам наше государство. Я хотел всего лишь сообщить вам о похождениях вашего сына, не более. Разумеется, никто не собирается держать его за решеткой. Можете забрать его немедленно.
– Я вам очень благодарен, дон Кайо. – Теперь он опять смешался, попытался выдавить из себя улыбку, провел платком по губам. – Не беспокойтесь, я сам наставлю Сантьяго на путь истинный. Теперь, с вашего разрешения, позвольте откланяться, вы сами представляете, что пришлось пережить его бедной матери.
– Конечно, конечно, успокойте сеньору Соилу. – Он был полон сочувствия, Карлитос, он сострадал всей душой, но и рассчитывал на ответное сострадание.
– Ну и, разумеется, имя нашего юноши нигде не будет упомянуто. Дела на него не заводили. Обещаю вам, что следов этого инцидента не отыщет никто.
– Да уж, это могло бы сильно напортить ему в будущем. – Отец улыбался, Карлитос, отец поддакивал и всячески пытался показать, что сожалеет о своей недавней вспышке. – Спасибо, дон Кайо.
Они вышли. Перед собой он видел спину отца и рядом – семенящую щуплую фигурку в сером костюме в полоску. Полицейские вытягивались и козыряли, агенты говорили «добрый вечер, дон Кайо», а он проходил, не отвечая. Патио, фасад префектуры, решетчатая ограда, свежий воздух, проспект. У входа стоял автомобиль. Амбросио, сняв фуражку, открыл дверцу, улыбнулся Сантьяго, добрый вечер, ниньо. Бермудес поклонился и исчез в главном подъезде. Дон Фермин сел в машину: домой, Амбросио, и побыстрей. По проспекту Кильсона, поворот на Арекипу, и на каждом перекрестке Амбросио прибавлял и прибавлял газу, в опущенное окно врывался ветер, Савалита, можно было дышать, можно было не думать.
– Этот сукин сын дорого мне заплатит. – На лице отца, думает он, была тоска, а в глазах, бездумно устремленных вперед, – такая усталость. – Этот дерьмовый полукровка вздумал меня унизить, я его поставлю на место.
– В первый раз, Карлитос, я слышал из его уст такие слова, – сказал Сантьяго. – Он никогда никого не оскорблял.
– Он мне за это заплатит. – Лоб отца, думает он, взбугрили морщины, он был в ледяной ярости. – Я научу его почтительному обхождению с хозяевами.
– Мне очень жаль, папа, что тебе пришлось из-за меня… и клянусь… – и тут твоя голова, Савалита, думает он, мотнулась назад, и оплеуха заткнула тебе рот.
– Впервые в жизни он меня ударил. В первый и единственный раз, – говорил Савалита. – Помнишь, Амбросио?!
– С тобой, щенок, я тоже еще разделаюсь. – Отец не говорил, думает он, а почти рычал. – Чтобы заговоры устраивать, надо хоть немножко шевелить мозгами! Ты этого не знал? Не знал, что по телефону тайны не сообщают? Что он может прослушиваться? Что полиция следила за каждым твоим шагом, идиот?!
– Оказывается, они записали добрый десяток моих разговоров с людьми из «Кауйде», Карлитос, – сказал Сантьяго. – Бермудес был в полном курсе дела. Это унижение мучило отца сильней, чем все остальное.
Возле коллежа Раймонди Амбросио свернул на Ареналес, и до самого Хавьер Прадо не было произнесено ни слова.
– Ведь в конечном итоге не о тебе речь, – хрипловато, думает он, слабо, печально говорил отец. – Ведь они за мной следят. Он получил прекрасную возможность сообщить мне об этом, только не в лоб, а окольным путем.
– Никогда еще мне не было так погано на душе, – сказал Сантьяго. – Из-за того, что всех арестовали по моей вине, из-за этой истории с Хакобо и Аидой, из-за того, что меня выпустили, а их нет, из-за того, что я никогда не видел отца в таком состоянии.
Снова полетел за окнами почти пустой проспект Арекипы, замелькали фары встречных, проворно побежали назад пальмы, и сады, и темные громады домов.
– Итак, ты стал коммунистом, итак, ты поступил в Сан-Маркос не учиться, а политиканствовать. – Жесткая, горькая насмешка, думает он, слышалась в голосе отца. – Ты дал бездельникам и смутьянам заморочить себе голову.
– Я ведь выдержал экзамены, папа. Я всегда хорошо учился, папа.
– Мне глубоко наплевать, черт тебя возьми, кем ты будешь, – коммунистом, апристом, анархистом, экзистенциалистом. – Он снова разгорячился, думает он, бил себя по колену, не глядя на меня. – Бросай бомбы, воруй, убивай. Но после совершеннолетия. А до тех пор изволь учиться и только учиться. И слушаться меня, слушаться беспрекословно.
Вот оно, думает он. Неужели тебе никогда не приходило в голову, чего все это стоит твоей маме? Нет, думает он. Что по твоей милости я, твой отец, попал в очень некрасивую историю? Нет, Савалита, не думал. Проспект Ангамос, улица Диагональ, Кебрада, склоненная к рулю спина Амбросио. Нет, ты об этом не думал. Зачем? И так все очень удобно и мило. Папочка тебя кормит, папочка тебя одевает, платит за твое обучение и выдает денежки на карманные расходы, а ты играешь в революцию, устраиваешь заговоры против тех, на кого папочка ухлопал немало денег, времени и сил. Нет, об этом ты не думаешь. Нет, папа, думает он, это было больней оплеухи. Проспект 28 Июля, обсаженный деревьями, проспект Ларко, червячок, змея, жало-клинок.
– Когда будешь сам себя содержать, когда слезешь с папочкиной шеи, тогда пожалуйста, – мягко, думает он, непреклонно сказал отец, – становись кем угодно: коммунистом, анархистом, бросай бомбы. А до тех пор учись и слушайся.
Вот чего я тебе не простил, папа, думает он. Гараж, освещенные окна дома, и в одном из них – силуэт Тете: вернулся наш академик, мамочка!
– И тогда ты порвал с «Кауйде» и со своими друзьями-товарищами? – сказал Карлитос.
– Так. Я должен довести это дело до конца, а ты иди пока к себе. – Отец уже раскаивался, думает он, уже пытался найти прежний, дружеский тон. – И вымойся, не занеси нам из префектуры вшей.
– И с адвокатской карьерой, и с семьей, и со всем кварталом Мирафлорес, – сказал Сантьяго.
В саду – мама, поцелуи, ее заплаканное лицо – ты с ума сошел! ты совсем с ума сошел! – даже кухарка и горничная были там, и восторженно попискивала Тете – блудный сын вернулся! – думаю, Карлитос, если б я просидел в префектуре не несколько часов, а целый день, меня встречали бы с оркестром. Чиспас скатился по лестнице: ну, бродяга, нагнал же ты на нас страху! Его усадили в гостиной, его окружили со всех сторон, сеньора Соила то и дело ерошила ему волосы и целовала в лоб. Чиспас и Тете умирали от любопытства: где ты сидел? В префектуре или в тюрьме? А видел настоящих воров и убийц? Папа пытался дозвониться во дворец, но президент уже спал, и тогда папа позвонил префекту и такого ему наговорил, ты, академик, и представить себе не можешь. Глазунью, говорила сеньора Соила кухарке, молоко с кокосом и, если от обеда осталось, лимонное пирожное. Да ничего они со мной не делали, мама, да просто вышло недоразумение, мама.
– Да он счастлив, что его сцапали, скажите, какой герой, – сказала Тете. – Еще бы: кто теперь с тобой потягается?
– В «Комерсио» напечатают твой портрет анфас и в профиль и с номером внизу, – сказал Чиспас.
– Ну, расскажи, что делают, когда человека арестовывают, – сказала Тете. – Как там? Что там?
– Одежду отбирают, а взамен дают полосатую робу, заковывают в цепи, – сказал Сантьяго. – В камерах темно и шныряют крысы.
– Да прекрати болтать, – сказала Тете. – Рассказывай толком.
– Вот он, твой Сан-Маркос, добился чего хотел, – сказала сеньора Соила. – Обещай мне, что в будущем году переведешься в Католический. Обещай, что больше не будешь лезть в политику. Обещаешь?
Обещаю, мамочка, никогда больше не буду, мамочка. Спать легли в два. Сантьяго надел пижаму, погасил свет. Было жарко, тело ломило.
– А тех ты никогда больше не встречал? – сказал Карлитос.
Он натянул простыню до подбородка, а сон не шел, хотя усталость чуть не переламывала ему хребет. Окно было открыто, в прямоугольнике рамы мерцало несколько звезд.
– Льяке продержали в тюрьме два года, Вашингтона выслали в Боливию, – сказал Сантьяго. – Остальных выпустили через две недели.
Как вор, кружило по темной комнате мерзкое чувство – ревность, думает он, угрызения совести, стыд. Ненавижу тебя, папа, и тебя, Хакобо, и тебя, Аида. Нестерпимо хотелось курить, а сигарет не было.
– Они, наверно, думали, что ты испугался, – сказал Карлитос. – Что ты предал их.
Мелькнуло лицо Аиды, потом Хакобо, и Вашингтона, и Солорсано, и Эктора. И опять – Аида. Как хочется опять стать маленьким, как хочется заново родиться, думает он, как хочется курить. Но если попросить у Чиспаса сигарету, придется разговоры разговаривать.
– В некотором смысле я испугался, Карлитос, – сказал Сантьяго. – В некотором смысле я их предал.
Он сел на кровати, обшарил карманы пиджака, потом поднялся и обследовал все костюмы, висевшие в шкафу. Как был, в пижаме и босиком, спустился на первый этаж, вошел в комнату брата. Пачка сигарет и спички лежали на ночном столике, а Чиспас спал ничком, подмяв под себя простыни. Вернулся к себе. Сел у окна. Жадно закурил, с наслаждением затягиваясь и стряхивая пепел вниз, в сад. Вскоре он услышал, как затормозила у ворот машина, увидел дона Фермина, увидел Амбросио, идущего в свой флигелек. Сейчас он отпирает свой кабинет, зажигает свет. Сантьяго нашарил шлепанцы и халат, вышел из спальни. С лестницы было видно, что в кабинете отца горит свет. Сошел вниз и остановился перед застекленной дверью: увидел отца в зеленом кресле, стакан с виски в его руке, бессонные глаза, седину на висках. Горел только торшер, как всегда, когда по вечерам оставался дома и читал, думает он, газеты. Он постучался, и дон Фермин отпер дверь.
– Я хотел поговорить с тобой, папа.
– Ну, заходи, заходи, ты простынешь. – Он уже не сердился на тебя, Савалита, он был рад тебе. – Сегодня очень сыро.
Он взял его за руку, ввел в кабинет и снова сел в кресло. Сантьяго расположился напротив.
– До сих пор не спите? – Он как будто простил тебя, Савалита, или вовсе никогда не сердился. – У Чиспаса будет прекрасный повод не ходить завтра на службу.
– Нет, мы давно легли. Мне что-то не спится.
– Еще бы: ты переволновался. – Он ласково глядел на тебя, Савалита. – Дело нешуточное. Теперь расскажи мне все подробно. Тебя правда не били?
– Да нет, меня даже не успели допросить.
– Но испугаться-то все-таки успел, – с оттенком гордости, Савалита, произнес он эти слова. – Ну, так о чем же ты хотел со мной поговорить?
– Я долго думал над твоими словами, ты прав, папа. – Горло у тебя перехватило, Савалита. – Я хочу уйти отсюда, устроюсь на службу. Такую, чтоб можно было не бросать университет.
Дон Фермин не рассмеялся, не стал шутить. Он поднял стакан, сделал глоток и вытер губы.
– Ты обиделся на мою затрещину. – Он протянул руку, положил ее тебе на колено, Савалита, и глядел так, словно говорил: хватит, забудем это, кто старое помянет… – Ты ведь уже совсем взрослый, ты – революционер, тебя преследуют власти.
Он откинулся, взял свой «Честерфильд» и зажигалку.
– Вовсе я не обиделся, папа. Просто не могу больше жить так, а думать по-другому. Пожалуйста, постарайся меня понять.
– Как жить? – Он, Савалита, был слегка уязвлен, говорил печально и устало. – Кто и что в нашем доме идет вразрез с твоим образом мыслей?
– Я не хочу зависеть от твоих денег, папа. – Ты чувствовал, Савалита, что и руки, и голос у тебя дрожали. – Не хочу, чтобы то, что я делаю, отзывалось на тебе. Я хочу зависеть только от себя самого.
– Ты не хочешь зависеть от капиталиста. – Он улыбался, Савалита, улыбался горестно, но не зло. – Ты не хочешь жить с отцом, который получает правительственные заказы. Так?
– Не сердись, папа. Не думай, что я стараюсь…
– Ты уже совсем взрослый, я могу довериться тебе, правда? – Он протянул руку к твоему лицу, Савалита, потрепал тебя по щеке. – Я объясню тебе, почему я так рассвирепел. В эти дни кое-что стало выплывать наружу, началась какая-то суета. Военные, сенаторы, множество влиятельных лиц. Телефон-то прослушивали мой, а не твой. Что-то выяснилось, и эта сволочь Бермудес воспользовался твоим арестом, чтобы намекнуть мне: он кое-что подозревает, он кое-что знает. Сейчас надо остановиться и все начать заново. Поверь, твой отец – не лакей Одрии, далеко нет. Скоро мы его свалим, скоро мы проведем выборы. Ты умеешь хранить тайну? Чиспасу я бы никогда не решился открыться, но ты – совсем другое дело, я говорю с тобой как с настоящим мужчиной.
– Заговор генерала Эспины? – сказал Карлитос. – И дон Фермин тоже был в нем замешан? Не знал.
– Ты задумал уйти от нас, послать отца к черту, – а глаза его говорили тебе: «ну хватит, хватит, все прошло, забудем, я же люблю тебя», – а теперь ты знаешь, что мои отношения с Одрией очень непрочны и тебе решительно не из-за чего угрызаться.
– Да не в этом дело, папа. Я и сам ведь не знаю, занимает ли меня политика, коммунист ли я. Я и хочу понять, что мне делать дальше, кем я хочу быть.
– Я вот сейчас ехал домой и как раз думал, – он по-прежнему улыбался тебе, давал тебе время оправиться, – не послать ли мне тебя за границу? В Мексику, скажем. Сдашь экзамены и в январе поедешь учиться в Мексику, на год, на два. А? Маму мы как-нибудь уговорим. Как ты на это смотришь?
– Не знаю, папа, мне никогда это не приходило в голову. – Ты подумал, Савалита, что он покупает тебя, что он сию минуту придумал эту Мексику, чтобы выиграть время. – Мне надо подумать.
– Январь еще не скоро. – Он встал и снова потрепал тебя по щеке, Савалита. – Тебе многое откроется, ты увидишь, что на Сан-Маркосе свет клином не сошелся. Согласен? Ну, а теперь пойдем спать, уже четыре.
Он допил виски, погасил свет, и они вместе стали подниматься по лестнице. У дверей спальни дон Фермин наклонился, поцеловал его: ты должен верить и доверять отцу, что бы там ни было, как бы все ни обернулось, он любит тебя больше всех. Сантьяго вошел к себе, повалился на кровать. Он долго глядел на прямоугольник светлеющего неба, а потом встал и подошел к шкафу. Копилка стояла там, где он спрятал ее в последний раз.
– Я, Карлитос, давно уже крал у самого себя, – сказал Сантьяго. Толстенький поросеночек, ушастая свинка стояла между фотографиями Чиспаса и Тете, под флажком гимназии. Когда он собрал все кредитки, уже пришли молочник и булочник, и Амбросио уже вывел машину из гаража и мыл ее.
– А когда ты стал работать в «Кронике»? – сказал Карлитос.
– Через две недели, Амбросио, – говорит Сантьяго.
Часть вторая
I
Здесь куда лучше, чем у сеньоры Соилы, думала Амалия, и чем в лаборатории, вот уж неделя, как Тринидад мне не снится. Чем ей так нравился этот особнячок в квартале Сан-Мигель? Он был поменьше, чем у сеньоры Соилы, тоже двухэтажный, красивый такой, и сад такой ухоженный, просто прелесть. Садовник приходил раз в неделю, поливал газоны, подрезал герани, лавры, подстригал вьюнок, опутывавший фасад кудрявой паутиной. В холле было вделанное в стену зеркало, столик на длинных ножках, а на столике – китайская ваза, ковер в комнате изумрудный, а кресла – цвета янтаря, и стояли низенькие пуфики. И бар ей тоже очень нравился: бутылки с разноцветными этикетками, фарфоровые зверюшки, обернутые в целлофан коробки сигар. И картины на стенах: вид Пласы-да-Ачо, петушиный бой в Колисео. А в столовой стол был совсем диковинный – не то круглый, не то квадратный, и стулья с высокими спинками, как исповедальня. А в буфете чего-чего только не было: и посуда, и столовое серебро, и стопки салфеток, и чайные сервизы, и стаканы, и бокалы, и фужеры – высокие, низкие, широкие, узкие, и рюмки всех видов. В вазах всегда свежие цветы – Амалия по очереди с Карлотой меняли их ежедневно: то розы, то гладиолусы – и пахли так сладко, а буфетную как будто только вчера выкрасили в белый цвет. Сколько там было всяких жестянок – тысячи, не меньше – с яркими наклейками, а на наклейках – Микки-Маус, Утенок Дональд, Супермен, – коробок с печеньем, пачек галет, пакетиков хрустящего картофеля, и ящики с пивом, с виски, с минеральной водой. В исполинском холодильнике хранились овощи, зелень, нарядные бутылочки молока. Кухня выложена черно-белой плиткой, и был из нее ход прямо в патио, где помещались комнатки Амалии, Карлоты и Симулы, и их ванная – там тебе и унитаз, и душ, и умывальник.
Тупая игла ввинчивалась в мозг, молоток стучал в висках. Он открыл глаза, надавил на шпенек будильника, пытка кончилась. Еще полежал неподвижно, глядя в фосфоресцирующий свод над головой. Уже четверть восьмого. Снял трубку внутреннего телефона, приказал подать машину к восьми. Пошел в ванную комнату, двадцать минут мылся, брился, одевался. От холодной воды в висках заломило еще сильней, сладковатый вкус зубной пасты не избавил от горечи во рту – мутит, что ли? Он прикрыл глаза и увидел, как синеватые язычки пламени лижут его внутренности, как медленно струится под кожей вязкая густая кровь. Все мышцы одеревенели, в ушах стоял звон. Поднял веки: надо было поспать подольше. Спустился в столовую, отодвинул рюмочку со сваренным всмятку яйцом, ломтики поджаренного хлеба, с омерзением выпил залпом чашку черного кофе. Две облатки «алька-зельтцер» на полстакана воды. Отхлебнул мгновенно забурлившую жидкость и отрыгнул. В кабинете, укладывая в портфель бумаги, выкурил подряд две сигареты. Вышел, и в дверях дежурные охранники отдали ему честь. Утро было погожее, ясное, солнце играло на крышах Чаклакайо, зелень садов и кусты вдоль берега реки казались особенно свежими. Ожидая, когда Амбросио выведет из гаража машину, он опять закурил.
Сантьяго заплатил за два горячих пирожка с мясом и кока-колу, вышел – проспект Карабайа горел, пылал, жег огнем. Стекла трамвая повторяли неоновые буквы реклам, и небо отливало красным, словно Лима и вправду превратилась в преисподнюю. Вереницы поблескивающих муравьев тянулись по всем тропинкам, прохожие сновали между машинами, хуже нет попасть в час пик, когда все конторы закрываются, говорила обычно сеньора Соила, переводя дух и жалобно постанывая, и Сантьяго ощутил щекочущую пустоту где-то под ребрами: сегодня уже восьмой день. Он вошел в подъезд: толстые рулоны бумаги у закопченых стен, пахнет краской, ветхостью, больницей. Он подошел к вахтеру в синем форменном костюме: где я могу видеть сеньора Вальехо? Второй этаж, до конца коридора, там увидите табличку. Одолевая тревогу, он зашагал по широченным ступеням – они скрипели, словно их еще в незапамятные времена изъели крысы, источил жучок. Похоже, лестницу не подметали никогда. Зачем было просить сеньору Лусию, чтобы отгладила ему костюм, зачем целый соль отдал чистильщику ботинок? Вот, наверно, редакция: дверь настежь, и никого нет. Он остановился, жадным взором девственника окинул пустые столы, пишущие машинки, плетеные корзины для мусора, прикнопленные к стенам фотографии. Они работают по ночам, а днем отсыпаются, подумал он, это богемная профессия, даже немного романтическая. Он вытянул руку и негромко, скромно постучался.
На лестнице лежала красная ковровая дорожка, придавленная позолоченными прутьями, а по стенам висели маленькие такие индейцы, играющие на флейтах, пасущие стада лам. Ванная комната была вся выложена сверкающей плиткой, умывальник и ванна – розовые, а в зеркале Амалия отражалась во весь рост. Но самое, конечно, замечательное – это хозяйкина спальня, в первые дни Амалия под любым предлогом старалась заскочить туда: все никак налюбоваться не могла. Ковер там лежал темно-синий, и занавески в тон, а уж кроватей таких дивных она сроду не видала: низкая, широченная, ножки в виде крокодильих лап, покрывало черное, а на нем вышито желтое чудище, которое изрыгает пламя. А зачем же столько зеркал? Ей никак было не привыкнуть, что она, Амалия, все время двоилась и троилась, появлялась то здесь, то там, отражалась в зеркале на ширмах и одновременно – в зеркальном шкафу (а уж сколько было в том шкафу платьев, блузок, брюк, тюрбанов, туфель), а потом вдруг – в этом никчемном, невесть зачем нужном зеркале на потолке. Картина здесь висела только одна, но зато такая, что, увидев ее в первый раз, Амалия вся зарделась. Сеньора Соила ни за что не стала бы держать у себя в спальне такую женщину, бесстыдно и нахально выставившую на обозрение самую срамоту, да еще и подпершую ладонями груди – любуйтесь, мол. Однако в этом доме все было совершенно безумное, начиная с трат и расходов. Зачем столько приносят всякой всячины с винного склада? Куда им столько? У хозяйки нашей – часто вечера, объясняла ей Карлота, а у хозяина друзья – люди важные, их надо принимать по первому разряду. Хозяйка просто сорила деньгами. Амалия не знала, куда глаза девать со стыда, видя, как Симула подсовывает ей счета, одному богу известно, сколько она в день наворовывала, а хозяйка и глазом не моргнет: все потратила? ну и ладно, а сдачу никогда не пересчитывала.
Пока машина катила по шоссе, он просматривал бумаги, кое-какие фразы подчеркивал, кое-где на полях ставил ему одному понятные значки. Когда миновали Витарте, солнце зашло за тучу, и чем ближе становилась Лима, тем серее и холоднее делался день. В тридцать пять минут девятого Амбросио подрулил к площади Италии, затормозил, выскочил, распахнул заднюю дверцу: передай Лудовико, чтоб в половине пятого был в Клубе Кахамарка. Он вошел в министерство, где никого еще не было, кроме доктора Альсибиадеса, который сидел за своим столом и с красным карандашом в руке изучал прессу, а увидев его, поднялся, поклонился: доброе утро, дон Кайо, а он швырнул ему целую стопку бумаг: это срочные телеграммы, милый доктор. Кивнул в сторону секретариата: этим дамам что, неизвестно, что они должны являться на службу в восемь тридцать? А доктор Альсибиадес, взглянув на стенные часы, ответил: сейчас ровно восемь тридцать. Но он уже удалялся по коридору. Вошел в свой кабинет, снял пиджак, ослабил узел галстука. Корреспонденция была разобрана и разложена, полицейские рапорта – слева, телеграммы и докладные – посередине, письма и отношения – справа. Он разворошил эту бумажную груду и начал с рапортов. Читал, помечал, откладывал в сторону, иные листки разрывал в клочья. Он уже заканчивал эту обычную процедуру, когда зазвонил телефон: «Дон Кайо, это генерал Эспина, вы будете говорить?» Будет, соедините.
Седовласый господин дружелюбно улыбнулся ему, предложил стул: вот, значит, какой он, Савала-младший, разумеется, Клодомиро успел переговорить с ним. Заговорщицкий огонек посверкивал в его глазах, рукопожатие источало клейкую благожелательность, а письменный стол был девственно чист. Да, они с Клодомиро – еще гимназические приятели, но вот его папу – да-да, Фермин! – он не имел удовольствия знать, он был намного моложе нас, и снова улыбнулся: ну-с, вы поссорились с домашними? Клодомиро мне рассказывал. Что делать, это в духе времени, молодежь рвется к независимости.
– Поэтому мне и нужна работа, – сказал Сантьяго. – Дядя Клодомиро полагал, что, быть может, вы…
– Вам повезло, – кивнул сеньор Вальехо. – Нам как раз нужны люди в отдел местной хроники.
– Опыта у меня нет, но я сделаю все, что в моих силах, постараюсь освоиться поскорее, – сказал Сантьяго. – А еще полагал, что смогу не бросить университет – я учусь на юридическом.
– С тех пор, как сижу здесь, я не видел, чтобы кто-нибудь совмещал ученье и работу, – сказал сеньор Вальехо. – Хочу вас предупредить вот еще о чем: профессия журналиста денег приносит мало, неприятностей – много.
– Мне всегда нравилась журналистика, – сказал Сантьяго. – Я всегда думал: это как раз то, что находится в постоянном контакте с жизнью.
– Славно, славно. – Сеньор Вальехо провел ладонью по своей снежной седине и подтвердил свое «славно» благосклонным взглядом. – Мне известно, что вы еще не работали в газете, посмотрим, выйдет ли из вас толк. Мне надо уяснить себе ваши дарования. – Он вдруг посерьезнел, и голос стал горловым. – Ну-ка, попробуем. Пожар в универмаге Визе. Двое погибших, убытку на пять миллионов, пожарные боролись с огнем всю ночь. Ведется дознание: выясняется, не поджог ли это. Не больше двух страниц. Машинок в редакции много, выбирайте любую.
Сантьяго кивнул. Поднялся, прошел в комнату рядом и, присев за первый же стол, почувствовал, что ладони стали влажными. Хорошо хоть никого нет. «Ремингтон», стоявший перед ним, показался мне, Карлитос, гробиком. Именно так, Савалита.
Рядом с хозяйкиной комнатой был кабинет: три небольших кресла, лампа, книжная полка. Там запирался хозяин, когда наезжал в Сан-Мигель, а если у него был кто-нибудь, все в доме ходили на цыпочках, и даже сеньора Ортенсия сама спускалась в гостиную, выключала радио и к телефону, кто бы ни звонил, не подходила, велела отвечать «дома нет». Тяжелый, наверно, был у хозяина характер, раз заставляет такой цирк устраивать, думала поначалу Амалия. И зачем в доме целых три прислуги, если хозяин бывает здесь только время от времени? Негритянка Симула была толстая, седая, молчаливая, к Амалии относилась неприязненно. Зато с ее дочкой Карлотой, долговязой, безгрудой, курчавой, они сразу же подружились, пришлись по душе друг другу. Нас три, объясняла ей Карлота, не потому, что работы много по дому, а чтоб было на что деньги тратить. Надо ж куда-то девать то, что хозяин дает. А он очень богатый? Очень, выпучивала глаза Карлота, очень богатый, он в правительстве, вроде министр. И когда дон Кайо оставался ночевать, на углу всегда торчали двое полицейских, а шофер и еще один охранник всю ночь стояли у дверей. А почему такая женщина, молодая, красивая, сошлась с ним, ведь когда она на каблуках, он ей до уха не достает? Он же ей в отцы годится, и собой очень нехорош, и одет-то плохо. Ты думаешь, Карлота, она его любит? Не его она любит, а его денежки, а их у него, должно быть, немало: посчитай-ка, во что обойдется снять и обставить такой домик, да накупить всю эту гору платьев и туфель и всяких колечек-сережек? А как же такая красавица не нашла себе человека, чтоб замуж взял? Но сеньора Ортенсия вроде бы нисколько не печалилась, что ее замуж не брали, ей и так было хорошо, и хозяину совершенно угодить не старалась. Конечно, когда он приезжал, она его встречала-принимала как полагается, а когда он говорил: «Завтра у нас к обеду будет столько-то человек», заказывала Симуле, что сготовить, и следила, чтоб Амалия с Карлотой вылизали весь дом, чтоб нигде ни пылинки. Но когда он уезжал, никогда его не вспоминала, и по телефону ему не звонила, и была такая веселая, беззаботная, так хохотала со своими подругами, что, по мнению Амалии, тут же его забывала. Хозяин ничем не напоминал дона Фермина: на того только взглянешь – сразу поймешь, что человек высшего разбора и с большими деньгами. Дон Кайо был малорослый, лицо мятое морщинистое, глаза глубоко посажены и глядят холодно и словно бы издалека, шея вся в складках, губы тонкие-тонкие, а зубы желтые от табака, потому что курил он одну за другой, одну за другой. Был он такой щуплый, что костюм на нем болтался как на вешалке, казалось, между лацканами и спиной пиджака ничего и нет. Амалия с Карлотой потихоньку от Симулы перешептывались, бывало, помирали со смеху: ты представь себе, на что он похож, когда голый, настоящий скелетик, ручки – прутики, ножки – палочки. Вечно он таскал один и тот же костюм, галстук повязывал криво, и ногти у него были черные. Никогда не говорил ни «здрасьте», ни «до свиданья», а когда они с ним здоровались, бурчал, не глядя, в ответ что-то невнятное. Всегда он был занят, всегда озабочен, всегда спешил, сигарету прикуривал от сигареты, а окурок ронял на пол, по телефону говорил только: да, нет, завтра, хорошо, а когда хозяйка шутила, чуть раздвигал щеки, это он так смеялся. Был ли он женат, что за жизнь он вел за стенами особнячка в Сан-Мигеле? Амалия представляла себе его жену так: старая грымза, целый день молится и ходит всегда в трауре.








