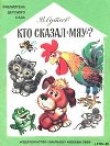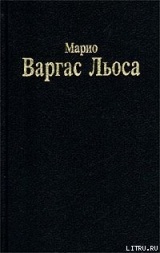
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)
VII
– Как же это случилось? – говорит Амбросио. – Он сильно мучился?
Случилось это вскоре после того, как Карлитос в первый раз допился до белой горячки. Однажды вечером он с решительным видом объявил на всю редакцию: месяц в рот не возьму. Никто ему не поверил, но Карлитос добросовестно проходил добровольный курс выветривания спиртного из организма и четыре недели воздерживался. Ежедневно он зачеркивал число на своем перекидном календаре и с гордостью размахивал им: десять дней – а я ни капли… шестнадцать дней… По прошествии месяца он объявил: теперь зигзаг. Пить он начал в тот же вечер после работы: сперва с Норвином и Солорсано, потом с какими-то спортивными журналистами, праздновавшими в ресторанчике чей-то день рождения, а потом, уже глубокой ночью, как он сам рассказывал, – с неизвестными личностями, которые отобрали у него бумажник и часы. Утром его видели в редакциях «Ультима Ора» и «Пренса», где он пытался одолжить денег, а днем Ариспе обнаружил его за столиком в баре уже в одиночестве – глаза смотрят в разные стороны, нос – как помидор. Ариспе подсел к нему, но разговора у них никакого не получилось. Он был уже не то что пьян, рассказывал Ариспе, а просто вымочен в спирту. Вечером он, шагая с преувеличенной осторожностью и глядя сквозь людей, появился в редакции. От него веяло бессонной пьяной ночью и невообразимой алкогольной смесью, а лицо с горящими на лбу, на висках, на скулах, на подбородке пятнами беспрестанно подергивалось. Не отвечая на шуточки, которыми его встретили, Карлитос подплыл к своему столу и остановился, с тоской уставившись на пишущую машинку. Потом с заметным усилием схватил ее, поднял над головой и шваркнул об пол. Помнишь, Савалита, какой был грохот, как разлетелись клавиши и какие-то гайки. Все кинулись к нему, а он с хриплым криком бросился бежать, пинками отшвыривая корзины для бумаг, натыкаясь на стулья, разбрасывая гранки. На следующий день его поместили в лечебницу. В первый раз. А теперь, Савалита? В третий.
– Кажется, нет, – говорит Сантьяго. – Кажется, он умер во сне.
Это случилось через месяц после свадьбы Чиспаса и Керн. Сантьяго с Аной получили приглашение, но на бракосочетание не пошли, не позвонили и цветов не прислали. Попейе и Тете уже и не пытались их уговаривать. По возвращении из свадебного путешествия они побывали у них, с неимоверными подробностями рассказали о Мексике и США, а потом Попейе повез их в «Подкову» выпить молочных коктейлей. С тех пор они время от времени виделись – то у Сантьяго, то в Сан-Исидро, когда Попейе и Тете отпраздновали там свое новоселье. От них, Савалита, ты узнавал новости: о помолвке Чиспаса, о приготовлениях к свадьбе, о том, что родители собираются в Европу. Попейе с головой ушел в политику, сопровождал Белаунде в предвыборной поездке по стране, а Тете ждала ребенка.
– Чиспас женился в феврале, папа умер в марте, – говорит Сантьяго. – Они как раз собирались в Европу.
– Он в Анконе умер? – говорит Амбросио.
– В Мирафлоресе, – говорит Сантьяго. – В то лето из-за свадьбы Чиспаса они не жили в Анконе. Кажется, только на уик-энды ездили.
Это случилось вскоре после того, как у них появился Батуке. Однажды вечером Ана пришла из клиники Дельгадо с обувной коробкой, в которой что-то шевелилось: она открыла ее, и оттуда вывалился белый комок. Это садовник подарил мне, милый, и от всего сердца, так что у нее не хватило духу отказаться. Сначала собачка доставляла одни неприятности, пачкала в комнатах, в кровати, в ванной. Происходили ссоры: когда Ана, чтобы научить проситься, брала щенка за шкирку и тыкала носом в кучку или в лужицу, на его защиту выступал Сантьяго. Если же песик раздирал какую-нибудь книгу и наказывал его Сантьяго, заступалась за Батуке Ана. Но вскоре щенок уже скребся в дверь, просясь погулять. Спал он сначала в кухне, но по ночам так выл и скулил у двери в спальню, что пришлось перенести его подстилку туда, в угол, где стояли туфли Аны и башмаки Сантьяго. Постепенно он отвоевал себе право забираться на кровать. В то утро, Савалита, он залез в корзину с грязным бельем и не мог выбраться, а ты наблюдал за тем, как он уцепился лапами за край корзины, навалился, как корзина накренилась и наконец упала. Батуке замер, потом завилял хвостом, ринулся на волю – в эту минуту ты услышал стук в окно и увидел лицо Попейе.
– Твой папа, дон Фермин… – Он раскраснелся, Савалита, он запыхался – видно, бегом бежал от машины к дому. – Только что позвонил Чиспас.
Ты был в пижаме, Савалита, ты путался в брючинах, а когда писал записку Ане, рука у тебя тряслась.
– Скорей, – повторял, стоя на пороге, Попейе. – Скорей.
В клинику они приехали одновременно с Тете. Когда позвонил Чиспас, она была в церкви и сейчас держала в одной руке записку Попейе, а в другой – требник. Несколько минут они потеряли, бродя без толку по больничным переходам, пока не свернули наконец в нужный коридор и не увидели Чиспаса. Вид у того был как у ряженого, думает он, красно-белая пижамная куртка, брюки не застегнуты, пиджак от другого костюма, башмаки на босу ногу. Он держал за плечи Керн, та плакала, рядом стоял мрачный врач и что-то говорил им. Чиспас протянул тебе руку, и тут Тете заплакала навзрыд. Он скончался по дороге, говорили врачи, а может быть, еще раньше, дома, когда мама, проснувшись, увидела, что он лежит неподвижный и окостенелый, с открытым ртом. Во сне, говорили они, в одночасье, не мучился. Но Чиспас уверял, что, когда он с помощью Керн и дворецкого укладывал его в машину, отец еще жил, и сердце у него еще билось. Мама была в приемном покое, когда ты вошел, ей делали укол, она совсем потеряла голову и, когда ты обнял ее, заголосила. Вскоре укол подействовал, она уснула, а кричала теперь Тете. Стали появляться родственники, пришла Ана, а ты с Попейе и Чиспасом весь день занимались похоронами. Катафалк, думает он, хлопоты на кладбище, извещение в газету. Тогда ты и вернулся, Савалита, в лоно семьи и больше уже с нею не порывал. Чиспас время от времени вдруг издавал короткое рыдание, думает он, карманы у него были набиты успокаивающими таблетками, и он сосал их как леденцы. Домой они приехали к вечеру: сад, комнаты, кабинет были уже заполнены людьми. Мама уже поднялась и надзирала за тем, как готовятся к панихиде. Она не плакала, была не накрашена и показалась тебе вдруг очень старой: ее окружали Тете, Керн, тетя Элиана, тетя Роса и Ана. И Ана тоже, думает он. Народу все прибывало, весь вечер приходили и уходили люди, стоял тихий говор, стлался табачный дым, принесли первые венки. Дядюшка Клодомиро просидел всю ночь у гроба, молчаливый, напряженный, с восковым лицом, а когда ты подошел к изголовью, уже начинало светать. Сквозь тусклое стекло ты не видел его лица, думает он: только сложенные на груди руки, его самый парадный костюм и тщательно причесанные волосы.
– До этого я его года два не видел, – говорит Сантьяго. – С самой моей женитьбы. И горевал я больше всего не потому, что он умер. Все там будем, верно, Амбросио? Я горевал оттого, что не успел с ним помириться.
Похороны были на следующий день, в три часа. Все утро приносили телеграммы, визитные карточки, квитанции об уплате за мессу, венки, а в газетах появилось объявление в черной рамке. Да, Амбросио, народу было множество, даже представитель правительства, а на кладбище появились прадистский министр, одристский сенатор, лидер апристский и еще один белаундистский. Дядюшка Клодомиро, Чиспас и ты не меньше часа стояли у кладбищенских ворот, принимая соболезнования. Назавтра Сантьяго и Ана провели в Мирафлоресе целый день. Мама, окруженная родней, не выходила из своей комнаты, а увидев вас, обняла и поцеловала Ану, а Ана обняла и поцеловала ее, и обе заплакали. Так устроен мир, Савалита, думает он. Да так ли устроен мир, думает он. К вечеру пришел Клодомиро и сидел с ними в гостиной: он казался рассеянным или погруженным в свои мысли, и когда его о чем-нибудь спрашивали, отвечал односложно и неразборчиво. На следующий день тетушка Элиана, чтобы избежать визитов соболезнования, увезла мать к себе, в Часику.
– Больше я с родными не ссорился, – говорит Сантьяго. – Мы редко видимся, и так, на расстоянии, отлично ладим.
– Нет, – повторил Амбросио. – Я не ругаться сюда пришел.
– И хорошо сделал, – сказала Кета. – А не то я позвала бы Робертито, он у нас главный по этим делам. Ну, говори, какого дьявола тебе тут надо, или уматывай.
На этот раз они были одеты, и не лежали в кровати, и свет в комнате не был погашен. Снизу, из бара и кабинета, доносился обычный шум – музыка, голоса, смех. Амбросио сидел на кровати. Кета видела в конусе света от лампы его неподвижное массивное тело в синем костюме, его ноги в черных башмаках с острыми носами, белый крахмальный воротничок его сорочки. Видела она и то, сколько отчаяния в его неподвижности и какая бешеная злоба плещется на дне его глаз.
– Вы сами отлично знаете, что я пришел из-за нее. – Амбросио смотрел на нее прямо, не моргая. – Вы могли что-нибудь сделать, а ничего не сделали. А ведь вы ее подруга.
– Знаешь что, – сказала Кета. – У меня своих забот предостаточно. Говорить об этом не желаю, я тут деньги зарабатываю. Иди отсюда и, главное, не возвращайся. Чтоб ни здесь, ни у меня я тебя больше не видела.
– Вы должны были что-нибудь сделать, – внятно, упрямо, жестко произнес он. – Так будет лучше.
– Мне лучше? – сказала Кета; она стояла, подбоченившись, слегка изогнувшись всем телом, прислонясь к двери.
– Ей, – пробормотал Амбросио. – Вы же сами мне говорили, что дружите с нею, что, хоть она и полоумная, хорошо к ней относитесь.
Кета шагнула вперед, села на единственный стул. Положила ногу на ногу, медленно оглядела его, а он, впервые не опустив глаз, выдержал ее взгляд.
– Тебя прислал Златоцвет, – неторопливо выговорила она. – Но почему ко мне, а не к ней? Я к этому делу отношения не имею. Так и передай ему: пусть меня не впутывает. Полоумная – сама по себе, я – сама по себе.
– Никто меня не присылал, он даже и не знает, что мы с вами знакомы, – очень медленно сказал Амбросио, не сводя с нее глаз. – Я пришел поговорить с вами. По-дружески.
– По-дружески? – сказала Кета. – С чего ты взял, что мы – друзья?
– Убедите ее, усовестите, пусть опомнится, – пробормотал Амбросио. – Ведь она очень плохо поступает. Скажите ей: у него нет денег, дела его – хуже некуда. Посоветуйте ей, пусть забудет про него – навсегда пусть забудет.
– Он что, снова засадит ее в тюрьму? – сказала Кета. – Какую еще пакость он ей устроит?
– Он ее в тот раз не засадил, а вытащил, – не повышая голоса, не шевелясь, сказал Амбросио. – Он ей помогал, платил за больницу и вообще деньги давал. А ведь его никто не заставлял, не принуждал, ему просто жалко ее было. А теперь больше не даст. Скажите ей, что она очень нехорошо себя с ним вела. И чтоб больше не смела ему угрожать.
– Ладно, иди отсюда, – сказала Кета. – Пусть Златоцвет и полоумная сами договариваются. Это их дело. Не мое и не твое, так что не суйся.
– Посоветуйте ей уняться, – повторил напряженно, упрямо Амбросио. – А то как бы это ей боком не вышло.
Кета засмеялась и сама поняла, что смех этот был нервным и деланным. Он глядел на нее со спокойной решительностью, только в самых зрачках тлело усмиренное, но неистовое затаенное бешенство. Они молчали, уставившись друг на друга, и разделяло их не больше полуметра.
– Так, говоришь, это не он тебя послал? – сказала наконец Кета. – Так, значит, Златоцвет испугался эту несчастную, эту полоумную? Он так немощен, что струсил? Он ведь видел ее, знает, чем она теперь стала. И ты тоже знаешь. У тебя ведь там свой соглядатай, верно ведь?
– Да, – хрипло выговорил Амбросио. Кета видела, как он сдвинул колени, весь поджался, как пальцы его впились в колено. Голос его не слушался. – Речь не обо мне, я тут ни при чем. А Амалия ей все время помогает, она всегда с ней, что бы с той ни творилось. Подруге вашей незачем было рассказывать про Амалию.
– Что бы с той ни творилось, – повторила Кета, подавшись к нему. – Она что, рассказала Златоцвету про твои шашни с Амалией?
– Она рассказала, что Амалия – жена мне, что мы уже несколько лет каждое воскресенье видимся, что она от меня беременна, – с прорвавшейся яростью сказал Амбросио. Кета подумала, что он сейчас заплачет. Но нет: слезы звучали только в его голосе, а широко открытые тусклые глаза были сухи. – Она очень нехорошо поступила.
– Теперь ясно, – сказала, выпрямившись, Кета. – Теперь ясно, почему ты здесь и откуда такая злоба. Теперь я понимаю, зачем ты пришел.
– Но она-то зачем? – мученически продолжал Амбросио. – Она думала, сумеет его убедить? Думала, вытрясет из него еще денег? Зачем она совершила такое злое дело?
– Потому что наша полоумная и вправду почти лишилась рассудка, – прошептала Кета. – Ты не знал разве? Потому что она хочет отсюда уехать, потому что ей необходимо уехать. Это не по злобе она тебя продала. Она сама уж не понимает, что делает.
– Она думала: вот расскажу, пусть помучается, – сказал Амбросио. Он кивнул своим словам, на мгновение зажмурился, потом открыл глаза. – Ему будет худо от этого, ему будет больно. Вот как она думала.
– Это все из-за этой сволочи Лукаса, ее возлюбленного, он сейчас в Мексике, – сказала Кета. – Ты же ведь всего не знаешь. Он написал ей: приезжай, привези денег, и мы поженимся. Она и верит в это, она же ненормальная. Она же не сознает, что делает. Это не по злобе.
– Да, – сказал Амбросио. Он чуть приподнял руки и тотчас с силой вдавил пальцы в колено, сминая ткань брючины. – Она причинила ему боль. Боль и вред.
– Златоцвет должен был понять ее, – сказала Кета. – Ведь с нею все вели себя как последние скоты. И Кайо-Дерьмо, и Лукас, и все, кто бывал у нее, кого она принимала и…
– Но он-то, он-то? – глухо зарычал Амбросио, и Кета умолкала, готовясь вскочить и убежать, но он не двинулся с места. – Он-то что ей плохого сделал? Он-то за какую вину платится? Он ей что-нибудь должен? Он обязан, что ли, ей помогать? Мало она от него получала? И единственному человеку, который был к ней добр, она такую подлость сделала. Но теперь – конец, теперь уж все. Так ей и скажите.
– Говорила уже, – прошептала Кета. – Когда я узнала, что Амалия ей рассказала про свою беременность, я ее предупредила. Смотри, сказала я, не вздумай намекнуть Амалии про то, что ее Амбросио… Не вздумай сказать Златоцвету про Амалию. Не рой другому яму, не суйся в эти дела. Она ведь не по злобе, ей надо достать денег для своего Лукаса. Ну, с ума сошла.
– Ведь он же ей ничего плохого не сделал, ведь она ему навредила потому только, что он с ней – по-человечески, что он ей помогал, – пробормотал Амбросио. – Если б она наболтала про меня Амалии, мне бы наплевать было. Но с ним так нельзя, нельзя. Нет, это чистая подлость, чистая.
– Значит, что жена твоя узнает, тебе наплевать, – глядя ему в глаза, сказала Кета. – Тебя волнует только Златоцвет, только он, педераст, тебя беспокоит. Ты еще хуже, чем он. А ну убирайся отсюда!
– Она послала письмо его жене, – хрипел Амбросио, и Кета видела, как он понурился от стыда. – Его жене. Муж твой – то-то и то-то, муж твой со своим шофером, спроси-ка его, что он чувствует, когда негр – и так две страницы в таком вот духе. Его жене. Ну, скажите мне, зачем она это сделала?
– Я же тебе говорю: она не в своем уме, – сказала Кета. – Зачем, зачем? Затем, что хочет в Мексику и на все готова, чтобы…
– Она звонила к нему домой! – Амбросио вскинул голову, и Кета увидела, что глаза его подернуты пеленой безумия, немого, не находящего себе выхода ужаса. – Такое же письмо получат твои родные, друзья, твои дети. Я им напишу то же, что жене написала. И твоим служащим. И это – единственному человеку, который ей помогал неизвестно почему, который ей добро делал.
– Она отчаялась, – сказала Кета громче. – Ей нужен был билет, ну и вот. Вынь да положь.
– Вчера он ей его привез, – хрипел Амбросио. – Я тебя погублю, я тебя утоплю, посмешищем сделаю. А он ей сам, лично, привез билет. Но ей мало. Она и вправду рехнулась, требует еще сто тысяч. А? Ну, скажите же вы ей. Скажите, чтоб перестала его мучить. Скажите, что это в последний раз.
– Ничего я ей больше не стану говорить, – пробормотала Кета. – Меня это не касается, я знать ничего не знаю. Пусть они с Златоцветом хоть глотку друг другу перегрызут, их дело. Я лезть не собираюсь. А ты-то что суетишься? Может, Златоцвет тебе расчет дал? Может, ты потому грозишь, что надеешься: этот педераст простит тебе Амалию?
– Не надо придуриваться, – сказал Амбросио. – Не делайте вид, что не понимаете. Я не ругаться с вами пришел, а поговорить. Расчета он мне не давал и сюда не посылал.
– Ты давно должен был сказать мне правду, – сказал дон Фермин. – Сказать, что у тебя есть женщина, что она ждет ребенка, что хочешь жениться. Вот как ты должен был поступить, Амбросио.
– Тем лучше для тебя, – сказала Кета. – Ведь ты столько времени виделся с ней потихоньку, потому что боялся Златоцвета. Выходит, зря боялся. Он узнал и не уволил тебя. Говорю тебе, полоумная сделала это не со зла. Не лезь, они сами разберутся.
– Он не выгнал меня, не рассердился, не ругал меня, – хрипел Амбросио. – Он пожалел, он простил меня. Как вы не понимаете: такого человека нельзя мучить. Неужели не понимаете?
– Да, Амбросио, неважные времена ты пережил и, должно быть, сильно меня ненавидел, – сказал дон Фермин. – Приходилось скрывать это от жены – и столько лет. Сколько, Амбросио?
– Я себя чувствовал полным дерьмом, передать даже не могу, – застонал Амбросио, с силой ударив кулаком по спинке кровати. Кета вскочила.
– Ты, бедолага, думал, я рассержусь на тебя? – сказал дон Фермин. – Нет, Амбросио. Забери отсюда Амалию, заводи семью, детей. Можешь работать у меня, сколько сам захочешь. А про Анкон и про все прочее забудь.
– Он умеет тобой управлять, – пробормотала Кета, шагнув к двери. – Он знает, кто ты есть. Я ничего не стану говорить Ортенсии. Сам скажи. А если еще раз попадешься мне на глаза здесь или у меня дома – берегись.
– Ладно, ладно, я ухожу, больше не вернусь, не беспокойтесь, – вставая, сказал Амбросио; Кета распахнула дверь, и снизу, из бара, в комнату ворвался разноголосый говор и музыка. – Но последний раз прошу, поговорите с ней, посоветуйте ей, усовестите. Пусть оставит его в покое.
Автобус он водил только три недели – дольше сам автобус не протянул. Однажды утром на самом выезде из Яринакочи он задымил и сдох, ненадолго зайдясь в предсмертной лязгающей икоте. Подняли капот, полезли в мотор. Отъездил, бедняга, сказал дон Каликсто, хозяин. Как только понадобится шофер, дам тебе знать, Амбросио. А два дня спустя появился в домике его владелец, дон Аландро Песо, и заговорил тихо, мирно: все знаю, все понимаю, работу потерял, жену схоронил, несчастья так и валятся. Он очень сочувствует, но благотворительностью заниматься не может, так что, Амбросио, освобождай помещение. В уплату просроченной аренды дон Аландро согласился взять стол, кровать, колыбель, примус, а остальное имущество Амбросио сложил в коробки и снес пока к донье Лупе. Увидевши, в каком он расстройстве, она сварила ему кофе, сказала: ну, хоть за девочку ты не переживай, она ее не бросит, будет с нею сколько понадобится. Амбросио поплелся к Панталеону, а тот еще из Тинго-Марии не приехал. Появился он только к вечеру, увидел, что у дверей его сидит Амбросио, ноги по щиколотку ушли в раскисшую землю. Попытался было приободрить его: ну, ясное дело, живи, пока работы не найдешь. А найду ли, Панталеон? Да, действительно, с работой у нас плохо, отчего бы Амбросио не попытать счастья в других краях? В Тинго, скажем, или в Гуануко. Но Амбросио ему ответил, что слишком недавно померла Амалия, и ребенок погиб, и потом, как ему скитаться по белу свету с девчонкой? Однако он все же попытался зацепиться там, в Пукальпе. То разгружал баржи, то сметал паутину и морил крыс в магазинах компании Вонг и даже мыл каким-то обеззараживающим раствором полы в морге, но всего этого и на табак не хватало. Если б не Панталеон да не донья Лупе, он бы с голоду помер. И пришлось ему в один прекрасный день предстать скрепя сердце перед доном Иларио: нет, ниньо, не права качать, а просить. Все, дон, крышка мне, помогите чем можете.
– У меня все водители укомплектованы, – сказал ему с печальной улыбкой дон Иларио. – Не могу же я кого-то рассчитать, а тебя взять.
– Увольте дурачка из «Безгрешной души», – попросил его тогда Амбросио. – Наймите в сторожа меня.
– Я ж ему не плачу, позволяю только там дрыхнуть целый день, – объяснил ему дон Иларио. – За кого ты меня принимаешь: я тебя найму, потом ты найдешь работу, а где мне будет найти такого, чтоб согласился не получать ни гроша?
– Вот так-то, ниньо, – говорит Амбросио. – А те расписки на сотню солей в месяц, что он мне показывал? Куда ж эти деньги уплывали?
Но ему он ничего не сказал: выслушал, кивнул, пробормотал «очень жалко». Дон Иларио его ободряюще похлопывал, а на прощанье дал пятерку – выпей, мол, Амбросио. Он пообедал в харчевенке на улице Комерсио, купил Амалите-Ортенсии леденец. А у доньи Лупе поджидала его новая беда: опять, Амбросио, приходили из больницы. Если не пойдет хоть объясняться, если уж не платить, то заявят в полицию. Он пошел. И сеньора из администрации стала его ругать за то, что уклоняется от уплаты и скрывается. Вытащила счета, стала ему показывать.
– Чистый цирк, ей-богу, – говорит Амбросио. – Около двух тысяч. Можете себе такое представить, ниньо? Две тысячи за то, что они ее уморили?
Но и ей он ничего не сказал: тоже слушал с серьезным видом, кивал. Ну так как? – растопырила руки сеньора из администрации, а он тогда начал ей рассказывать, в какой нужде оказался, и еще приврал немного, чтоб жалостней было. Сеньора его спросила: полис-то социального страхования у тебя есть? Амбросио знать не знал никакого полиса. Где ты раньше работал? Последнее время автобус водил, а до этого – в «Транспортес Моралес».
– Значит, есть, – сказала ему сеньора. – Спроси у дона Иларио номер полиса. Потом пойдешь в отделение министерства, там тебе выдадут твою книжку, а с книжкой опять придешь сюда. Тогда придется платить не всю сумму.
Он уже заранее знал, что дальше будет, но все же отправился к дону Иларио, чтоб лишний раз убедиться, до чего же тот сметлив. Дон Иларио закудахтал и посмотрел так, словно говорил: а ты еще глупей, чем кажешься.
– Какое еще страхование? – сказал дон Иларио. – Это ж только для постоянных.
– А разве ж я был не постоянный? – спросил Амбросио. – Когда шофером работал у вас?
– Как же ты мог быть постоянным, когда у тебя прав нет? – сказал ему дон Иларио.
– Как же нет? – сказал Амбросио. – А это что?
– Ну, так ты же мне не сказал, так что я тут ни при чем, – отвечал ему дон Иларио. – И потом, я тебя, для твоей же пользы, не регистрировал. Ты же от налогов освобождался, потому что получал почасовую.
– Как же освобождался, если вы с меня каждый месяц что-то удерживали? – сказал Амбросио. – Разве не на страховку?
– Это на пенсию, – сказал дон Иларио. – Но ты из дела вышел и право, значит, на нее потерял. Это закон такой, в нем сам черт ногу сломит.
– Сильней всего меня жгла не эта брехня, а то, что он мне крутил мозги – вот как со свидетельством об окончании шоферских курсов, – говорит Амбросио. – Ну, думаю, где его слабое место? Деньги, конечно. Туда, значит, и надо бить в отместку.
Был вторник, и, чтобы все прошло гладко, надо было ждать воскресенья. Днем он отсиживался у доньи Лупе, ночевал у Панталеона. Что будет с Амалитой-Ортенсией, донья Лупе, если с ним приключится какая-нибудь напасть – умрет, к примеру? Ничего не будет, будет жить как жила, будет ей как родная дочь, как та, о которой она столько мечтала. По утрам он ходил на пляж возле пристани или заводил на площади разговоры с разными бродягами. В субботу после полудня прибыл в Пукальпу «Горный гром» – рычащая запыленная колымага, хлопая неплотно привязанными чемоданами и тюками, пересекла улицу Комерсио, затормозила возле конторы «Транспортес Моралес». Вылез шофер и пассажиры, разобрали багаж, а Амбросио, гоняя носком ботинка камушки, стоял дожидался, когда же шофер снова сядет за руль, отгонит машину в гараж Лопеса, в точности так он и сделал, ниньо. А он пошел к донье Лупе и до самого вечера играл с Амалитой-Ортенсией, которая до того отвыкла от него, что ударялась в рев, когда он приближался. В гараже он был около восьми и сказал жене Лопеса: я за машиной, сеньора, дону Иларио требуется. Ей и в голову не пришло его спросить: ты что, опять нанялся к Моралесу? Показала ему, где стоит «Горный гром». Стоит, заправлен и бензином, и маслом, и вообще.
– Я сначала думал пустить ее под откос, – говорит Амбросио. – Но потом сообразил, что это глупость, и поехал в Тинго. По дороге подобрал двоих пассажиров, так что хватило еще заправиться. Наутро, в Тинго-Марии, поколебавшись минутку, прямым ходом покатил к гаражу Итипайи: как, негр, ты опять работаешь у дона Иларио?
– Нет. Машину я у него угнал, – сказал Амбросио. – В уплату за то, что он меня обобрал. Хочешь, продам?
Итипайа сначала изумился, а потом стал хохотать: да ты, брат, рехнулся.
– Рехнулся, рехнулся, – сказал Амбросио. – Ну, будешь брать?
– Краденую машину? – засмеялся Итипайа. – На кой она мне? Всякий знает «Горный гром», да и уже, конечно, он заявил.
– Ладно, – сказал Амбросио. – Тогда я ее разобью в лепешку. Хоть отыграюсь.
Итипайа почесал в затылке: ну, ты уж, видно, совсем. Торговались полчаса, не меньше. Чем гробить машину, негр, лучше уж пусть еще послужит, но много дать он не может: ее ведь надо всю до винтика разобрать, продавать на запчасти, закрасить кузов, да мало ли чего еще. Говори, Итипайа, не тяни, сколько даешь? И потом, негр, это ж уголовщина. Сколько даешь, я спрашиваю?
– Четыреста солей, – говорит Амбросио. – Обошлась она ему дешевле, чем подержанный велосипед. А мне – в обрез до Лимы доехать, ниньо.