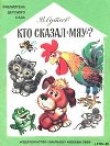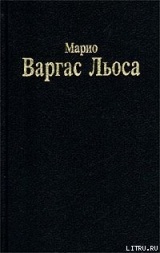
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
– Понравился тебе бой быков? – сказал Амбросио.
– Понравился, – сказала Амалия. – Только разве можно так мучить животных?
– Ну, раз понравилось, еще сходим, – сказал Амбросио.
Она уж было собралась ответить ему «и не мечтай», но вовремя прикусила язык, обругав себя мысленно дурой. Тут она вспомнила, что они с Амбросио не гуляли вместе уже больше трех лет, почти четыре, и ей вдруг взгрустнулось. Теперь куда? – спросил Амбросио, а она сказала, что ей надо к тетке, в Лимонсильо. А что же он делал все эти годы? Пойдем лучше в кино, успеется к тетке, – сказал Амбросио, и они пошли. Картина была про пиратов, и, сидя в темном зале, она почувствовала, что вот-вот заплачет. Ты что, вспоминаешь, как ходила в кино с Тринидадом, дурища? Или как жила в Миронес и целыми днями месяцами сидела, молчала, и, кажется, даже не думала? Нет, она вспоминала другое – как встречались в Суркильо, и как она потихоньку пробиралась в его каморку над гаражом, и как все это было. И тут снова охватила ее ярость: всю морду расцарапаю, если он ко мне притронется. Но Амбросио и не думал даже к ней притрагиваться, а, когда вышли из кино, пригласил ее пообедать. Пошли в сторону Пласа-де-Армас и говорили о чем угодно, только не о том, что было раньше. И взял он ее за руку, когда они стояли на трамвайной остановке, я не такой, как ты думаешь, Амалия. Да, Амбросио, ты не такой, как ты думаешь, сказала Кета, достаточно посмотреть, что ты делаешь, жалко мне эту несчастную Амалию. Ну-ка, отпусти меня, а то закричу, сказала Амалия, и Амбросио послушался. Не будем ссориться, Амалия, об одном тебя прошу – забудь все, что было. Ведь столько времени прошло, Амалия. Сели в трамвай, доехали молча до Сан-Мигеля. Вышли, уже начинало смеркаться. У тебя был другой, сказал Амбросио, этот, с текстильной фабрики, а у меня никого не было. А чуть погодя, уже на углу: измучился я из-за тебя, Амалия, и голос у него был такой сдавленный. Она не ответила, бросилась бежать, а в дверях оглянулась: он стоял на углу, в тени низкорослых голых деревьев. Амалия вбежала в дом, силясь побороть волнение и злясь на то, что все-таки волнуется.
– Ну а что с этой офицерской ложей в Куско? – сказал он.
– Конгресс должен утвердить производство полковника Идиакеса в генералы, – сказал Паредес. – Подходящей должности в Куско нет, стало быть, ему придется уехать, а без него этот кружок развалится сам собой. Да они и сейчас довольно безобидны – только разговоры разговаривают.
– Мало убрать из Куско Идиакеса, – сказал он. – А начальник гарнизона, а вся эта капитанская шушера? Не понимаю, почему вы до сих пор не рассовали их по разным округам. Министр обещал на этой же неделе начать переводы.
– Я десять раз докладывал ему, десять раз показывал рапорта моих информаторов, – сказал Паредес. – Он осторожничает, потому что речь идет о людях заслуженных и заметных в армии.
– Значит, надо подключить к этому делу президента, – сказал он. – Сразу после Кахамарки следует приняться за эту группу. Наблюдение-то хоть надежное?
– Будь спокоен, – сказал Паредес. – Известно даже, кто что ел на обед.
– В один прекрасный день им на стол выложат миллион, и мы получим революцию, – сказал он. – Надо без промедления разослать их по дальним округам.
– Идиакес очень многим обязан режиму, – сказал Паредес. – Не хочется разочаровывать президента: он очень болезненно относится к человеческой неблагодарности. Для него будет настоящим потрясением, когда он узнает, что Идиакес устраивает заговоры.
– Если они выступят, потрясение будет еще больше. – Он встал, вытащил из портфеля несколько листков и протянул их майору. – Вот, прогляди-ка, потом скажешь, заведены ли у тебя досье на этих лиц.
Паредес проводил его до дверей и, когда тот уже выходил, вдруг задержал:
– А как же это у тебя вышло с телеграммой из Аргентины?
– Это не у меня вышло, – сказал он. – То, что апристы забросали камнями наше посольство в Буэнос-Айресе – отрадное известие. Я проконсультировался с президентом, и он распорядился печатать.
– Да, отрадное, – сказал Паредес. – Здешние офицеры были возмущены.
– Вот видишь, я все предусмотрел, – сказал он. – До завтра.
Но очень скоро, дон, явился Иполито, мрачнее тучи: демонстрантки пришли, развернули свои транспаранты, лозунги и всякую такую хреновину. Женщины вступили на ярмарочную площадь, а люди Лудовико стали тогда подтягиваться к ним навстречу, словно бы любопытствуя. Четыре женщины несли полотнище с намалеванными на нем красными буквами, а за ними шла еще кучка – самые закоперщицы, сказал Лудовико, – по их знаку остальные начинали кричать и скандировать, а было этих остальных целая толпа. Посетители ярмарки тоже заинтересовались, пошли посмотреть, а те кричали, только не разобрать было, что они кричат, и среди них были старухи, и молодые, и совсем девчонки, но ни одного мужчины, все так, как предупреждал сеньор Лосано, сказал Иполито. Шли они как на крестном ходу, у некоторых даже руки были сложены для молитвы. Много их было, дон, – двести, или триста, или четыреста, и в конце концов вся их демонстрация вползла на площадь.
– Проглотим не жуя, – сказал Лудовико.
– Смотри не подавись, – сказал Иполито.
– Мы врежемся в середину, расчленим их надвое, – сказал Лудовико. – Мы займемся головными, а ты, Иполито, – теми, что в хвосте.
– Думаешь, они не бодаются, а лягаются? – натужно пошутил Иполито, и шутка у него не получилась. Он поднял воротник и пошел к своим. Женщины шли по площади, а они – следом, кучками и поодиночке. Когда добрались до «американских горок», снова появился Иполито: сил моих нет, стыдно, лучше я уйду. Знаешь что, сказал ему Лудовико, в последний раз тебя предупреждаю, брось дурака валять, мне за тебя отвечать неохота, делай, что говорят! На Иполито это подействовало: поглядел с бешенством и побежал на место. Тем временем собрались, дон, все ребята. Лудовико и их подбодрил матюгами, и все они втерлись в середину шествия. Женщины все сгрудились у карусели, те, что несли плакат, повернулись к остальным лицом, одна взобралась повыше, начала речь. Народу все прибывало, пошла толкотня и давка, музыка смолкла, но все равно ни словечка было не разобрать. Они хлопали в ладоши, протискивались поближе, а с другой стороны лезли люди Иполито. Рукоплескали, кричали «ура» и «правильно», женщины на них посматривали недовольно, но некоторые обрадовались: они за нас, мы не одни; Амбросио с Лудовико переглянулись, будем держаться друг за друга, и их люди уже вклинились в толпу женщин, рассекли ее надвое и перли дальше, тут и пошел свист, появились трещотки. Иполито достал свой рупор – не слушайте ее! да здравствует генерал Одрия! смерть врагам народа! – загуляли по спинам дубинки – да здравствует Одрия! Тут, дон, такое началось! Провокаторы! – закричала та, что речь говорила, но ее и не слышно было, а женщины вокруг Амбросио заметались, давя друг друга. Расходитесь по домам! – сказал Лудовико, – вас обманывают, не слушайте подстрекателей, – и тут, как он потом рассказывал, почувствовал, его охватили за шею, прямо когтями впились, выдрали клок мяса. Ну, уж тут и дубинки, и кастеты, и велосипедные цепи пошли в ход по-настоящему, а вся эта орава баб зарычала, завизжала, полезла на них с кулаками. Амбросио с Лудовико держались рядом, оберегали один другого, если один спотыкался, другой его поддерживал, если один падал, другой его поднимал. Иполито прав был, сказал Лудовико, эти коровенки оказались почище бешеных быков. Да, дон, они защищались отчаянно. Собьешь какую с ног, она и ляжет, встать не может, но с земли хватает за ноги, тянет, валит. Приходилось отбиваться, и страшнейшая матерщина висела в воздухе. Маловато нас, сказал один из парней Лудовико, надо б гвардейцев позвать, а тот: нет, мать их так, нет! Снова ударили, заставили их отступить, повалили карусель, а вместе с нею чертову уйму баб. Больше они не кричали «да здравствует Одрия!», а крыли их из матери в мать, последними словами. Вдвоем, втроем накидывались на демонстранток и в конце концов сумели-таки рассеять головную колонну, и Амбросио с Лудовико даже смеялись, что взмокли, как на молотьбе. Вот тут и хлопнул выстрел: какая сука стреляла? – завопил Лудовико. Но стреляли с хвоста, а хвост-то держался, и тогда они побежали туда на помощь. Оказалось, стрелял Сольдевилья, а в оправдание говорил, что на него накинулось не меньше десятка, хотели выцарапать ему глаза, но он ни в кого не целился, выстрелил в воздух. Однако Лудовико все равно был в бешенстве: откуда у тебя револьвер, приказа не знаешь? – а Сольдевилья: это мой собственный. Это все равно, сказал Лудовико, я подам на тебя рапорт, наградных ни шиша не получишь. Ярмарка обезлюдела, те, кто крутил «чертово колесо», качели-карусели, попрятались по своим кабинкам, и цыганки дрожмя дрожали в своих палаточках. Тут хватились – одного не хватает. Пошли искать и нашли в отрубе рядом с плачущей. Тут многие осерчали, и ей крепко досталось, а тот – звали его Иглесиас, он был из Айакучи – поднялся как во сне – рот у него был сильно разорван – и все никак не мог понять, где он и что. Хватит, хватит, – сказал Лудовико тем, кто молотил ту бабу, – она вроде не дышит. Сели в автобус, никто рта не раскрывал, до того все утомились. Но потом отошли немного, закурили, стали рассматривать друг друга, пошучивать, посмеиваться: моя ни в жизнь не поверит, что это меня на службе так расцарапали. Очень хорошо, сказал им сеньор Лудовико, дело сделали, можете отдыхать. Вот, дон, какие примерно были там работы.
V
Всю неделю Амалия была как во сне. О чем ты все думаешь? – допытывалась Карлота, а хозяйка, сеньора Ортенсия: эй, хватит витать в облаках, спустись на землю. Она уже не злилась на него и не ругала себя, что согласилась с ним прогуляться и сходить на корриду и в кино. Как-то ночью она стала мечтать о том, что в воскресенье встретится с ним на трамвайной остановке. Однако в воскресенье Карлота с Симулой отправлялись на крестины, и потому ее выходной пришелся на субботу. Куда ж идти? – навестить Хертрудис, столько времени не видались. Пришла в лабораторию как раз к концу смены, и Хертрудис повела ее к себе обедать. Бессовестная, где ж ты пропадала, я столько раз ходила к сеньоре Росарио, а она не знает, где ты теперь служишь, как живешь. Амалия уж было собралась рассказать, что снова виделась с Амбросио, но вовремя спохватилась, смолчала: она ведь так его поносила раньше. Решили встретиться с Хертрудис в следующее воскресенье. Вернулась в Сан-Мигель рано и все-таки сразу улеглась. Дура ты дура, думала она, он так над тобой измывался, а ты все из головы его выкинуть не можешь. Приснился ей в ту ночь Тринидад. Он ее ругал, обзывал нехорошими словами, а потом стал весь бледный и сказал: скоро ко мне попадешь, встретимся. В воскресенье Симула и Карлота ушли еще утром, а потом уехала и хозяйка с сеньоритой Кетой. Амалия прибралась, села в гостиной, включила радио, а там все скачки да футбол, и когда в дверь постучали, она сердито крикнула: войдите. И вошел он.
– Сеньоры Ортенсии дома нет? – И был он в своей синей форменной тужурке, в шоферской фуражке.
– Ты ее боишься? – серьезно спросила Амалия.
– Дон Фермин надавал мне поручений, а я выкроил минутку, чтоб увидеть тебя, – сказал он с улыбкой, словно не слышал ее слов. – Машину оставил на углу. Дай бог, чтоб сеньора Ортенсия ее не узнала.
– Ты чем дальше, тем больше боишься дона Фермина, – сказала Амалия.
Улыбку будто смыло с его лица, он как-то уныло развел руками и уставился на нее, словно не знал, что делать дальше. Потом сбил фуражку на затылок, вымученно улыбнулся: меня уволят за такие проделки в два счета, а ты меня так принимаешь, нехорошо, Амалия. Что было, Амалия, то быльем поросло. Давай, Амалия, начнем все сначала, будто мы только-только познакомились.
– Думаешь, я позволю тебе сделать это еще раз, – сказала Амалия. – Не на такую напал.
Он не дал ей отскочить – поймал за руку и, моргая, заглянул в глаза. Он не пытался ее обнять, притянуть к себе, просто держал за руку, потом как-то странно дернулся и разжал пальцы.
– Хоть ты и путалась с тем парнем, хоть мы и не виделись много лет, ты все равно – жена мне, – хрипло сказал Амбросио, и Амалия почувствовала, что сердце у нее вот-вот остановится. Она подумала, что сейчас заплачет: сейчас заплачу. – Я тебя люблю по-прежнему, знай.
Он снова уставился на нее, а она попятилась, выскочила из кухни, захлопнула дверь. Он, поколебавшись минуту, поправил фуражку и ушел. Тогда она вернулась в комнату и успела увидеть из окна, как он заворачивает за угол. Села возле приемника, растирая онемевшее от его хватки запястье, удивляясь, что в душе не было ни капли злости. Неужели он и вправду ее еще любит? Нет, вранье это. Может, в тот день, когда они столкнулись на улице, он влюбился в нее заново? Снаружи не доносилось ни звука, сквозь задернутые шторы в комнату лилась зеленоватая полумгла. Но говорил он вроде бы искренне, думала она, крутя ручку настройки. Но по всем программам – ни одной постановки, только скачки да футбол.
– Можешь съездить пообедать, – сказал он, когда Амбросио притормозил на площади Сан-Мартин. – Возвращайся через полтора часа.
Он вошел в бар отеля «Боливар», сел неподалеку от дверей. Заказал порцию джина, две пачки «Инки». За соседним столиком сидела какая-то троица, и до него долетали обрывки анекдотов. Он успел выкурить сигарету и до половины выпить стакан, когда заметил Фермина, пересекающего Кольмену.
– Простите, что заставил вас ждать, – сказал дон Фермин. – Мы с Ландой решили сыграть партийку, и он – вы ведь его знаете? – никак меня не отпускал. Ланда ликует: забастовка на «Олаве» прекращена.
– Вы из клуба? – спросил он. – Ну как там? Не собираются ли ваши друзья-олигархи устроить заговор?
– Пока не собираются, – улыбнулся дон Фермин и показал официанту на стакан, тоже заказал себе джину. – Что это вы раскашлялись? Грипп?
– Курю, – сказал он, снова заперхав. – Как вы поживаете? Как ваш беспутный отпрыск? По-прежнему доставляет вам хлопоты?
– Чиспас? – Дон Фермин бросил в рот пригоршню орешков. – Нет, он взялся за ум, усердно трудится у меня в конторе. Мне теперь дай бог разобраться с младшим.
– Тоже погуливает? – сказал он.
– Нет. Он собрался поступать не в Католический университет, а в этот притон Сан-Маркос. – Дон Фермин пригубил джин, досадливо махнул рукой. – Он поносит священников, военных и все на свете – и только для того, чтобы испороть настроение отцу с матерью.
– Все мы в юности ниспровергатели основ, – сказал он. – Я сам через это прошел.
– Не могу постичь, дон Кайо. – Дон Фермин говорил теперь серьезно. – Всегда был такой примерный мальчик, образцовый – круглый отличник, даже немного слишком правильный. И вдруг – такое неверие, выверты, причуды. Не хватало только, чтоб он стал коммунистом или анархистом или я не знаю чем.
– Тогда уж часть ваших забот я возьму на себя, – улыбнулся он. – Но, знаете, я своего сына отправил бы именно в Сан-Маркос. Там много чепухи, и вредной чепухи, но, что ни говорите, это настоящий университет. Куда до него Католическому.
– Дело даже не в том, что там его непременно втянут в политику, – рассеянно сказал дон Фермин. – Университет потерял свое лицо, он далеко не тот, что был раньше. Прибежище вонючих чоло. С кем ему там придется иметь дело?
Он глядел на дона Фермина не мигая, и тот заморгал, смущенно отвел взгляд.
– Поймите меня правильно, я ничего не имею против чоло, – ага, паскуда, догадался, что сморозил, – совсем наоборот, я всегда был и остаюсь демократом. Я просто не хочу, чтобы Сантьяго загубил свою будущность. Он заслуживает многого. А в нашей стране почти все зависит от связей.
Они заказали еще по порции. Дон Фермин бросал в рот орешки, оливки, ломтики хрустящего картофеля. Он же только пил и курил.
– Я слышал, продается еще одна ветка «Панамериканы», – сказал он. – Не собираетесь принять участие в торгах?
– Нам пока хватит шоссе в Пакасмайо, – сказал дон Фермин. – По одежке протягивай ножки. Лаборатория отнимает у меня очень много времени, а сейчас я еще задумал сменить оборудование. Прежде чем расширяться, мне хотелось бы, чтобы Чиспас познал все тонкости и подставил плечо.
Они вяло обсудили эпидемию гриппа, происшествие в Буэнос-Айресе, где апристы перебили стекла в посольстве Перу, угрозы всеобщей забастовки текстильщиков – любопытно, привьется ли мода на короткие юбки? – пока не допили свой джин.
– Иносенсия вспомнила, что это твое любимое блюдо и приготовила чупе с креветками. – Дядя Клодомиро прижмурил глаз. – Старушка готовит теперь уже не так, как бывало. Я хотел было пообедать с тобой в городе, но не стоит огорчать ее.
Клодомиро налил ему стаканчик вермута. Как чисто было в его квартирке на Сан-Беатрис, как все сияло и сверкало там, какая добрая старушка была Иносенсия, помнишь, Савалита? Она вырастила обоих братьев и обращалась к ним на «ты» и однажды при тебе дернула отца за ухо: «Что ж ты, Фермин, глаз не кажешь?» Дядюшка Клодомиро отпил глоточек, утер губы. Опрятный и благообразный, в жилете, манжеты и воротник сорочки жестко накрахмалены, а глазки такие живые и веселые, гибкая, миниатюрная фигурка и нервные руки. Знал ли он, узнает ли он? Сколько месяцев, сколько лет ты не видел его, Савалита, думает он. Надо навестить, непременно навещу.
– Ты помнишь, Амбросио, какая у них была разница в возрасте? – говорит Сантьяго.
– Это бестактно с твоей стороны, – засмеялся Клодомиро. – Стариков об этом не спрашивают. Пять лет. Фермину пятьдесят два, ну, а я подбираюсь к шестидесяти.
– Он выглядит старше, – сказал Сантьяго. – Ты лучше сохранился, дядюшка.
– Ну уж, – улыбнулся Клодомиро. – Это потому, что я остался холостяком. Ну что, навестил ты наконец родителей?
– Еще нет, – сказал Сантьяго. – Обязательно схожу. Честное слово.
– Ты слишком тянешь с этим, слишком тянешь. – Светлые, чистые глаза взглянули на него с укором. – Сколько месяцев, как ты не был дома? Четыре? Пять?
– Они же устроят мне ужасную сцену, мама будет рыдать и умолять меня вернуться. – Уже полгода, думает он. – А я не вернусь, пора им свыкнуться с этой мыслью.
– Столько времени не видеть мать, отца, брата с сестрой! И живете в одном городе. – Клодомиро недоуменно покачал головой. – Был бы ты моим сыном, я бы уже на следующий день разыскал тебя, надавал по шее и вернул домой.
А отец не разыскал, не надавал, не вернул, думает он. Почему, папа?
– Не хочу лезть с советами, ты уже взрослый малый, но позволь тебе сказать, что нехорошо с твоей стороны. Хочешь жить один – живи, хоть это и сумасбродство чистой воды. Но не видеться с родителями – это извини меня. Соила совершенно не в себе. И Фермин, когда приезжает спросить, как ты, что ты, где ты, тоже на себя не похож, пришибленный какой-то.
– Он может меня разыскать – пожалуйста, – сказал Сантьяго. – Может хоть сто раз возвращать меня домой силой, и я сто раз буду уходить.
– Он тебя не понимает, и я тоже, – сказал Клодомиро. – Ты недоволен, что он тебя вытащил из каталажки? Ты хотел посидеть с этими полоумными подольше? Не он ли во всем тебе потакал? Ни с Тете, ни с Чиспасом он так не носился. Скажи мне правду. Что случилось? За что ты на него взъелся?
– Мне трудно это тебе объяснить, дядя. Но пока мне лучше дома не бывать. Потом я съезжу, обещаю тебе.
– Да перестань же ты упрямиться, – сказал Клодомиро. – Ни Соила, ни Фермин не против того, что ты служишь в «Кронике». Они беспокоятся только, как бы ты не бросил университет. Они не хотят, чтобы ты пошел по моим стопам, сделался конторской крысой.
Он улыбнулся без малейшей горечи и вновь наполнил рюмки. Сейчас подадут чупе, издали долетел надтреснутый голос Иносенсии: бедная старушка почти ничего не видит.
Да что ж это за нахальство такое, совсем совесть потерял, – говорила Хертрудис Лама, – искать с тобой встречи после всего, что он натворил, вот ужас-то! Вот ужас-то, повторяла Амалия, но, понимаешь ли, он всегда был такой. Да какой такой? – спрашивала Хертрудис. А Амалия: он все время, под любым предлогом попадался ей на глаза – то в буфетной, то в комнатах, то в патио. Поначалу он и рта не раскрывал, а только посматривал на нее красноречивей всяких слов, а она боялась, что взгляды эти заметит сеньора Соила или кто из детей, и ей влетит. Много времени прошло, пока он не начал говорить. Что говорить? Говорить, что вот, мол, какая красоточка у нас завелась, и какое у нее личико – прямо весной пахнуло, а она все время была в страхе, ведь это было ее первое место, первая служба. Но мало-помалу успокоилась, поняв, что он хоть и нахал, но на рожон лезть опасается, даже, можно сказать, трусит: хозяев он, Хертрудис, больше боялся, чем я. Да что там господ: стоило появиться кому из прислуги – кухарке или второй горничной, он тут же исчезал. Но наедине с нею он стал уж давать волю рукам, а уж разговоры его делались вовсе бесстыжее. А ты что? – смеялась Хертрудис. А Амалия хлопала его по рукам, а однажды огрела по-настоящему. Ты ведь знаешь, Хертрудис, что мужики несут в таких случаях: ты меня приворожила, ты меня присушила, и все норовил сорвать поцелуйчик. Он так устроился, что выходные у них совпадали, узнал, где она живет, и однажды Амалия увидела, как он прохаживается у дома ее тетки в Суркильо, а ты небось смотрела на него в окошко и радовалась, засмеялась Хертрудис. Нет, я рассердилась. И кухарке, и другой горничной он нравился – какой высоченный, какой здоровенный, и как ему идет синяя тужурка, прямо мурашки бегут. А ей – хоть бы что, такой же, как все, ничего особенного. Чем же тогда он тебя взял? – спросила Хертрудис. Да наверно подарочками, которые оставлял у нее рядом с кроватью. Когда он в первый раз сунул ей какой-то пакетик в карман передника, она его вернула, даже не развернув, а потом – вот дура-то, правда Хертрудис? – стала брать и по ночам думала: а что сегодня он мне подарит? Черт его знает, когда он успевал пробраться к ней в комнату и оставить под подушкой то брошку, то браслетик, то носовые платочки. Так ты уж тогда была с ним? – спросила Хертрудис. – Нет, еще нет. А вот однажды когда тетки дома не было, а он появился под окнами, она – нет, ну ты подумай, какая дура! – спустилась к нему. Разговаривали посреди улицы, что-то ели у лотка, а на следующей неделе, в выходной, пошли в кино. Да? – сказала Хертрудис. Да. Тогда начались уже и поцелуи и прочее. С того дня он возомнил невесть что, решил, что права на нее получил, и однажды, когда они были вдвоем, он к ней полез по-серьезному, пришлось бегством спасаться. Он спал над гаражом, комната у него была больше, чем у горничных, там был и умывальник свой, и все, и вот как-то ночью, – что? что? – спросила Хертрудис, – когда господа ушли, а барышня Тете и ниньо Сантьяго уже спали, а у ниньо Чиспаса увольнение кончилось – ну? ну? – она, дурища безмозглая, заглянула к нему. И конечно, он уж ее не выпустил, такой оказии не пропустил. Тогда, значит, это случилось? – засмеялась Хертрудис. Знаешь, Хертрудис, как страшно ей было, как больно, как она плакала. Вот с той ночи стала она в нем разочаровываться, а Хертрудис – ха-ха-ха – ну, что ты ржешь, вовсе не потому, почему ты думаешь, у тебя одно на уме, что ты за бесстыдница такая, и меня в краску вогнала. Так чем же он тебя разочаровал? – сказала Хертрудис. В комнате было темно, они лежали, а он ее утешал, говорил все, что в таких случаях говорят, – я и не думал, что ты еще нетронутая, – целовал, и тут они услышали у самой двери голоса: хозяева вернулись. Вот, Хертрудис, тогда, Хертрудис, я и поняла, какое он ничтожество. Как же ты поняла? Как, как, очень просто: ладони у него сразу взмокли – спрячься, спрячься, – стал ее толкать под кровать, – замри, не шевелись, – а сам чуть не плакал со страху, ты подумай, Хертрудис, такой здоровила, – а потом зажал ей рот, словно она собиралась кричать или еще что. А отпустил ее, только когда хозяева прошли через сад к дому, и еще наврал: я боялся, как бы тебя не накрыли, как бы тебя не стали ругать, как бы тебя не рассчитали. И еще – что надо быть очень осторожными, сеньора Соила очень строга, спуску не даст. И до того странно ей было на следующий день, и смешно было, и хорошо, и стыдно, когда она потихоньку от всех отстирывала простыню, сама не знаю, зачем я тебе все это рассказываю, Хертрудис. А Хертрудис ей: потому что ты, птичка, уже позабыла Тринидада, потому что ты опять сохнешь по этому гаду Амбросио. Вот почему, Амалия.
– Сегодня утром у меня была встреча с американцами, – сказал наконец дон Фермин. – Куда до них Фоме Неверующему! Я дал им все гарантии, но они непременно желают увидеться с вами, дон Кайо.
– Их нетерпение легко понять, – благодушно сказал он. – Речь идет о нескольких миллионах.
– Я, должно быть, никогда не пойму их, они какие-то не взрослые, вам не кажется? – все тем же недовольным тоном продолжал дон Фермин. – Полудикари. Кладут ноги на стол, снимают пиджак, не спросив разрешения. А ведь это не проходимцы, а вроде бы порядочные люди. Порою мне хочется послать им книгу Карреньо «Правила хорошего тона».
Он глядел в окно на трамваи, бежавшие по Кольмене, слушал, как журчит неиссякаемый поток анекдотов за соседним столом, и вдруг сказал:
– Вопрос урегулирован. Я ужинал с министром продовольствия. Решение будет опубликовано в «Правительственном вестнике» в понедельник или во вторник. Можете передать вашим друзьям, чтобы спали спокойно.
– Это не друзья, а партнеры, – с улыбкой возразил дон Фермин. – Вы бы, к примеру, смогли дружить с гринго? У нас мало общего с этими мужланами.
Он, ничего не отвечая, ждал, когда дон Фермин протянет руку к тарелке с орешками, потом поднесет к губам стакан, сделает глоток, вытрет рот салфеткой, взглянет ему в глаза и скажет:
– Вы и вправду не хотите купить эти акции? – и тотчас отведя взгляд, словно внезапно заинтересовавшись пустым стулом, стоявшим перед ним. – Они настоятельно просили вас уговорить, дон Кайо. Признаться, я и сам не понимаю, почему вы отказываетесь.
– Потому что в коммерции я – полный профан, – сказал он. – Я ведь вам рассказывал, что за двадцать лет не сумел заключить ни одной выгодной сделки.
– Это акции на предъявителя, на свете нет ничего более надежного и тайного. – Дон Фермин послал ему дружескую улыбку. – Не хотите держать – продайте: очень скоро они будут стоить два номинала. Поймите, получая их, вы не совершаете ничего неположенного.
– Я давно забыл, чем положенное отличается от неположенного, – ответно улыбнулся он. – Я руководствуюсь критерием «выгодно – невыгодно».
– Акции, которые идут за счет этих неотесанных американцев, – продолжал улыбаться дон Фермин. – Вы оказали им услугу, вполне естественно, что они хотят отблагодарить вас. Эти акции куда дороже ста тысяч наличными, дон Кайо.
– У меня скромные запросы. – Он снова улыбнулся и, закашлявшись, смолк, пережидая приступ. – Этих ста тысяч мне вполне хватит. Акции пусть отдадут министру продовольствия, он настоящий бизнесмен. Я же признаю только то, что можно потрогать и пересчитать. Так учил меня отец, дон Фермин, а он был ростовщиком. Очевидно, у меня это в крови.
– Что ж, на вкус и цвет товарищей нет, – пожал плечами дон Фермин. – Я займусь вкладом, чек будет выписан завтра же.
Они молчали до тех пор, пока не подошел официант – забрать стаканы и подать меню. Консоме и рыбу, – сказал дон Фермин, а он попросил мясо, поджаренное на угольях, и салат. Официант принялся сервировать стол, а он рассеянно слушал, как дон Фермин рассказывает о новом способе похудеть, не ограничивая себя в еде, опубликованном в последнем номере «Селесьонес».
– Они никогда тебя не приглашали в дом, – сказал Сантьяго. – Всегда смотрели на тебя сверху вниз.
– Ну, благодаря твоему побегу мы стали видеться чаще, – сказал Клодомиро. – Теперь они постоянно приезжают, чтобы узнать о тебе. И не только Фермин, но и Соила. Давно пора было преодолеть эту нелепую отчужденность.
– Да какая там отчужденность! – сказал Сантьяго. – Мы видели тебя раз в году.
– Это все бредни Соилиты, – мягко, думает он, ласково, словно речь шла о милых и безобидных чудачествах, сказал Клодомиро. – Она, знаешь, всегда была склонна строить из себя гранд-даму. Да нет, она выдающаяся женщина, сеньора, как говорится, с головы до ног, но всегда была немного предубеждена против нашей семьи: мы же бедные и неродовитые. Вот и Фермин от нее заразился.
– А ты им все прощаешь, – сказал Сантьяго. – Отец всю жизнь помыкает тобой, а ты все покорно сносишь.
– Твоему отцу всякая посредственность внушает ужас, – засмеялся Клодомиро. – Потому он и бегал от меня как от чумы. Он ведь, Сантьяго, с детства был очень честолюбив, всегда мечтал о многом. Он своего добился, и никто не смеет в чем-то его упрекнуть. Тебе скорее следовало бы им гордиться. Фермин достиг всего, что имеет, собственным потом и кровью. Конечно, Соилина родня ему помогала, но потом, а женился он, уже достигнув видного положения. А дядюшка твой всю жизнь гнил в провинциальных филиалах Кредитного банка.
– Ты вечно говоришь о себе как о неудачнике, но ведь в глубине души этому не веришь, – сказал Сантьяго. – И я не верю. Ты не разбогател, но жаловаться тебе не на что.
– Спокойствие – это еще не счастье, – сказал Клодомиро. – Раньше меня обижал ужас, с которым твой отец относился к моей жизни, но теперь я его понимаю. Знаешь, иногда начнешь задумываться, вспоминать, а вспомнить-то и нечего. Контора – дом, дом – контора. Всякая чепуха, изо дня в день одно и то же. Ну ладно, не будем унывать.
В комнату вошла старая Иносенсия: идите обедать. Помнишь, Сантьяго, ее шлепанцы, ее шаль, ее щуплое тельце в непомерно большом фартуке, ее надтреснутый голос? На столе стояло блюдо с дымящимся чупе, но перед прибором дяди – только чашка кофе с молоком и бутерброд.
– Вечером я ничего больше не ем, – сказал Клодомиро. – Ну, давай, давай, пока не остыло.
Время от времени в столовой появлялась Иносенсия, спрашивала: вкусно? Гладила его по щеке, совсем большой стал, ах, как вырос, а когда она выходила, Клодомиро подмигивал ему: бедная старуха, она так ласкова с тобой и со всеми на свете.
– Почему же мой дядюшка так и не женился? – говорит Сантьяго.
– Знаешь, ты мне надоел со своими вопросами, – без всякого упрека сказал Клодомиро. – Я совершил ошибку: думал, что в провинции карьеру сделать легче. А во всех этих захолустных городках подходящей невесты не нашлось.
Чему ты так удивляешься, Амбросио? – думает Сантьяго. Что тут особенного? Бывает это и в лучших домах.