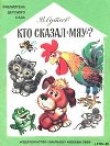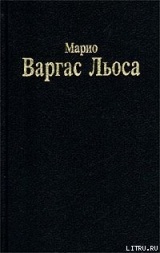
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 39 страниц)
– Вот радость-то для тех, кто в больнице лежит, – сказала как-то Амалия. – Поневоле задумаешься, что на тот свет пора, когда вокруг одни похоронные бюро.
– Там на каждом шагу, ниньо, если не церковь, так погребальный магазин, – говорит Амбросио. – Затошнит, ей-богу, до чего ж набожные люди в этой Пукальпе.
А в нескольких шагах от их домика был и больничный морг. Амалия задрожала, увидев в первый день это угрюмое бетонное строение со скатом на манер петушиного гребня. Домик был довольно просторный и даже с участком земли, сплошь заросшим бурьяном. Можете тут развести чего-нибудь, сказал им хозяин, Аландро Песо, огородик разбить. Пол во всех четырех комнатах был земляной, а стены голые и некрашеные. Однако даже тюфяка не нашлось: где ж они спать будут? А главное – Амалита-Ортенсия, ее же укусит какая-нибудь тварь. Но Амбросио сказал: купим все, что нужно. И в тот же день пошли они в центр и купили топчан, матрас, колыбельку, ложки-плошки, примус, занавески, и Амалия, увидав, что Амбросио все никак не уймется, испугалась, что денег не хватит, – хватит, хватит. Но он, не отвечая, продолжал показывать очарованному приказчику: вон то, и то, и то, и еще это, и клеенку тоже.
– Откуда же у тебя столько денег? – спросила его ночью Амалия.
– Откладывал все эти годы, – говорит Амбросио. – Хотел своим домом жить, на себя работать.
– Радоваться бы должен, – сказала тогда Амалия. – А ты не рад. Тебе грустно, что из Лимы уехал.
– Теперь у меня хозяина не будет, теперь я сам себе голова, – отвечал Амбросио. – Что ты, глупая, я очень рад.
Нет, это он соврал, доволен он стал только потом. А первое время ходил хмурый и вроде бы чем-то удрученный и почти не разговаривал. Но и с нею, и с Амалитой-Ортенсией был ласков и заботлив. В первый день, когда в гостинице жили, вышел и вернулся со свертком. А в свертке была одежда для них обеих. Амалии платье оказалось велико, она прямо утонула в этом пестром балахоне до самых щиколоток и выглядела, наверно, потешно, но он даже не улыбнулся. Сразу же по приезде отправился он в транспортную компанию, но там ему сказали, что дона Иларио сейчас нет, вернется через десять дней. А что же они, Амбросио, будут делать? Подыщут жилье и, пока не пришла пора впрягаться, развлекутся немного, Амалия. Особенно им развлечься не удалось: Амалию все мучили тяжкие сны, Амбросио скучал по Лиме, – но все же попытались и истратили кучу денег. Пробовали разные индейские яства на улице Комерсио, наняли лодочку и поплавали по Укаяли[64]64
Укаяли – река в Перу, приток Амазонки.
[Закрыть], съездили на экскурсию в Яринакочу, сходили несколько раз в кино. Крутили там старые картины, а Амалита-Ортенсия начинала в темноте плакать, и зрители тогда кричали: выведите их, смотреть не дают. Дай мне ее, говорил Амбросио, давал ей свой палец вместо соски, и она смолкала.
Но мало-помалу Амалия стала привыкать, мало-помалу Амбросио веселел. Приводили в божеский вид свое жилище, работали день и ночь, Амбросио купил краски, побелил стены снаружи и внутри, а Амалия соскребла с полу всякую гадость. По утрам вместе ходили на рынок, покупали кое-какой еды. Научились различать и узнавать улицы – по церквам, мимо которых проходили: баптистская, адвентистов седьмого дня, католическая, евангелическая, Троицы. Научились и разговаривать друг с другом по-новому: до чего же ты переменился, мне иногда кажется, тебя подменили, а настоящий Амбросио в Лиме остался. Да почему же, Амалия? Потому что грустный стал и взгляд такой сосредоточенный, а глаза иногда вдруг гасли и начинали блуждать, как у животного. Да ты с ума сошла, Амалия, скорей уж наоборот: там, в Лиме, остался не настоящий Амбросио, а здесь ему хорошо, он любит, когда солнце, а от лимского низкого неба ему так часто делалось тоскливо. Дай-то Бог, Амбросио. По вечерам они, как и все в Пукальпе, выходили из дому, садились возле дома, вдыхали поднимавшуюся от реки свежесть, разговаривали, а в траве трещали цикады, пускали свои рулады жабы. Однажды утром Амбросио принес ей зонтик: на вот, держи, чтоб не жаловалась, что от жары деваться некуда. Ну, Амалия, теперь ты истая горянка. Кошмары стали реже и не такие жуткие, стали исчезать, а с ними – и страх, который охватывал ее всякий раз при виде полицейского. Средство от страха было одно – не сидеть праздно, а чем-нибудь заняться – стряпать, стирать, ходить за девочкой, пока Амбросио пытался превратить пустырь за домом в огород. С раннего утра, разувшись, проходил он ряд за рядом, выпалывая сорняки, но они тут же вырастали снова и перли еще гуще. Неподалеку от их домика стоял другой, выкрашенный в белый и синий цвет, а в саду росли фруктовые деревья, и как-то утром Амалия пошла к соседям спросить совета, и сеньора Лупе приняла ее радушно. Конечно, конечно, помогу чем смогу. Сеньора Лупе стала первой и самой близкой их подругой, ниньо, ближе ее никого в Пукальпе у них не было. Амбросио она научила засевать землю сразу после прополки: вот здесь маниоку, сюда – бататы, сюда – картошку – и сама подарила им семена, а Амалию – готовить рагу, которое ела вся Пукальпа – жареные бананы с рисом, маниокой и рыбой.
II
– Как это так: женились оттого, что в аварию попали? – смеется Амбросио. – Хотите сказать, вас заставили?
Все началось с одного из тех бестолковых пустых вечеров, которые колдовским образом превращались в пирушки. В «Кронику» позвонил Норвин и сказал, что ждет их в «Патио», и Сантьяго с Карлитосом после работы отправились туда. Норвин желал идти в публичный дом, Карлитос тянул в «Пингвин», подбросили монету, и Карлитос выиграл. Ночной клуб мрачно пустовал. Педрито Агирре присел к ним и угостил пивом. Когда кончилось второе «шоу» и разошлись последние посетители, получилось как-то так, что танцовщицы и оркестранты и вся прислуга из бара сдвинули столы, и внезапно началось веселье. Посыпались шутки, анекдоты, тосты, и жизнь вдруг показалась забавной, привлекательной, искрящейся и сулящей много приятного. Все пили, пели, принимались и сейчас же бросали танцевать, а рядом с Сантьяго сидели Карлитос и Китаянка, прильнув друг к другу, глядя друг другу в глаза, словно только что обрели и осознали свою любовь. До трех утра они пили, болтали без умолку, были великодушны и милы, а в три Сантьяго почувствовал, что влюбился в Аду-Росу. Помнишь ее, Савалита: небольшая, смуглая, с крепеньким, выпуклым задом. Кривые ножки, думает он, золотой зуб, несвежее дыханье, брань через каждое слово.
– Да нет, настоящая авария, – говорит Сантьяго. – Разбился на машине.
Первым исчез Норвин с сорокалетней огненногривой танцовщицей. Китаянка и Карлитос уговорили Аду-Росу ехать к ним. Сели в такси и отправились к Китаянке, в Санта-Беатрис. Сантьяго сидел впереди, словно по рассеянности позабыв руку на колене Ады-Росы, дремавшей на заднем сиденье рядом с Китаянкой и Карлитосом, которые неистово целовались. Приехали, пили холодное пиво, слушали музыку и танцевали. Когда за окном посветлело, Китаянка с Карлитосом заперлись в спальне, а Сантьяго с Адой-Росой остались в гостиной. Целоваться они начали еще в «Пингвине», а теперь продолжали, и Ада-Роса села к нему на колени, но когда он попытался раздеть ее, взбрыкнула, подняла крик, стала крыть его последними словами. Ладно, ладно, обойдемся, Ада-Роса, только без драки. Он снял подушки из кресла, бросил их на ковер, улегся и уснул. А проснувшись, увидел в голубоватом сумраке, что она спит одетая на диване, свернувшись, как младенец в утробе матери. Он доковылял до ванной, несказанно мучаясь от ломоты во всем теле и отдающей желчью мигрени, сунул голову под струю холодной воды. Потом ушел: на улице солнце резануло по глазам так, что выступили слезы. Выпил черного кофе в баре на Пти-Туар, а потом, одолевая автобусную тошноту, доехал до Мирафлореса, а оттуда – до Барранко. Часы на здании муниципалитета показывали полдень. Сеньора Лусия оставила на подушке записку: просили срочно позвонить в «Кронику». Ну уж дудки, за кого это Ариспе его принимает? – и он уже собрался нырнуть под одеяло, как вдруг подумал, что любопытство все равно не даст уснуть, натянул пижаму и спустился к телефону.
– Так вы, значит, недовольны, что женились? – говорит Амбросио.
– Ну и ну, – сказал Ариспе. – Почему такой замогильный голос?
– Повеселились, – сказал Сантьяго. – Теперь просто кончаюсь. Всю ночь не спал.
– В машине поспишь, – сказал Ариспе. – Хватай такси и мчись сюда. Поедешь с Перикито и Дарио в Трухильо.
– В Трухильо? – Неужели, думает он, неужели начались поездки, пусть для начала хоть в Трухильо. – А нельзя ли…
– Нельзя. Ты уже выехал, – сказал Ариспе. – Проверенная информация: очередной выигрыш, Савалита, – полтора миллиона.
– Хорошо. Сейчас приму душ и прискачу, – сказал Сантьяго.
– Репортаж вечером продиктуешь по телефону, – сказал Ариспе. – Давай скорей, обойдешься без душа: всех грехов все равно не смоешь.
– Нет, почему же, доволен, – говорит Сантьяго. – Дело-то все в том, что и это решал не я. Подчинился обстоятельствам – так же и со службой было, и со всем, что бы ни происходило в моей жизни. Не я поступал – со мной поступали.
Он торопливо оделся, снова облил голову холодной водой, сбежал по лестнице. Таксисту пришлось будить его, когда подъехали к редакции. Утро было солнечное, зной мягко проникал в тело через все поры, расслабляя тело и душу. Ариспе оставил инструкции и деньги на еду, бензин и гостиницу. Несмотря на то что не выспался и не проспался, ты, Савалита, был рад предстоящей поездке.
Перикито сел вперед, Сантьяго растянулся на заднем сиденье и в ту же минуту уснул. Проснулся уже в Пасамайо. Справа – дюны и крутые желтые холмы, слева – сверкающее синее море и пропасть, прямо – шоссе, тяжело карабкавшееся по голому склону горы. Он приподнялся, сел, закурил; Перикито с тревогой поглядывал в бездну.
– А-а, штаны-то уж небось мокрые? – засмеялся Дарио.
– Сбрось скорость, – сказал Перикито. – И не болтай, смотри на дорогу.
Дарио вел машину быстро и уверенно. В Пасамайо машины почти не попадались, в Чанкае остановились перекусить у ресторанчика на обочине шоссе. Потом снова тронулись, и Сантьяго, пытавшийся, несмотря на тряску, снова заснуть, слышал разговор своих спутников.
– Я так думаю, это брехня, там, в Трухильо, – сказал Перикито. – Есть такие гады: живут тем, что поставляют в газеты ложные сведения.
– За один соль отгрести полтора миллиона! – сказал Дарио. – Я теперь, пожалуй, тоже буду играть в «Птичку».
– Ну-ка, посчитай, сколько ж это, если на баб перевести, – сказал Перикито.
– Как пьяный, – сказал Сантьяго. – Голова болит.
– Повезло тебе, – сказал Перикито. – Еще бы один такой кувырок, и тебя бы сплющило в лепешку.
– Вот, Амбросио, это было одно из немногих крупных происшествий в моей жизни, – говорит Сантьяго. – Так я и познакомился со своей теперешней женой.
Ему было холодно, ничего не болело, но мысли путались. Он слышал разговоры и шорохи, рокот мотора, шум других машин, а когда открыл глаза, его клали на носилки. Увидел улицу, темнеющее небо, прочел надпись «Аптека» на дверях дома, в который его вносили. Его подняли на второй этаж, Перикито и Дарио помогали раздевать его. Когда его укрыли простыней и одеялом до подбородка, он подумал: буду спать часов сто. Сквозь сон он отвечал на вопросы человека в очках и белом фартуке.
– Скажи Ариспе, чтоб ничего не печатал о нашей аварии, – и сам удивился своему голосу. – Не хочу, чтоб отец узнал.
– Романтическая встреча, – говорит Амбросио. – Она, значит, вас выхаживала и вы ее полюбили?
– Она потихоньку таскала мне сигареты, – говорит Сантьяго.
– Ну, Кетита, пришел твой звездный час, – сказала Мальвина.
– Он прислал за тобой машину, – захлопал ресницами Робертито. – Королевские почести, Кетита.
– Счастливый билет вытянула, – сказала Мальвина.
– И я тоже, и мы все, – сказала с хитрой улыбочкой Ивонна, провожая ее. – Помни, Кетита, по высшему разряду.
А до этого, когда Кета снаряжалась, Ивонна пришла помочь ей причесаться и лично присмотреть за тем, как она одета, и даже дала ожерелье, подходившее к ее браслету. Счастливый билет? – думала Кета и удивлялась, что не рада и не взволнована и ей даже не любопытно. Вышла и в дверях словно споткнулась: давешние дерзкие и робкие глаза взглянули на нее. Но самбо глядел лишь мгновение, сейчас же потупился, пробормотал «добрый вечер» и торопливо открыл перед нею дверцу автомобиля – длинного, черного, мрачного, как катафалк. Она села, не ответив, и увидела впереди, рядом с водителем, еще одного – тоже рослого и здоровенного и в таком же синем костюме.
– Вам не дует, может, закрыть окошко? – пробормотал, садясь за руль, самбо, и снова на мгновенье она увидела белок скошенного на нее огромного глаза.
Автомобиль помчался к площади Второго Мая, свернув через Альфонса Угарте на площадь Болоньези, потом по проспекту Бразилии, и Кета, оказываясь через равные промежутки в пятне света от уличных фонарей, каждый раз встречала в зеркальце заднего вида алчных зверьков, ищущих ее взгляда. Второй закурил, спросив, не будет ли сеньорите мешать дым, и больше не оборачивался и не смотрел на нее. Неподалеку от Малекона въехали на Магдалена-Нуэва, потом вдоль трамвайных путей – к Сан-Мигелю, и, вскидывая глаза, Кета видела их в зеркальце: они жгли огнем и тотчас убегали в сторону.
– Чего уставился? – сказала она, подумав: еще врежется, не дай бог. – На мне цветы не растут.
Головы на передних сиденьях сблизились и откачнулись на место, и раздался нестерпимо смущенный голос: я?., простите, сеньорита?., это вы мне?.. До чего ж ты боишься этого самого Кайо, подумала Кета. Автомобиль кружил по узким темным улочкам Сан-Мигеля и наконец затормозил. Она увидела сад, двухэтажный домик, задернутые шторы на освещенном окне. Самбо вылез, распахнул перед нею дверцу. Он стоял, крепко держа ручку в пепельном кулачище, понурый, испуганный, пытающийся что-то сказать. Здесь? – пробормотала Кета. В тусклом свете виднелись ряды одинаковых особняков за ровными линиями темных невысоких деревьев.
Двое полицейских на углу смотрели на автомобиль, и тот, второй, просунув руку в окошко, махнул им, как бы говоря: свои. Неужели он тут живет, подумала Кета, не может быть, слишком скромно, наверняка еще какая-нибудь мерзкая затея.
– Я не хотел вас обидеть, – криворото, униженно выговорил самбо. – Я на вас не смотрел. Но если вам показалось, то извините, пожалуйста.
– Да не бойся, – засмеялась Кета, – я ничего не скажу твоему Кайо. Просто не люблю нахалов.
Она пересекла сад, где сильно пахли влажные цветы, и, нажимая кнопку звонка, услышала за дверью голоса и музыку. Дверь открылась, и она зажмурилась от ударившего в лицо света. Узнала узкоплечую щуплую фигуру вчерашнего клиента, изглоданное лицо, брюзгливую складку губ и безжизненные глаза: здравствуй, здравствуй, проходи. Спасибо, что… – начала она и осеклась: перед баром, полным бутылок, стояла еще одна женщина, и смотрела на нее с любопытством, и улыбалась. Кета замерла, руки ее повисли – растерялась.
– Это и есть знаменитая Кета. – Кайо-Дерьмо закрыл дверь, сел и теперь вместе с этой женщиной разглядывал ее. – Проходи, знаменитая Кета. Хозяйку дома зовут Ортенсия.
– А я думала, они все старые, страшные и грязные, – раскатился жиденький смешок, и ошеломленная Кета успела подумать: да она же пьяна в дым. – Значит, ты мне все наврал, Кайо.
Она снова засмеялась – вульгарно и с преувеличенной веселостью, а он со своей блуждающей полуулыбкой указал на кресло: садись, в ногах правды нет. Кета прошла, как по льду или скользкому навощенному паркету, боясь потерять равновесие, упасть и оказаться в еще большем замешательстве, села на краешек, напряженно выпрямившись. Снова услышала музыку – включили проигрыватель или она просто забыла о ней? – танго Гарделя[65]65
Гардель Карлос (1890-1935) – аргентинский певец и композитор, прозванный «королем танго».
[Закрыть], и проигрыватель был встроен в стенку красного дерева. Она видела, как женщина поднялась, прошла, пошатываясь, к бару, как ее неловкие руки стали колдовать над бутылками и стаканами. Заметила ее облегающее платье из опалового шелка, и какая у нее белая кожа и плечах и на руках, а волосы – точно угольные, заметила, как блестят кольца, и, все еще не придя в себя, подумала: до чего ж похожа на ту. Женщина, неся два стакана, подошла к ней, колеблясь на ходу всем словно бы лишенным костей телом, и Кета отвела глаза.
– Кайо мне говорил: очень хорошенькая, а я ему не поверила. – Она стояла над нею, покачиваясь, глядя сверху вниз прозрачно-водянистыми смеющимися глазами самовлюбленной кошечки, а когда наклонилась, протягивая стакан, обдала Кету пьяным, резким, каким-то воинственным запахом своих духов. – Оказывается, правда: знаменитая Кета – просто красоточка.
– За твое здоровье, знаменитая Кета, – не предложил, а приказал Кайо-Дерьмо без тени приязни. – Глядишь, и настроение тебе поднимем.
Кета машинально поднесла стакан к губам, зажмурилась и выпила, горячая волна ввинтилась в самое нутро, глаза защипало, и она подумала: чистый виски. Но отпила еще глоток и взяла сигарету из протянутой Кайо пачки. Он дал ей прикурить, и тут Кета обнаружила, что женщина уселась рядом и, улыбаясь, бесцеремонно ее разглядывает. Сделав над собой усилие, она улыбнулась в ответ.
– Вы так похожи на… – отважилась произнести она, и тотчас ее обожгла неестественность интонации, охватило вязкое ощущение того, что она смешна. – На одну артистку.
– На какую артистку? – оживилась женщина, заулыбалась еще шире, косясь на Кайо, потом взглянула на Кету. – На?..
– Да, – сказала Кета, отпила еще немного и глубоко вздохнула. – На Музу, которая поет в «Амбесси». Я ее слышала несколько раз и… – Она осеклась, потому что женщина захохотала. Стеклянно, завороженно поблескивали ее глаза.
– На редкость бездарная певица эта Муза, – снова приказал Кайо. – А?
– Нет, почему же? – сказала Кета. – Она хорошо поет, особенно болеро.
– Слышал? Ха-ха-ха! – Женщина прыснула, скорчила гримаску. – Теперь ты понял наконец, что я зарываю свой талант в землю? Пожертвовала ради тебя сценической карьерой?
Не может быть, подумала Кета, и снова поняла, что попала в дурацкое положение. Щеки ее вспыхнули, захотелось убежать отсюда или что-нибудь разбить вдребезги. Одним глотком она прикончила стакан и почувствовала, что глотку будто опалило огнем, а в животе стало нестерпимо горячо, как от кипятка. Но сейчас же радушное тепло разлилось по всему телу – отпустило что-то, отмякло, и напряжение, державшее Кету, ослабело.
– Я знала, что это вы, я вас узнала, – сказал она, пытаясь улыбнуться. – Просто…
– Просто стакан у тебя пустой, – дружелюбно сказала женщина. Поднялась зыбко-плавным, волнообразным движением и посмотрела на Кету восторженно, ликующе, благодарно. – Я тебя обожаю. Давай налью. Кайо, ты слышал, слышал?
Покуда она скользила к бару, Кета повернулась к Кайо. Он сидел серьезный и, казалось, погружен в раздумье, поглощен важными, тайными думами, витает где-то далеко-далеко отсюда, и она подумала: что за бред, и подумала: ненавижу тебя. Когда женщина подала ей стакан, она наклонилась и тихо спросила: где тут у вас?.. Да-да, конечно, пойдем, покажу. Кайо не смотрел на них. Кета поднималась по лестнице следом за женщиной, а та крепко держалась за перила и осторожно нашаривала ногой ступени, и Кете пришло в голову: она меня оскорбит, теперь, когда мы остались вдвоем, выкинет меня вон. Сейчас предложит денег, чтоб я ушла, подумала она. Муза отворила какую-то дверь, уже без смеха указала внутрь, и Кета торопливо пробормотала «спасибо». Но за дверью оказалось не ванная, а спальня, да такая, что только во сне или в кино увидишь: зеркала, ворсистый ковер, опять зеркала, ширма, черное покрывало с вытканным на нем желтым огнедышащим зверем, еще зеркала.
– Там, в глубине, – услышала Кета за спиной нетвердый и нетрезвый, но нисколько не враждебный голос. – Вот в ту дверь.
Кета вошла в туалетную, заперлась и перевела дыхание. Что все это значит, что за игры они затеяли? Посмотрелась в зеркало: с ее сильно накрашенного лица еще не сошли растерянность, страх, волнение. Она пустила воду, села на бортник ванны. Так это Муза его… они позвали ее для… и Муза знает, что?.. Кета спохватилась, что за нею могут подсматривать в замочную скважину, подошла к двери, сама заглянула в это отверстьице: кусочек ковра, какие-то тени. Кайо-Дерьмо, не надо было приезжать, надо бежать. Муза-Дерьмо. Кета испытывала ярость, смущение, унижение – и еще ей было смешно. Она еще пробыла минутку в ванной, переступая на цыпочках по белому кафелю в голубоватом фосфоресцирующем свечении, исходившем от ванны, пытаясь как-то собрать разбегавшиеся мысли, но только больше запуталась. Дернула за цепочку слива, поправила перед зеркалом волосы и, набрав побольше воздуху, отворила дверь. Женщина ничком лежала на кровати, и Кета, увидев ее тело, казавшееся особенно белым на иссиня-черном блестящем покрывале, на секунду обо всем забыла, засмотрелась. Но женщина уже вскинула на нее глаза. Медленно, изучающе осмотрела, обволокла неспешным взглядом с ног до головы – без улыбки, без гнева. Взгляд ртутно поблескивающих пьяных глаз был заинтересованным и в то же время – отстраненно-бесстрастным, оценивающим.
– Можно все-таки узнать, зачем меня позвали? – Кета, собравшись с духом, решительно шагнула вперед.
– Ну-ну-ну, только не хватало, чтоб и ты рассердилась. – С лица Музы вмиг сбежала серьезность, посверкивающие глаза заискрились смехом.
– Я не сержусь, я не понимаю. – Кете казалось, что зеркала, напирая со всех сторон, перебрасывают ее друг другу, подкидывают к потолку и швыряют наземь. – Скажите, зачем меня привезли сюда.
– Ну хватит дурака валять, называй меня на «ты», – прошептала женщина и, как червяк, одним гибким движением собрав и тотчас распустив все тело, подвинулась на кровати, и Кета увидела просвечивающие сквозь чулки накрашенные ногти. – Ты же знаешь, как меня зовут. Ортенсия. Иди сюда. Сядь. Не ломайся.
Ни злости, ни прежнего дружелюбия не было в ее голосе, которому опьянение придавало особое спокойствие и какой-то уклончивый тон. Теперь она не скользила взглядом, а смотрела пристально. Приценивается, что ли, подумала Кета. Секунду поколебавшись, она присела на край кровати, каждой клеткой тела ощущая тревогу. Ортенсия, подперев голову рукой, лежала небрежно и расслабленно.
– Отлично понимаешь, зачем, – сказала она без злости, без горечи, и в том, как неторопливо падали ее слова, таился отзвук какой-то непристойной шутливости, и в глазах ее появился новый блеск, как ни старалась она его спрятать, и Кета подумала: чего она? А глаза были большие, зеленые, с длинными, вроде бы не накладными ресницами, отбрасывавшими тень на веки, а губы – влажные и сочные, а шея – гладкая и напряженная, с проступившими под кожей тонкими голубыми жилками. Кета не знала, что думать, что говорить: что? Ортенсия откинулась назад, засмеялась, словно наперекор самой себе, закрыла лицо ладонями, потом хищно распрямилась и вдруг ухватила Кету за кисть руки: отлично знаешь, зачем. Как клиент, подумала удивленная, замершая Кета, точно как клиент, глядя на белые пальцы с кровавым маникюром, шмыгающие по ее смуглой коже, и Ортенсия теперь вглядывалась в нее уже откровенно, уже с дерзким вызовом.
– Я лучше пойду, – с запинкой, тихо, потерянно сказала Кета. – Вы же хотите, чтоб я ушла?
– Знаешь, – женщина по-прежнему крепко держала ее за руку, придвинулась, голос стал низким и чуть хрипловатым, и Кета чувствовала теперь тепло ее дыхания, – знаешь, я так боялась, что ты окажешься старой, страшной, грязной.
– Вы хотите, чтоб я ушла, – глупо повторила Кета, трудно дыша. – Вы меня позвали, чтоб?..
– Но нет. – Она придвинулась еще ближе, и Кета увидела плещущую в глазах радость и двигающиеся губы, которые словно становились от каждого слова еще влажней. – Ты молоденькая и красивая. И чистенькая. – Она ухватила Кету и за другое запястье. Она смотрела на нее бесстыдно и весело-насмешливо, потом изогнулась, приподнялась, прошептав – ты меня всему научишь, – и повалилась на спину, снизу вверх глядя на нее широко раскрытыми, ликующими глазами, улыбаясь и повторяя как в бреду – называй меня на «ты», говори мне «ты», какое же «вы», если будешь спать со мной, правда ведь? – и, не выпуская рук Кеты, мягко, но настойчиво тянула, притягивала ее к себе, заставляя склониться и лечь сверху. Научу? – подумала Кета, – мне тебя учить? – уступая, поддаваясь, чувствуя, что растерянность ее исчезает, смеясь.
– Ага, – произнес за спиной голос, словно пробивающийся из-под коры брюзгливого безразличия. – Я вижу, вы уже подружились.
Он проснулся с чувством волчьего голода: голова не болела, но спину все еще кололо в нескольких местах и как бы сводило судорогой. Палата была маленькая, холодная, пустая: окно выходило в сводчатую галерею, по которой прохаживались монахини и сестры. Принесенный завтрак он проглотил с жадностью.
– Больше нельзя, – сказала сиделка. – Если хотите, могу принести еще одну булочку.
– Булочку и чашку кофе с молоком, – сказал Сантьяго. – У меня со вчерашнего полдня крошки во рту не было.
Сиделка принесла не бутылку, а еще один полный завтрак и осталась в палате, глядя, как он ест. Помнишь, Савалита: такая смуглая, такая тонкая, в безупречно белом одеянии без единой морщинки, в белых чулках и в белой наколке на коротко, «под мальчика», остриженных волосах, она стояла на стройных ногах у кровати, изящная как манекен, и улыбалась, показывая хищные зубки.
– Так вы, значит, журналист? – Глаза у нее были живые, дерзкие, и говорила она бойко, полушутливо, словно не очень задумываясь над смыслом слов. – Как же это вас угораздило?
– Ана, – говорит Сантьяго. – Да, очень молоденькая. На пять лет моложе меня.
– Вы ничего себе не сломали, но от такой встряски человек, бывает, дурачком становится, потому вас и положили на обследование, – засмеялась сиделка.
– Что ж вы меня огорчаете? – сказал Сантьяго. – Вы должны укреплять дух пациента, а вы вон что.
– А почему вы сказали, что в папаши не тянет? – говорит Амбросио. – Если б все так рассуждали, у нас в Перу люди бы перевелись.
– И, значит, в «Кронике» работаете? – повторила она, стоя у двери и держась за нее рукой, словно собираясь шагнуть за порог, но собиралась она уже минут пять. – Наверно, это очень интересно – быть журналистом, а?
– Хотя я вам, ниньо, так скажу, – говорит Амбросио. – Когда узнал, что мне придется стать отцом, тоже сначала запаниковал. К этому не сразу привыкаешь.
– Занятно, но есть свои неудобства, – сказал Сантьяго. – В любой момент можно сломать себе шею. У меня к вам просьба. Вы не могли бы кого-нибудь послать за сигаретами?
– Больным курить нельзя, это запрещается, – сказала она. – Пока вы здесь, придется воздержаться. И хорошо: хоть немножко продышитесь.
– Я умираю без курева, – сказал Сантьяго. – Ну, пожалуйста. Ну, вы же добрая.
– А жена ваша как полагает? – говорит Амбросио. – Я уверен, она бы хотела ребеночка. Нет такой женщины, которая не хотела бы мамой стать.
– А что мне за это будет? – сказала она. – Фотографию мою напечатаете в газете?
– Наверно, ты прав, – говорит Сантьяго. – Но она добрая и не хочет меня огорчать.
– Доктор узнает – убьет, – сказала сиделка с видом заговорщицы. – Только чтоб никто не видел, а окурок бросьте в горшок.
– Вот кошмар-то, это же «Кантри», – кашляя, сказал Сантьяго. – И вы курите эту пакость?
– Ну и привереда, – сказала она, смеясь. – Я вообще не курю. Это я украла, потакая вашим дурным привычкам.
– В следующий раз украдите «Насьональ Пресиденте», и, клянусь, ваша фотография появится в светской хронике, – сказал Сантьяго.
– Я ее стащила у доктора Франко, – с гримаской сказала она. – Скажите спасибо, что не попали к нему в руки. Он у нас самый противный и безжалостный. Он бы вам обязательно клистир закатил.
– Чем вам не угодил бедный доктор Франко? – сказал Сантьяго. – Вы что, влюблены в него?
– Скажете тоже, из него песок сыплется. – На щеках у нее появились ямочки, она раскатилась быстрым, пронзительным, дробным смешком. – Ему лет сто.
Все утро его возили из кабинета в кабинет, делали снимки, брали анализы: мрачный врач, принимавший его накануне, подверг его почти полицейскому допросу. Кажется, все кости целы, но мне, молодой человек, не нравятся эти боли в спинной области, подождем снимков. В полдень пришел Ариспе: я стоял насмерть, Сантьяго, никаких сообщений об аварии не появилось, представляю, как бы ты меня покрыл в противном случае, главный редактор велел ему кланяться, пусть остается в клинике столько времени, сколько нужно, газета может себе позволить такую роскошь, и жалованье ему будет идти, так что можно заказывать банкет в «Боливаре», так что, Савалита, в самом деле ничего твоим не сообщать? Нет, не надо, отец перепугается до смерти, к тому же – ничего серьезного. Днем заглянули Перикито и Дарио: оба отделались синяками и были очень довольны. Им дали два дня отгулов, и сегодня вечером они собирались на какую-то пьянку. Потом пришли Солорсано, Мильтон, Норвин, а уже под вечер явились Китаянка и Карлитос – оба были похожи на людей, которых долго мотало по волнам после кораблекрушения, оба – трупного вида и обсосанные, как леденцы.
– Ну и ну, – сказал Сантьяго. – Вы что, так с той ночи и не останавливались?
– Мы и сейчас не останавливаемся. – Театрально зевнув, Китаянка осела на пол возле кровати, сбросила туфли. – Я даже не знаю, какое сегодня число и который час.
– Двое суток нога моя не ступала в «Кронику», – сказал Карлитос – пожелтевший, красноносый, с остекленело-счастливыми глазами. – Я позвонил Ариспе сказать, что у меня приступ язвы, а он мне сообщил, что вы перевернулись. Мы специально пришли попозже, чтобы не встретиться ни с кем из редакции.
– Привет тебе от Ады-Росы, – захохотала Китаянка. – Она еще не приходила тебя проведать?
– Про Аду-Росу – ни слова, – сказал Сантьяго. – В ту ночь она превратилась в сущую пантеру.
Но Китаянка перебила его своим гремящим, как водопад, смехом: да-да, они в курсе, она наутро сама им все рассказала. Надо ж знать, с кем дело имеешь: с нею – всегда так, доведет до крайности, а в последнюю минуту – задний ход, она же сумасшедшая, ей нравится дразнить вашего брата. Китаянка судорожно сгибалась от хохота, всплескивала руками, как тюлень – ластами. Губы у нее были накрашены сердечком, замысловатая высокая прическа придавала лицу настырно-надменное выражение, и вся она в тот вечер была сплошным преувеличением: слишком размашисты движения, слишком обтянуты бедра и груди, слишком подчеркнуты все пороки и недостатки. Подумать только, а Карлитосу все это нравилось и причиняло мучения, думает он, от этого зависело его душевное спокойствие, его тоска.