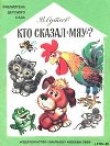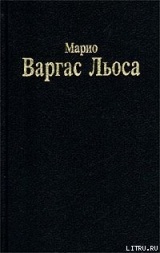
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
– А когда вернулся в Лиму, обнаружилось, что теперь уже я никому не подхожу, – засмеялся Клодомиро. – После того как меня коленом под зад попросили из банка, пришлось начинать в министерстве с самого низу, жалованье было грошовое. Вот я и остался холостым. Однако не думай, что у меня не было романов. Были, да еще сколько.
– Подожди, подожди, мой мальчик, – закричала откуда-то из-за двери Иносенсия. – Еще сладкое.
– Почти не видит, почти не слышит, а трудится целый божий день, – прошептал Клодомиро. – Я несколько раз пытался нанять прислугу, чтобы старуха не надрывалась. Куда там! Такой крик поднимает, твердит, что я хочу от нее избавиться. Упряма как ослица. Прямым ходом пойдет в царствие небесное.
Да ты с ума сошла, сказала Амалия, я его не простила и не прощу, я его ненавижу. Часто, что ли, ссорились? – сказала Хертрудис. Редко, и каждый раз из-за его трусости. Виделись они по выходным, в кино ходили или так гуляли, а по ночам она босиком пробегала через сад, проводила с Амбросио когда час, когда два. Все хорошо шло, никто ни о чем даже не догадывался. А Хертрудис: «А когда ты смекнула, что у него – другая?» Утром как-то она смотрела, как он моет машину и разговаривает с ниньо Чиспасом. Амалия смотрела на него краем глаза, а сама тем временем закладывала белье в стиральную машину, и вдруг заметила, что он смутился и сказал ниньо Чиспасу: мне? С чего вы это взяли, ниньо? Ему она вовсе даже не нравится, приплатили бы – и то не стал с такой водиться. И при этом показывал на меня – представляешь, Хертрудис? – потому что знал, я все слышу. Амалия представила, как она бросает белье, подлетает к нему и вцепляется в рожу. А ночью пошла к нему, только чтобы сказать, что она его ненавидит и что, мол, он себе навоображал, и думала: Амбросио будет просить прощения. Ничего подобного, Хертрудис, ничего подобного, все наоборот: уходи отсюда, сказал он, проваливай. И она осталась стоять в темноте как потерянная, совсем опешила, Хертрудис. За что ж ты меня так? что я тебе плохого сделала? – и он наконец встал с кровати, захлопнул и запер дверь, и был он в самой настоящей ярости. Просто, Хертрудис, кипел от злобы. Амалия расплакалась: думаешь, я не слышала, что ты обо мне говорил? – а теперь еще и на порог не пускаешь. А он: Чиспас заподозрил, что у нас с тобой шуры-муры, – и схватил ее за плечи и стал трясти: чтоб не смела больше сюда являться! чтобы ноги твоей здесь никогда больше не было! – и с таким, Хертрудис, отчаяньем, – слышишь? вон отсюда, убирайся! Он был в ярости, он вроде бы как помешался от страха и все тряс ее, так что она затылком билась о стену. Это ты не из-за хозяев, попыталась сказать она, это все отговорки, ты другую себе нашел, но он подтащил ее к двери, выкинул вон и дверь захлопнул: чтоб я тебя никогда больше не видел, поняла? И ты ему это простила? и ты его еще любишь? А Амалия: да ты что? я его ненавижу. – А кто ж эта другая? – Этого Амалия не знала и никогда ее не видала. Униженная, обруганная, сама не своя от стыда, прибежала она к себе и зарыдала в голос, так что даже кухарка проснулась и пришла, и пришлось врать, что у нее месячные; я всегда в эти дни на стену от болей лезу. – И с тех пор ни разу? – Ни разу. Он, конечно, потом подъезжал к ней – я все тебе объясню, давай как раньше, только в доме встречаться больше не будем. Трус, брехло, лицемер поганый, будь ты проклят, крикнула ему Амалия, и его как ветром сдуло. Хорошо хоть, ребеночка от него, гада, не заполучила, сказала Хертрудис. А Амалия: я и разговаривать с ним перестала, если встречались на улице, он скажет «здравствуй», а она отвернет голову и мимо пройдет, он – «привет, Амалия», а она – ноль внимания. А может, это и не отговорки были, сказала Хертрудис, может, он и впрямь боялся, что вас накроют да обоих и уволят, может, у него другой бабы и не было? Ты думаешь? – сказала Амалия. Ведь вот же, сколько лет минуло, а он встретил тебя и помог на место поступить, сказала Хертрудис, а иначе зачем бы он стал тебя разыскивать, приглашать туда-сюда? Может, он все-таки тебя любил, а пока ты была с Тринидадом, переживал, думал про тебя, может, его совесть замучила за то, что так с тобою обошелся? Ты думаешь, сказала Амалия, ты думаешь?
– Вы теряете на этом большие деньги, – сказал дон Фермин. – Нелепо довольствоваться ничтожными суммами, нелепо, что ваш капитал лежит в банке под спудом, без движения.
– Вы все стараетесь приобщить меня к бизнесу, – улыбнулся он. – Напрасно, дон Фермин. Я уже однажды обжегся. Больше не хочу.
– Другой бы на вашем месте получал втрое больше, – сказал дон Фермин. – Это несправедливо, потому что именно вы все решаете. А с другой стороны, дон Кайо, когда же вы решитесь наконец вложить капитал в какое-нибудь дело? Вы отвергли четыре или пять таких предложений, за которые всякий ухватился бы обеими руками.
Он слушал Савалу, вежливо улыбался, но в глазах тлело раздражение. Он не дотронулся до чурраско[53]53
Чурраско – мясо, жаренное на вертеле.
[Закрыть], хотя блюдо уже несколько минут стояло перед ним.
– Я ведь вам уже объяснял. – Он взял наконец в руки нож и вилку. – Когда режим рухнет, платить за разбитые горшки придется мне.
– Тем более следует обеспечить свое будущее, – сказал дон Фермин.
– Меня вываляют в грязи, и усердней всех станут делать это нынешние столпы режима. – Он глядел на мясо и салат. – Как будто благодаря этому они остаются чистенькими. Я не слабоумный, чтобы при таком раскладе вкладывать хотя бы сентаво.
– Полноте, дон Кайо, вы сегодня чересчур мрачно настроены. – Дон Фермин отодвинул консоме, и официант тотчас поставил перед ним рыбу. – Кто сказал, что Одрии вот-вот придет конец?
– Еще не «вот-вот», – сказал он. – Но вечных правительств не бывает. Я человек не тщеславный. Когда все это кончится, я уеду за границу, буду там жить себе спокойно и почию с миром.
Он взглянул на часы, попытался съесть еще немного мяса – жевал с отвращением, запивал каждый кусочек минеральной водой и наконец показал официанту, чтобы тот унес блюдо.
– В три у меня встреча с министром, а сейчас уже два пятнадцать. Какие у нас с вами еще дела, дон Фермин?
Дон Фермин велел подать кофе и закурил. Потом достал из кармана конверт, положил его на стол.
– Я кое-что тут набросал вам для памяти, посмотрите на досуге. Ходатайство о получении пустошей, это где-то в Багуа[54]54
Багуа – департамент в Перу.
[Закрыть], подано молодыми, энергичными инженерами – очень хотят работать. Хотят разводить там крупный рогатый скот, ну, вы сами прочтете. Лежит в министерстве уже полгода.
– Входящий номер указан? – Не глядя, он спрятал конверт в портфель.
– Все указано: и сроки прохождения по инстанциям, и все отделы, – сказал дон Фермин. – На этот раз я лично никаких выгод от этого не жду, а просто хочу помочь людям. Это мои друзья.
– Пока ничего не могу вам обещать, надо навести справки, – сказал он. – Кроме того, министр сельского хозяйства меня недолюбливает. Ну хорошо, я вас уведомлю.
– Разумеется, мальчики знают и принимают ваши условия, – сказал дон Фермин. – Я хлопочу за них по дружбе, но вы вовсе не обязаны бесплатно помогать неизвестным вам людям.
– Разумеется, – без улыбки сказал он. – Бесплатно я помогаю только режиму.
Кофе выпили молча. Когда официант подал счет, оба одновременно вытащили бумажники, но расплатился дон Фермин. Они вместе вышли на площадь Сан-Мартин.
– Воображаю, сколько у вас забот в связи с поездкой президента в Кахамарку, – сказал дон Фермин.
– Да уж, – сказал он, протягивая руку. – Как только это кончится, я вам позвоню. Вот моя машина. Будьте здоровы, дон Фермин.
Он опустился на сиденье: в министерство и поскорей. Амбросио, развернувшись на площади, поехал к Университетскому парку, вырулил на Абанкай. Он листал бумаги, лежавшие в конверте, который передал ему дон Фермин, и время от времени глаза его уставлялись в затылок Амбросио: поганец, не хочет, видите ли, чтобы его сынок якшался с чоло, они могут расшатать его нравственные устои, и поэтому принимает у себя в доме людишек вроде Аревало или Ланды, американцев, которых считает неотесанным хамьем – всех, кроме него. Он засмеялся, вытащил из кармана облатку, набрал в рот слюны: не хочет, чтобы ты расшатал нравственные устои его жены, его детей.
– Ты весь вечер задаешь мне вопросы. Теперь моя очередь, – сказал Клодомиро. – Каково тебе работается в «Кронике?»
– Учусь правильно выбирать размер статьи, – сказал Сантьяго. – Раньше писал слишком коротко или чересчур пространно. Работать по ночам, а днем отсыпаться я уже привык.
– Вот это как раз очень беспокоит Фермина, – сказал Клодомиро. – Он боится, что от такой беспорядочной жизни ты загубишь здоровье. И что бросишь университет, если уже не бросил. Скажи честно, ты ходишь на лекции?
– Честно? Не хожу, – сказал Сантьяго. – С тех пор как я ушел из дому, я в университете не был. Но ты отцу не говори.
Клодомиро замер, потом смятенно всплеснул маленькими ручками, в глазах его мелькнул испуг.
– И не спрашивай почему, не могу тебе объяснить, – сказал Сантьяго. – Иногда мне кажется, что не хочу встречаться с теми ребятами, которые остались сидеть, когда меня выпустили. А иногда – что вовсе и не в этом дело. Мне не нравится право, меня не прельщает адвокатура. Дурацкое занятие. Так зачем же мне диплом?
– Фермин прав, дурную услугу я тебе оказал, – горестно сказал Клодомиро. – Теперь, когда ты начал сам зарабатывать, учиться тебя не заставишь.
– Разве твой приятель Вальехо не говорил тебе, сколько мы получаем? – засмеялся Сантьяго. – Нет, дядя, заработком это считать нельзя. И время у меня есть, я мог бы ходить на лекции. Но что-то не могу в себе преодолеть: тошно при одной мысли, что надо переступить порог университета.
– Но ведь нельзя же всю жизнь оставаться мелким служащим! – удрученно сказал Клодомиро. – Ты такой способный, с такими блестящими дарованиями, такой прилежный…
– Я – не способный и не прилежный, и дарования мои не блестящие, не повторяй этих папиных глупостей, – сказал Сантьяго. – Я и вправду сейчас сбит с толку. Знаю только, чего не хочу, кем не желаю быть – не желаю становиться адвокатом, не хочу быть богатым, не хочу приобретать вес в обществе, не хочу к пятидесяти годам сделаться похожим на отца и на его друзей, понимаешь?
– Тебе не хватает стержня, вот и все, что я понимаю. – Лицо Клодомиро выражало глубокое уныние. – Я очень жалею, что просил за тебя Вальехо. Я чувствую себя виноватым в этой истории.
– Если бы меня не взяли в «Кронику», я нашел бы другую работу, – сказал Сантьяго. – Все было бы так же, как сейчас.
Да было бы, Савалита? Да нет, пожалуй, все было бы иначе, пожалуй, бедный дядюшка и вправду виноват во всем. Десять часов, пора было идти. Он поднялся.
– Подожди, ты должен ответить на вопросы, которыми меня всякий раз терзает Соила, – сказал Клодомиро. – Кто тебе стирает? Кто пришивает пуговицы?
– Хозяйка пансиона обо мне печется, – сказал Сантьяго. – Пусть мама не беспокоится.
– А что ты делаешь в свободное время? – сказал Клодомиро. – Куда ты ходишь, с кем, где бываешь? Подружку завел? Это тоже очень тревожит Соилу. Боится, как бы тебя не втянула, не окрутила какая-нибудь, понимаешь?
– Утешь ее, никого у меня нет, – засмеялся Сантьяго. – Скажи, что я здоров, и все у меня в полном порядке, и что скоро я к ним наведаюсь. Правда.
Они вышли на кухню, где в кресле-качалке дремала Иносенсия. Клодомиро разбудил ее, и они под руки довели клевавшую носом старушку до ее комнаты. У дверей обнялись. Клодомиро спросил, придет ли он в следующий понедельник, и Сантьяго пообещал: непременно. На проспекте Арекипы он сел в автобус, доехал до площади Сан-Мартин и зашел в бар «Села», где условился встретиться с Норвином. Его еще не было, и, минуту подождав, Сантьяго решил пойти к нему навстречу. Норвин стоял у подъезда «Пренсы», болтая с репортером из «Ультима Ора».
– Ты что, забыл? – сказал Сантьяго. – Мы же договорились в десять в баре?
– Да это ж не работа, а черт знает что, – сказал Норвин. – У меня забрали всех репортеров, изволь заполнить страницу сам. У нас революция или еще какая-то хреновина. Вот, познакомься: Кастелано, наш коллега.
– Революция? – сказал Сантьяго. – У нас?
– Не революция, а что-то вроде, – сказал Кастелано. – Эспина – ну, тот, который был министром внутренних дел, – поднял мятеж.
– Правительственного сообщения не дали, а всех ребят у меня разогнали собирать сведения, – сказал Норвин. – Да ну их всех, пойдемте выпьем лучше.
– Подожди, подожди, это интересно, – сказал Сантьяго. – Проводи-ка меня до «Кроники».
– Не ходи в редакцию, тебя сейчас же схватят и засадят за работу, и вечер пропадет, – сказал Норвин. – Пойдем выпьем, а часикам к двум вернемся, захватим Карлитоса.
– Но как же это вышло? – сказал Сантьяго. – Хоть что-нибудь известно?
– Ничего не известно, только слухи ходят, – сказал Кастелано. – Днем начались аресты. Говорят, мятеж вспыхнул в Куско и Тумбесе[55]55
Куско – город на юго-востоке Перу; Тумбес – город на северо-западе Перу.
[Закрыть]. Министры заседают во дворце.
– За новостями всех ребят отправили из чистой вредности, – сказал Норвин. – Ведь знают же, что, кроме правительственного сообщения, ничего напечатать не дадут.
– А может, лучше не в бар, а к старухе Ивонне? – сказал Кастелано.
– Но откуда же стало известно про Эспину? – сказал Сантьяго.
– О'кей, к Ивонне так к Ивонне, а оттуда позвоним Карлитосу, там и встретимся, – сказал Норвин. – В борделе узнаешь больше новостей, чем в редакции. А впрочем, тебе-то не один черт? Ты-то чего в политику лезешь?
– Из чистого любопытства, – сказал Сантьяго. – А потом, Ивонна мне не по карману, у меня всего десятка.
– Ну уж это пусть тебя не смущает, – сказал Норвин. – Когда узнают, что ты работаешь вместе с Бесерритой, они тебе откроют неограниченный кредит.
VI
Целую неделю Амбросио не показывался в Сан-Мигеле, а потом, еще через неделю, Амалия встретила его у китайского ресторанчика на углу. «Вырвался на минутку, только чтобы повидаться с тобой». На этот раз они не ссорились, разговаривали по-дружески и условились, что в воскресенье куда-нибудь сходят вместе. «Здорово ты изменилась, – сказал он Амалии на прощанье, – какая стала – не узнать».
Неужто она и впрямь похорошела? Карлота ей твердила, что от таких, как она, и теряют мужики голову, хозяйка тоже пошучивала на эту тему, постовые полицейские расплывались в улыбке, когда она проходила мимо, хозяйские шоферы не сводили с нее глаз, даже садовник, даже посыльный из винного магазина, даже мальчишка, доставлявший газеты, – все заигрывали с нею при встрече: так что, наверно, Амбросио сказал ей правду. Дома она гляделась в хозяйкины зеркала, и в глазах у нее появлялся шальной блеск: правда! правда! Она пополнела, она была теперь нарядная, спасибо хозяйке. Та дарила ей все, что самой не годилось, но не так «на тебе, убоже, что нам не тоже», а ласково: ну-ка, Амалия, примерь это платье, мне оно мало, вот тут надо выпустить, а здесь подкоротить, эти завитки тебе не идут, и не уставала повторять: Амалия, приведи в порядок ногти, Амалия, причешись, Амалия, вымой подбородок, женщина должна следить за собой – и все это не как горничной, а словно Амалия была ей ровня. Она ее заставила подстричься под мальчика, а когда у Амалии вдруг прыщики пошли, дала ей свой крем, и через неделю вся эта пакость исчезла, кожа стала как у девочки, а когда зуб разболелся, сама свезла ее к своему дантисту в Магдалену и из жалованья не вычла. Когда это так пеклась о прислуге сеньора Соила?! Нет, таких, как сеньора Ортенсия, она больше не встречала. Для нее самое главное на свете было, чтоб все сияло и сверкало чистотой, чтоб женщины были красивые и мужчины – им под стать. Первое, что она спрашивала: «хорошенькая?» или «интересный?» И если нет, то это не прощалось. Как она издевалась над сеньорой Макловией за то, что у той зубы торчат на манер кроличьих, и над сеньором Гумусио за то, что отрастил такое брюхо, и над той, кого они называли Пакета, за то, что у нее такие ресницы, такие ногти, да еще и накладной бюст, и над сеньорой Ивонной за то, что такая старая. Что они с сеньоритой Кетой только говорили про нее! Что если будет столько краситься, совсем облысеет, что у нее однажды за обедом выскочила изо рта вставная челюсть, что вспрыскиванья ей нисколько не помогли, а только морщин прибавили. Сеньора Ивонна не сходила у них с языка, и Амалии даже любопытно стало поглядеть на нее, и однажды Карлота сказала ей, что та дама, которая пришла с сеньоритой Кетой, и есть сеньора Ивонна, и Амалия побежала посмотреть. Они сидели в гостиной, что-то пили, и оказалось, что все неправда: сеньора Ивонна была вовсе не старая и не страшная, а очень элегантная дама, и вся как есть в брильянтах. А когда она ушла, хозяйка заглянула к ним на кухню: смотрите не проболтайтесь, что старуха была у меня, – и со смехом погрозила им пальчиком: если Кайо узнает, я вас всех трех убью.
Он переступил порог и увидел доктора Арбелаэса – маленькое личико, запавшие щеки, костлявые скулы, сдвинутые на кончик носа очки.
– Прошу простить, доктор, – куда ж тебе такой стол, таракан ты сушеный? – Деловое свидание, раньше не мог.
– Вы приехали вовремя, дон Кайо. – Доктор Арбелаэс холодно улыбнулся. – Садитесь, пожалуйста.
– Я еще вчера получил ваш меморандум, но прибыть раньше не мог. – Он волоком подтащил к себе кресло, сел, положил на колени портфель. – Страшно занят поездкой президента, буквально ни минуты свободной.
Близорукие, враждебные глаза за стеклами очков моргнули, губы неприязненно скривились.
– Я хотел поговорить с вами и по этому поводу тоже, дон Кайо. Позавчера я запросил у Лосано о мерах подготовки, а он мне ответил, что вы распорядились никому ничего не сообщать.
– Бедный Лосано, – сожалеюще сказал он. – Могу себе представить, какую головомойку вы ему устроили.
– Да нет, – сказал доктор Арбелаэс. – Я был так поражен, что даже растерялся.
– Бедный Лосано – человек полезный, но необыкновенно глупый, – улыбнулся он. – Меры безопасности еще только разрабатываются, и вам не стоило тревожиться. Когда все будет детально проработано, я сам вам доложу.
Он закурил, и доктор Арбелаэс, придвинув поближе пепельницу, стал глядеть на него очень серьезно и испытующе, сложив руки. Слева на столе лежала памятная книжка, справа – фотография седовласой женщины, окруженной тремя улыбающимися юношами.
– Так вы все же успели проглядеть мой меморандум, дон Кайо?
– Я его прочел со всем вниманием.
– Стало быть, вы со мной согласны, – сухо сказал доктор.
– К сожалению, нет. – Он закашлялся, извинился и вновь глубоко затянулся сигаретой. – Секретные суммы – священны и неприкосновенны. Я не могу лишиться этих миллионов. Сожалею, доктор, но не могу.
Доктор Арбелаэс порывисто поднялся. Он прошелся перед своим столом взад-вперед, очки так и плясали в его пальцах.
– Другого я и не ждал. – Лицо его слегка побледнело, но в голосе не слышалось ни гнева, ни злости. – Тем не менее, дон Кайо, в нашем отношении ясно сказано, что следует расширить штаты патрульной службы, следует начать ремонт в комиссариатах Таегы и Мокегуа, пока они не рассыпались от ветхости. Дело стоит, и префекты доводят меня своими звонками и телеграммами до исступления. Откуда же еще мне взять денег, как не из секретных сумм? Я не волшебник, дон Кайо, я чудеса творить не умею.
Он сдержанно и понимающе склонил голову. Доктор, перекладывая очки из правой руки в левую, из левой – в правую, остановился прямо перед ним, а он сказал:
– Разве нельзя провести это по другим статьям бюджета? Министр финансов…
– Вам отлично известно, что министр финансов не дает нам больше ни гроша. – Доктор Арбелаэс повысил голос. – На каждом заседании кабинета он повторяет, что наши расходы и так непомерно велики, а если вы, дон Кайо, по-прежнему будете отнимать у нас половину всех средств…
– Я ничего не отнимаю, доктор, – улыбнулся он. – Что делать, безопасность требует денег. Если из секретных сумм возьмут хоть сентаво, я не смогу выполнить свои обязанности. Я вам очень сочувствую, доктор.
Но, конечно, не только такая работенка бывала, дон, случалась и другая, правда, он к ней отношения не имел. Сегодня вечером покатаемся, сказал сеньор Лосано, предупреди Иполито, а Лудовико ему: в служебной машине? Нет, возьми какую-нибудь старенькую, Амбросио, дон, это все знает потому, что они ему потом все рассказывали. Работенка их была такая: следить за тем-то и тем-то или записывать, кто и когда входил в такой-то и такой-то дом, допрашивать арестованных апристов, когда так распалялся Иполито, а впрочем, может, все это Лудовико ему наплел, дон. Вечером Лудовико подъехал к дому сеньора Лосано, забрал Иполито и в половине десятого стали дожидаться сеньора Лосано на проспекте Испании. В первый понедельник каждого месяца ездили они с сеньором Лосано, дон, собирали оброк, они говорили, что это он так выражался. Ясное дело, в темных очках сидел и на заднем сиденьи, старался быть понезаметней. Угощал их с Иполито сигаретами, пошучивал и вообще, как Иполито заметил, когда на себя работал, был как на крыльях, а Лудовико: скажешь тоже, это мы на него работаем. А оброк этот собирали они со всех публичных домов, со всех борделей Лимы – недурно, дон, а? Начинали обычно с Часики – там, за рестораном, где цыплят подавали, был незаметный такой домик. Давай, говорил сеньор Лосано, а то он, Переда, целый час будет нас мурыжить, а ты покрутись по улицам. Делали они это тайно, потихоньку от дона Кайо, и тот вроде бы ничего не знал, но потом, когда Лудовико стал его охранником и рассказал об этом, – хотел шефа повеселить – выяснилось, что прекрасно он все знал. Машина отъехала, и Лудовико, выждав, пока она скроется из виду, толкнул калитку. Там было множество автомобилей с потушенными фарами, и он, натыкаясь на крылья и бамперы, заглядывая в окна, стараясь различить лица парочек, дошел до дверей, за которыми сидел тот, кто ему был нужен. Появился официант, узнал его – подождите минутку – и позвал самого Переду – а где ж сеньор Лосано? Снаружи, очень торопится, отвечал Лудовико, потому и не вошел. Но мне с ним надо поговорить, дело очень важное. Сами понимаете, дон, как они изучили ночую Лиму с этими поездочками и, уж конечно, своего, дон, не упускали. Вместе с Передои Лудовико вышел из калиточки, дождался машины и снова сел за руль, а Переда – сзади. Жми, сказал сеньор Лосано, торчать нам тут нечего. Но Иполито стеснялся меньше, уж он тешил душу, а Лудовико был человек тщеславный, лез наверх, все наделся в один прекрасный день получить звание. Вот сидел он за баранкой и время от времени поглядывал на Иполито, а тот на него: ну и паскудный же тип этот Переда, послушай только, что он плетет. – Поживей, сказал сеньор Лосано, у меня нет времени, что у тебя за важное дело? – Вы спрашиваете, дон, почему они терпели вымогательство? А Переда все плел свои кружева, и выходило у него очень складно, пока сеньор Лосано не оборвал: ладно, этак мы до утра не справимся, что у тебя за очень важное дело? – Да куда ж им, дон, было податься, ведь чтобы открыть заведение, надо выхлопотать в префектуре документ, понимаете? – Тут Переда сразу сменил тон, и Лудовико с Иполито снова переглянулись понимающе: сейчас слезу пустит. Сеньор Лосано, инженера совсем замучили платежи, выплаты, мы в этом месяце сидим без прибыли. – Так что им только и остается платить, а не то их оштрафуют, или отнимут разрешение, или просто отлупят. Сеньор Лосано что-то пробурчал, а Переда продолжал разливаться соловьем: но инженер не забыл о своих обязательствах, сеньор Лосано, и вот просил вручить вам этот чек, ведь это все равно, не правда ли? И Лудовико с Иполито опять переглянулись: теперь пошел мозги крутить. Мне совершенно не все равно, сказал сеньор Лосано, мы чеки не принимаем, у твоего инженера ровно двадцать четыре часа, а не успеет – мы его лавочку прикроем, поехали, Лудовико, завезем Переду. Лудовико и Иполито рассказывали, что даже за то, чтоб выправить девице новый билет, они получали с него мзду. Всю дорогу обратно Переда юлил, объяснялся, извинялся, а сеньор Лосано сидел как каменный и только, когда подъехали, сказал: ровно сутки, и ни минуты больше. А потом сказал: у меня их сквалыжничество вот где сидит. И Лудовико с Иполито переглянулись: ночку начали без почина. Вот поэтому дон Кайо говорил, что когда Лосано уволят из полиции, он займется своим прямым делом – пойдет в «коты», это его истинное призвание.
В субботу утром дважды кто-то звонил, а когда сеньора Ортенсия снимала трубку, на том конце давали отбой. Развлекаются, говорила хозяйка, а потом, днем, телефон снова зазвонил, подошла Амалия: алло, алло! – и вдруг услышала испуганный голос Амбросио. Так это ты с утра названиваешь? – засмеялась она, – говори, не бойся, никого дома нет. Он звонит предупредить, что встретиться с ней в воскресенье не сможет, ни в это воскресенье, ни в следующее – везет дона Фермина в Анкон. Ничего, сказала Амалия, но оказалось, очень даже чего: всю ночь не спала, думала. Правду он ей сказал, что уезжает, или наврал? В воскресенье они с Марией и Андувией пошли погулять в парк «Ресерва», купили мороженого, сели на травку и сидели, пока не привязались какие-то солдаты. А может, у него свидание с другой? Решили в кино сходить, а тут двое парней захотели их пригласить, купить им билеты, они и согласились – втроем не страшно. А может, он сейчас в другом кино да в приятной компании? Но на середине картины парни к ним полезли, да так грубо, что пришлось удирать, а те бросились вдогонку, крича: «Деньги обратно!», но тут, на их счастье, попался навстречу полицейский и парней шуганул. Может, он устал от того, что она ему напоминает, сколько зла он ей причинил? Всю неделю Амалия, Мария и Андувия, встречаясь, вспоминали тех парней, пугали друг друга – они выследили, где мы живем, они нас убьют, они нас… – и хохотали до тех пор, пока Амалия, вся дрожа, не бросалась опрометью домой. Но по ночам она все думала об одном и том же: а что, если он никогда больше не объявится? В следующее воскресенье пошла проведать сеньору Росарио. Ее старшая, Селеста, трое суток, оказывается, с кем-то пропадала, а вернулась домой одна и словно не в себе. Я с нее шкуру спустила, говорила сеньора Росарио, а обнаружится, что она с начинкой, – своими руками убью. Амалия засиделась до самого вечера, и никогда еще эта улочка не наводила на нее такую тоску. Вдруг, словно впервые, заметила и вонючие лужи, и рои мух, и тощих псов, и сама себе удивлялась – ведь еще недавно, когда схоронила Тринидада и ребеночка, собиралась прожить на этой улочке до конца дней своих. А ночью проснулась еще до света: ну, не придет больше, – и очень хорошо, тебе же, дуре, лучше. Однако заплакала.
– Что ж, дон Кайо, в таком случае мне остается только обратиться к президенту. – Доктор надел очки, в жестко накрахмаленных манжетах золотом сверкнули запонки. – Я пытался поддерживать с вами добрые отношения, никогда не требовал от вас отчета, сносил и то, что Государственная канцелярия решительно во всем проявляет ко мне неуважение. Но вы не должны забывать: министр – я, а вы мне подчинены.
Он кивнул, не поднимая головы, не сводя глаз с носов своих башмаков. Кашлянул в платок. Потом, словно заранее смиряясь с тем, что придется причинить собеседнику неприятность, выпрямился.
– Не стоит беспокоить президента, – сказал он почти застенчиво. – Вы позволите мне объяснить суть дела? Подумайте, доктор, осмелился бы я ответить отказом на ваше требование, не будь у меня на это разрешения президента? – И увидел, как дернулись руки доктора, как тот замер с застывшей в глазах испепеляющей, опустошительной, заботливо выношенной и взлелеянной ненавистью.
– Ах, вы, значит, уже успели переговорить с президентом. – У доктора Арбелаэса дрожал подбородок, дрожали губы, дрожал голос. – И естественно, изложили ему свой взгляд.
– Я буду с вами совершенно откровенен, – сказал он без всякого злорадства или азарта. – Я согласился возглавить Государственную канцелярию по двум причинам. Первая – потому что генерал попросил меня об этом. И вторая – потому что он принял мое условие: свободно распоряжаться необходимыми суммами и никому не давать отчета о моей деятельности, – никому, кроме него. Простите мне мой жесткий тон, но мне хотелось, чтобы вы уяснили себе положение вещей.
Он выжидательно посмотрел на Арбелаэса – на его голову, слишком крупную для такого немощного тела, в близорукие глаза, медленно, миллиметр за миллиметром испепелявшие его, на губы, с усилием складывавшиеся в кривую улыбку.
– Я не ставлю под сомнение вашу работу, дон Кайо, я признаю ее исключительную важность. – Министр чуть задыхался и говорил с неестественной правильностью; губы продолжали улыбаться, а глаза – неутолимо жечь сидевшего напротив. – Однако есть вопросы, требующие решения, и в этих вопросах я вправе рассчитывать на вашу помощь. Секретные суммы службы безопасности непомерно велики.
– Непомерно велики и наши расходы, доктор, – сказал он. – Я вам покажу.
– Я также нисколько не сомневаюсь, что вы с величайшей ответственностью используете бюджетные ассигнования, – сказал доктор Арбелаэс. – Просто…
– Расходы на подкармливание преданных нам профсоюзов, расходы на информацию из рабочих центров, университетов, административных органов, – нараспев проговорил он, вынимая из портфеля папку, кладя ее на стол, – расходы на проведение манифестаций, расходы на то, чтобы знать все о деятельности наших недругов в стране и за границей.
Доктор Арбелаэс не стал листать папку – он слушал его, поглаживая запонку, и глядел все с той же сладострастной ненавистью.
– Расходы на то, чтобы умиротворить недовольных, обиженных, завистливых, честолюбцев, которые ежедневно рождаются в недрах самого режима, – продолжал декламировать он. – Спокойствие, доктор, не столько вбивается, сколько покупается. У вас есть основания быть недовольным, но всей этой мерзостью занимаюсь я, а вам даже нет нужды вникать в эти тонкости. Прошу вас, полистайте эти бумаги, а потом скажите мне, по-прежнему ли вы считаете, что на государственной безопасности можно экономить.
– А вы знаете, почему дон Кайо сквозь пальцы смотрел на то, что сеньор Лосано обложил все бордели данью? – сказал Амбросио.
Ну, у сеньора Лосано слова с делами не расходились, и когда Переда в третий раз подсунулся к нему со своим чеком, он потерял терпение: сколько же у нас жулья! Молча переглянулись Лудовико с Иполито: словно вчера на свет родился, мать его так! Им, значит, мало, что они зашибают бешеную деньгу на том, что без бабы не обойтись, теперь и на нем решили заработать! Не выйдет! Он будет действовать по закону, и тогда увидим, в какой заднице окажутся все эти заведения. Тут они и подъехали к «Гвоздикам».