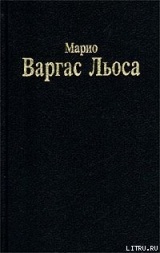
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Я вам даже эти соломинки принесла, – сказала Амалия. – Вы ведь с ними привыкли?
– Зря ты, ей-богу, – сказал Сантьяго. – Нам уж скоро уходить.
Она протянула им кока-колу и соломинки, подтащила стул, уселась перед ними – успела причесаться, перехватить волосы ленточкой, застегнула блузку и кофточку – и стала смотреть, как они пьют. А сама даже не пригубила.
– Глупая, что ж ты на нас деньги тратишь? – сказал Попейе.
– Да это не мои, это мне ниньо Сантьяго принес, – засмеялась Амалия. – Надо ж вас угостить чем-нибудь?
Дверь на улицу осталась открыта, уже смеркалось, где-то в отдалении слышался время от времени звон трамвая. По тротуару шли люди, раздавались голоса и смех, кое-кто останавливался, заглядывал в дверь.
– На фабрике смена кончилась, – сказала Амалия. – Жалко, что лаборатория, куда меня дон Фермин устроил, так далеко: до проспекта Аргентины – на трамвае, а потом еще автобусом.
– Ты будешь работать в лаборатории? – спросил Сантьяго.
– Разве вам папа ваш не говорил? – сказала Амалия. – С понедельника начинаю.
Она как раз выходила тогда от них с чемоданом, а тут навстречу – дон Фермин: хочешь, говорит, устрою тебя в лабораторию, а она: ну конечно, дон Фермин, я куда угодно рада, а он тогда позвал сеньора Чиспаса, велел ему позвонить Каррильо и чтобы тот принял ее на службу. Вот тебе раз, подумал Попейе.
– Замечательно, – сказал Сантьяго. – В лаборатории тебе уж точно будет лучше.
Попейе вытащил свой «Честерфильд», протянул пачку Сантьяго, а потом, секунду поколебавшись, – Амалии.
– Нет, ниньо, спасибо, я не курю.
– Ты говорила, что и танцевать не умеешь, помнишь, тогда? – сказал Попейе. – Не куришь небось так же, как не танцуешь.
Он увидел, как она побледнела, услышал, как она, запинаясь, что-то стала бормотать, почувствовал, как заерзал на стуле Сантьяго: зря я это ляпнул, подумал он. Амалия опустила голову.
– Да я пошутил, – сказал он, и щеки его вспыхнули. – Чего ты застеснялась-то, глупенькая?
Кровь прихлынула к ее лицу, голос окреп: я и вспоминать-то не хочу об этом. Ей отродясь еще так скверно не бывало, наутро все было как в тумане, все в голове смешалось, руки ходуном ходили. Она вскинула голову, поглядела на них робко, завистливо, восхищенно: а у них от кока-колы никогда ничего не случалось? Попейе взглянул на Сантьяго, Сантьяго – на Попейе, и оба – на Амалию. Всю ночь ее рвало, в рот больше не возьмет эту гадость. Пиво пила – и ничего, лимонад – ничего, пепси – тоже ничего, а тут такое вот. Может, она испорченная была? Попейе прикусил язык, вытащил носовой платок, трубно высморкался. Нос заложило, а живот был прямо как барабан: пластинка кончилась, вот теперь пора, и он вырвал руку из кармана. Те двое по-прежнему колыхались в полумраке, да погодите, посидите минутку, и он услышал голос Амалии: так ведь музыка, ниньо, кончилась, и голос звучал как бы через силу – а зачем же ваш дружок свет погасил? ну, чего дурака-то валять? – и голос продолжал бессильно жаловаться, словно угасая от непреодолимой сонливости или отвращения – не хочу в темноте, в темноте мне не нравится. Танцующие стали бесформенным пятном, слитной тенью среди других теней этой комнаты. Он встает, спотыкаясь, приближается к ним – конопатый, выйди в сад – а он стукнулся обо что-то – сволочь! сам выйди, никуда не пойду, на кровать ее, на кровать, – пустите меня, ниньо. Голос Амалии почти срывается на крик – да что с вами?! – она в ярости, но теперь Попейе нащупал ее плечи – пустите меня, как бы не так, да как вы смеете, да как вам не стыдно?! – но глаза ее закрыты и дышит она часто, горячо, и вот наконец вместе с ними она на кровати. Есть! Она засмеялась – ой, щекотно, – но продолжала отбиваться руками и ногами, засмеялся тоскливо и Попейе: уйди ты отсюда, конопатый, дай мне. Чего это я пойду, сам иди, и Сантьяго отпихнул Попейе, а Попейе – Сантьяго, никуда на пойду, расстегнутая одежда и взлохмаченные волосы, мелькание рук и ног, сбитое одеяло. Вы меня задушите сейчас, мне дышать нечем: ах, ты смеешься, плутовка. Да отпустите меня, слышится задавленный ее вскрик, прерывистое звериное дыхание, и вдруг – тсс! и опять толчки и вскрики. Тсс, – зашипел Сантьяго, тсс, – это уже Попейе, – дверь! Это Тете! – подумал он и весь обмяк. Сантьяго подскочил к окну, а он не мог пошевелиться: Тете! Тете!
– Ну, Амалия, нам пора, – Сантьяго поставил бутылку на стол. – Спасибо за угощение.
– Вам спасибо, ниньо, – сказала Амалия. – Спасибо, что навестили, и за подарок спасибо.
– Ты приходи к нам как-нибудь, – сказал Сантьяго.
– Конечно приду, – сказал Амалия. – Кланяйтесь от меня барышне.
– Да выметайся же отсюда, чего ждешь? – сказал Сантьяго. – А ты, кретин, заправь рубашку, причешись.
Вспыхнул свет. Попейе, приглаживая волосы, заправляя рубашку в штаны, испуганно глядел на него: да выйди же из комнаты. Но Амалия по-прежнему неподвижно сидела на кровати, им пришлось силой поднять ее, и она, тупо глядя перед собой, наткнулась на тумбочку, пошатнулась. Живо, живо! Сантьяго натягивал сбившееся покрывало, Попейе выключил проигрыватель, да выйди же, идиотка! Она не трогалась с места, глядела на них непонимающе и удивленно, выскальзывала из рук, но тут открылась дверь, и они отпрянули: здравствуй, мамочка! Попейе увидел сеньору Соилу и попытался выдавить из себя улыбку – она была в брюках, а на голове темно-красный тюрбан – добрый вечер, сеньора, а сузившиеся улыбкой глаза сеньоры остановились на Сантьяго, потом на Амалии, и улыбка стала гаснуть, гаснуть, пока не исчезла вовсе: здравствуй, папа! Попейе увидел за плечом сеньоры Соилы полнощекое усатое смеющееся лицо в седоватых бакенах, лицо дона Фермина: привет, Сантьяго, твоей маме не понра… а, Попейе, здорово, и ты здесь? Дон Фермин в рубашке без воротничка, в летнем пиджаке, в легких мокасинах вступил в комнату, протянул руку Попейе: добрый вечер, дон Фермин.
– Ты, Амалия, почему не спишь? – спросила сеньора Соила. – Уже первый час.
– Мы страшно проголодались, я ее разбудил, чтобы принесла нам сандвичи, – сказал Сантьяго. – А вы же решили ночевать в Анконе?
– Твоя матушка забыла, что у нас завтра к обеду гости, – сказал дон Фермин. – Семь пятниц на неделе, как всегда.
Краем глаза Попейе видел Амалию: с подносом в руках, глядя в пол, она шла к дверям, слава богу, прямо и не шатаясь.
– Тете осталась у Вальярино, – сказал дон Фермин. – Вот и накрылся мой чудный план отдохнуть хотя бы этот уик-энд.
– Как, уже первый час? – сказал Попейе. – Убегаю, мы засиделись, я-то думал, всего часов десять.
– Ну, как поживает наш сенатор? – спросил дон Фермин. – Все в трудах? В клубе даже не показывается.
Она проводила их, вышла вместе с ними на улицу, а там Сантьяго похлопал ее по плечу, а Попейе сделал ручкой: пока, Амалия, и они двинулись к трамваю. В «Триумфе», где уже не протолкнуться было от пьяных и бильярдистов, купили сигарет.
– Пять фунтов псу под хвост, – сказал Попейе. – Выходит, это подарочек от чистого сердца, раз дон Фермин уже нашел ей хорошее место.
– Ничего, мне не жалко. Мы с ней по-свински тогда поступили, – сказал Сантьяго.
Они шагали вдоль трамвайных путей, спустились на проспект Рикардо Пальмы и, покуривая, шли под деревьями мимо припаркованных на тротуарах машин.
– Смешно было, правда, когда она спросила про кока-колу? – засмеялся Попейе. – Я чуть не описался со смеху. Что она, правда дура или так, вид делает?
– Я хочу тебя спросить, – говорит Сантьяго. – У меня очень несчастный вид?
– А я тебе вот что скажу, – сказал Попейе. – Она ведь неспроста сбегала за кока-колой, а? Это приманка была: думала, все будет как тогда.
– Грязные у тебя мысли, – сказал Сантьяго.
– Да что вы, ниньо! – говорит Амбросио. – Вовсе нет.
– Ну да, ну да, я спятил, а твоя Амалия – святая, – сказал Попейе. – Пойдем к тебе, пластинки слушать.
– Ты ради меня это сделал? – сказал дон Фермин. – Ради меня? Отвечай, негр, отвечай. Бедолага ты, дурень ты дурень.
– Клянусь вам, ниньо, клянусь, что нет, – смеется Амбросио. – Вы, наверно, шутите?
– Тете дома нет, – сказал Сантьяго. – Она в гостях.
– И все ты врешь, – сказал Попейе. – Ведь врешь, скажи? А ведь обещал. Врун несчастный.
– Это значит, Амбросио, что не всегда у несчастных вид несчастный, – говорит Сантьяго.
III
Лейтенант всю дорогу говорил без умолку, не закрывая рта, объясняя сержанту, ведшему джип, что теперь, когда революция совершилась[13]13
Имеется в виду военный переворот 1948 г., в результате которого к власти в Перу пришел генерал Мануэль Одрия.
[Закрыть], а Одрия взял власть, апристам солоно придется, – и беспрерывно курил вонючие сигареты. Из Лимы выехали на рассвете и остановились только раз, когда в Сурко дорожный патруль, проверявший все машины, заставил предъявить пропуск. В Чинчу прибыли в семь утра. Революция здесь не очень-то чувствовалась: дети шли в школу, а солдат совсем не было видно. Лейтенант выскочил из машины, вошел в кафе-ресторан «Родина», послушал все то же, перебиваемое бравурными маршами, сообщение, которое передавали по радио и вчера и позавчера. Он спросил у хмурого парня в футболке, знает ли тот здешнего коммерсанта Кайо Бермудеса. Вы его что, вскинул глаза парень глаза, арестовать хотите? А разве ж он априст? Вот уж нет, он в политику не суется. Оно и правильно: политика – это для тех, кому делать нечего, а кто работает, тому не до политики. Нет, лейтенант к нему по личному делу. Здесь вы его не найдете, он здесь не бывает. Живет вон в том желтом домике за церковью. Желтый домик был только один, остальные – белые или серые, а вот еще и коричневый. Лейтенант постучал в дверь, и подождал, и услышал шаги и голос: кто там?
– Тут проживает сеньор Бермудес? – спросил он.
Дверь заскрипела, отворилась, на пороге появилась женщина – индеанка, лицо смуглое, все в родинках, дон. Тамошние говорят, ее прямо не узнать, день и ночь, дон, до того переменилась. Волосы растрепаны, на плечах свалявшаяся шерстяная шаль.
– Тут, только его дома нет. – Она глядела искоса и боязливо. – А в чем дело? Я его жена.
– Вернется не скоро? – лейтенант – удивленно и недоверчиво. – Не позволите ли обождать?
Она отодвинулась от двери, пропуская его внутрь. Лейтенанта замутило, когда он оказался в комнате, заставленной массивной мебелью. Вазы без цветов, швейная машинка, обои продраны, испачканы, засижены мухами. Женщина открыла окно, скользнул солнечный луч. Слишком много вещей, и все какое-то ветхое, старое. В углах коробки и ящики, груды газет. Женщина, чуть слышно проговорив «с вашего позволения…», исчезла в черном зеве коридора. Лейтенант слышал: где-то засвистала канарейка. Вы спрашиваете, дон, правда ли она его жена? Законная жена, перед Богом и людьми, от этой истории вся Чинча с ума сходила. Как началось, дон? Да уж давно началось, много лет назад, когда все семейство Бермудесов уехало из имения семейства де ла Флор. А семейство это – сам Коршун, жена его, донья Каталина, набожная такая была особа, да сынок, который потом стал доном Кайо, а в ту пору еще пеленки пачкал. Коршун служил в имении управляющим, и ходили слухи, будто он не своей волей ушел, а был выгнан – проворовался. В Чинче он сразу же стал давать деньги в рост. Дело ясное: нужно кому денег достать, идет к Коршуну, так и так, выручай, а что под залог оставишь? – вот колечко, вот часы, – а не выкупишь к сроку – пиши пропало, а проценты он драл бессовестные, до нитки людей раздевал. Многих до петли довел, его и прозвали Коршуном за то, что стервятиной кормился. Ну, очень скоро он разбогател, а тут как раз генерал Бенавидес начал сажать и ссылать апристов: субпрефект Нуньес отдавал приказ, капитан Скребисук – так его прозвали – уводил человека в каталажку, конфисковывал имущество, и его тут же прибирал к рукам Коршун, а потом уж они все делили на троих. С деньгами-то он вылез наверх, стал даже алькальдом Чинчи, и на всех парадах стоял в котелке, как порядочный, на площади, надувался и пыжился. Спесь в нем взыграла. Почему? Потому, что сынок его босиком перестал бегать и возиться с цветными, много стал о себе понимать. Когда мальчишками были, играли в футбол, лазали по чужим садам, Амбросио запросто ходил к ним в дом, и Коршун ничего против не имел. Ну, а когда деньги завелись, вся дружба врозь пошла, и дону Кайо строго-настрого наказали с ним не водиться. Слуга? Да нет же, дон, он был самый его закадычный дружок, правда, когда оба под стол пешком ходили. А у негритянки той, мамаши его, лоток стоял как раз на углу, и дон Кайо с Амбросио вечно учиняли какие-нибудь шкоды. Но жизнь их развела, дон, верней сказать, Коршун постарался. Дона Кайо отдали в коллеж Хосе Пардо, а Амбросио с Перепетуо ихняя мамаша, устыдясь той истории с Трифульсио, отвезла в Молу, а уж когда они вернулись в Чинчу, дон Кайо не отлипал от своего одноклассника. Горцем его прозвали. Амбросио повстречал его как-то на улице и на «ты» уж обратиться не посмел. На всех торжественных актах в коллеже дон Кайо выступал, речи говорил, на парадах нес школьный флаг. Этот паренек прославит Чинчу, говорили все, он далеко пойдет, у него большое будущее, а сам Коршун прямо захлебывался, когда речь заходила про его сынка, высоко, говорил, взлетит. Так ведь оно и вышло, правда, дон?
– Как по-вашему, он скоро придет? – Лейтенант раздавил в пепельнице окурок. – Где он, не знаете?
– Я тоже женился, – говорит Сантьяго. – А ты – нет?
– Иной раз он задерживается допоздна, – тихо отвечала женщина. – Может, что передать надо, так скажите мне.
– И вы тоже? – говорит Амбросио. – Такой молоденький?
– Да нет, я лучше подожду, – сказал лейтенант. – Будем надеяться, скоро придет.
Он уж тогда в выпускном классе был. Коршун собирался его в Лиму отправить учиться на адвоката, дон Кайо ведь, все говорили, для того прямо и рожден. А Амбросио жил на самой окраине Чинчи, на выезде из города, на том месте, где теперь Гросио-Прадо. Там-то дон Кайо ее и углядел, когда уроки прогуливал. Набросился на девчонку? Нет, дон, просто уставился безумными глазами. Стал прятаться, подсматривать, караулить. Бросит свои книжки наземь, станет на колени и вылупится на ее дом, а Амбросио все думал, кого он высматривает? А звали ее Роса, дон, Роса, дочка Тумулы-молочницы. Так, девчонка как девчонка, ничего особенного, замухрышка, хоть похожа больше на белую, а не на индеанку. Некоторые страшненькими рождаются, а потом хорошеют, вот и Роса эта сначала была ни то ни се, а потом расцвела. В ту пору она была смазливенькая, но не более того, из тех, знаете, посмотрел, да и забыл. Грудки уже обрисовались, ну, фигурка складная, и больше ничего. Но уж до чего грязна была! Она, сдается мне, и по большим-то праздникам не умывалась. Она молоко продавала: навьючит осла бидонами и бродит по всей Чинче. Дочка Тумулы-молочницы и сын Коршуна! Вот ведь какой скандал, дон. Коршун к тому времени уже открыл скобяную торговлю, была у него и бакалейная лавка, люди слышали, он говорил, что вот вернется сын из Лимы с дипломом, дела мои еще не так пойдут. Донья Каталина все, бывало, в церкви, водила дружбу с падре, устраивала всякие лотереи в пользу бедных, знаете, «Католическое действие» и всякое такое. А сыпок стал клинья подбивать к этой девчонке, мыслимое ли дело? Однако так все и было, дон. Походочкой она его своей взяла или еще чем, не знаю, некоторых ведь так в навоз и тянет, а от чистого воротит. Он, верно, думал ее, как говорится, поматросить да бросить, а она, не будь дура, смекнула, что этот белый паренек прикипел всерьез, пусть поматросит, а бросить не дам. Вот наш дон Кайо и влип, вот как было дело, дон, чем могу служить? Лейтенант открыл глаза и проворно вскочил на ноги.
– Извиняюсь, сморило меня. – Он потер ладонью лицо, откашлялся. – Вы – сеньор Бермудес?
Подле ужасной женщины стоял теперь мужчина лет сорока, с брюзгливо-неприязненным выражением лица. Он был без пиджака, в одной сорочке, под мышкой держал маленький чемоданчик. Широченные брюки закрывали носы башмаков. Вот так клеши, успел подумать лейтенант, как у моряка или у рыжего в цирке.
– К вашим услугам, – промолвил этот человек как бы досадуя. – Давно ждете?
– Собирайте-ка скоренько свое барахлишко, – радостно сказал лейтенант, – повезу вас в Лиму.
Его слова не произвели ожидаемого действия. Человек не улыбнулся – глаза его не выразили ни удивления, ни тревоги, ни радости, а продолжали смотреть на лейтенанта с прежним безразличием.
– В Лиму? – медленно повторил он, все так же тускло глядя на лейтенанта. – Кому это я там понадобился?
– Самому полковнику Эспине! – В голосе лейтенанта зазвенела триумфальная медь. – Министру нового нашего правительства, не больше и не меньше.
Женщина открыла рот, но Бермудес глазом не моргнул. Все то же отсутствующее выражение было на его лице, потом подобие улыбки на секунду согнало с него сонную досаду, и тотчас оно стало опять скучливо-брюзгливым. Видно, у него печенка не в порядке, подумал лейтенант, раз ему жизнь не в радость, еще бы – тащить на горбу такую бабу. Бермудес бросил на диван свой чемоданчик.
– Да, я слыхал вчера по радио, что Эспина стал членом хунты. – Он достал из кармана пачку «Инки», без особой любезности предложил сигарету лейтенанту. – А не говорил вам Горец, зачем я ему?
– Нет, не говорил, только приказал срочно вас доставить. – «Что еще за Горец такой?» – подумал лейтенант. – Велел привезти вас к нему хоть под дулом пистолета.
Бермудес сел на стул, положил ногу на ногу, выпустил целое облако табачного дыма, закрывшее его лицо. Когда же дым рассеялся, лейтенант увидел: улыбается, словно одолжение мне делает или глумится надо мной.
– Сегодня мне совсем не с руки уезжать из Чинчи, – сказал он с обескураживающей вялостью. – У меня тут еще дельце в одном имении поблизости, надо бы его довести до конца.
– Дельце можно и отложить, раз министр вызывает, – сказал лейтенант. – Прошу вас, сеньор Бермудес.
– Два новых трактора, отличная сделка, – пояснил Бермудес, обращаясь к мушиным разводам на стене. – Мне совсем не до поездок нынче.
– Тракторы? – Лейтенант не справился с нахлынувшим раздражением. – Вы, пожалуйста, думайте, что говорите, и не будем больше терять времени.
Бермудес затянулся, полузакрыв холодные глаза, медленно выпустил дым.
– Человеку в таком бедственном положении, как я, только о тракторах и следует думать, – сказал он, словно ничего перед этим и не видел и не слышал. – Передайте Горцу, я приеду как-нибудь на днях.
Сбитый с толку, озабоченный, растерянный, лейтенант воззрился на него: ну, теперь, сеньор Бермудес, и правда пришла пора доставать пистолет и тащить вас в Лиму силком, вот теперь все будут потешаться над ним. Но он, представьте себе, как ни в чем не бывало вместо уроков являлся в поселок, и все женщины пальцем в него тыкали, гляди-ка, Роса, кто пришел, перешептывались и хихикали. Ну, а Росита как на крыльях летала: еще бы, сын самого Коршуна к ней ходит, таскается в такую даль. Нет, она с ним не разговаривала, ломалась, убегала к своим подружкам, хохотала с ними, кокетничала, словом, как могла. Но его такой прием ничуть не охлаждал, а вроде бы, наоборот, раззадоривал. Ох она и сметлива была, дон, девчонка эта, в кино такой не увидишь, а уж на мамаше ее, на Тумуле-молочнице, и вовсе пробы негде ставить. Всякий бы понял, что дело нечисто, а он – нет. Он все подкарауливал, выжидал, бродил вокруг: вот увидишь, негр, моя она будет, мне достанется, а достался-то он им. Как вы не видите, дон Кайо, что у нее к вам – никакой благодарности, только чванится тем, что вы ее заметили? Пошлите ее подальше, дон Кайо, лучше будет. Но его как будто опоили чем, не мог от нее отлипнуть, и вот пошли слухи да толки. Очень много судачат про вас, дон Кайо. А он: да плевал я на все пересуды, он ведь делал только то, что его левая нога захочет, а левая нога ему велела непременно Росу улестить и с нею переспать. Ладно. Казалось бы: что тут такого – присох белый к индеаночке, желает добиться своего, кому какое дело, кто его упрекнет, верно, дон? Но он-то преследовал ее по-настоящему, словно и впрямь рехнулся. А еще большее безумие – то, что Роса позволяла себе кобениться, пренебрегать им. Верней сказать, делать вид, что пренебрегает.
– Мы уже заправились, и я обещал вернуться в Лиму к половине четвертого, – сказал лейтенант. – Можем ехать, как только будете готовы.
Бермудес переменил сорочку, надел темно-серый костюм. В руке он держал свой чемоданчик, на голове – измятая шляпенка, на носу – темные очки.
– Это все ваши вещи? – спросил лейтенант.
– Нет, в багаже еще сорок чемоданов, – буркнул Бермудес сквозь зубы. – Поехали, я хочу сегодня же вернуться в Чинчу.
Женщина смотрела на сержанта, проверявшего уровень масла. Передник она сняла, тесное платье туго обтягивало отвисший живот, расползшиеся бедра. Простите, сеньора, – протянул ей руку лейтенант, – что приходится похищать вашего супруга. Она не улыбнулась его шутке. Бермудес уселся на заднее сиденье джипа, а она смотрела на него так, подумал лейтенант, словно ненавидела или прощалась навеки. Он тоже забрался в машину, увидел, как Бермудес вяло помахал женщине, и сержант тронул с места. Пекло солнце, улицы были безлюдны, тошнотворное испарение поднималось с мостовой, сверкали оконные стекла.
– Давно не бывали в Лиме? – попытался завязать светскую беседу лейтенант.
– Я езжу туда раза два-три в год, по делам, – отвечал тот, и в его медленном металлическом голосе не было ни оживления, ни ответной учтивости, а одно только недовольство всем на свете. – Представляю там несколько агротехнических компаний.
– У меня тоже была жена, хотя обвенчаться мы с нею не успели, – говорит Амбросио.
– Дела, должно быть, хорошо идут? – сказал лейтенант. – Здешние помещики – богатеи, наверно, а? Много хлопка?
– Была? – говорит Сантьяго. – Поругались, что ли?
– Раньше было недурно, – ответил Бермудес, и лейтенант подумал: нет, он, конечно, не самый противный человек в Перу, потому что полковник Эспина еще жив-здоров, но уж после полковника – на первом месте. – А теперь, когда ввели контроль за ценами, они перестали зарабатывать на хлопке прежние деньги, и нынче в три узла завяжешься, пока сумеешь всучить им хотя бы лампочку.
– Да нет, ниньо, померла она у меня в Пукальпе, – говорил Амбросио. – Остался я с дочкой.
– Вот-вот, для того-то мы и свершили революцию! – благодушно воскликнул лейтенант. – Весь этот хаос позади. Теперь, когда за дело взялась армия, мы выберемся на верную дорогу. Вот увидите, как славно заживем при Одрии.
– Вы так считаете? – зевнув, ответил Бермудес. – В нашей стране меняются только правительства, все прочее остается на прежнем виде.
– Да неужели вы газет не читаете, радио не слушаете? – улыбчиво напирал лейтенант. – Уже начались чистки. Всех апристов, коммунистов и прочее жулье – за решетку. Всех крыс выловим, всех до единой!
– А что ж ты делал в Пукальпе? – говорит Сантьяго.
– Этих выловите – явятся другие, – сухо сказал Бермудес. – Чтобы очистить Перу, надо бы взорвать над нею пару бомб и стереть нас с лица земли.
– Как что делал? Работал, – говорит Амбросио. – Верней сказать, искал работу.
– Это вы шутите или всерьез? – спросил лейтенант.
– А папа знал, что ты там? – говорит Сантьяго.
– Я к шуткам не склонен, – сказал Бермудес. – Я всегда говорю серьезно.
Джип пересекал долину, в воздухе запахло моллюсками, вдали показались красноватые песчаные холмы. Сержант, зажав в углу рта сигарету, крутил руль, лейтенант пониже нахлобучил фуражку; пойдем, негр, пивка попьем, потолкуем. Потолковали, дон, по-дружески, я ему зачем-то нужен, понял Амбросио, и очень скоро речь зашла о Росе. Он уже раздобыл крытый грузовичок и уговорил своего дружка. Горца этого. Но ему потребовался еще и он, Амбросио, на всякий случай. На какой еще случай, хотелось бы знать? Ведь у нее ни отца, ни братьев? Нет, только мать, Тумула, она не в счет. Да он бы с дорогой душой помог, Тумулы он, конечно, не боится, и соседей тоже, но как ваш папенька на это посмотрит, вот штука-то в чем? А он ничего и не узнает, он едет в Лиму на три дня, а к его возвращению Роса уже будет дома. Амбросио развесил уши, дон, согласился помочь, потому что его обдурили. Согласитесь, одно дело – украсть девчонку на одну ночь, подержать и отпустить, и совсем другое – жениться на ней. Этот дон Кайо обвел вокруг пальца и его, Амбросио, и Горца. Всех обманул, всех. Кроме Росы и мамаши ее. Вся Чинча судачила о том, какое счастье привалило дочке Тумулы-молочницы: то молоко на ослике развозила, а то вдруг стала настоящей сеньорой и снохой самого Коршуна. Вот она-то и оказалась в выигрыше, все прочие проиграли. И дон Кайо, и его родители, и даже Тумула, потому что дочки-то она лишилась. Вот какие обнаружились у Росы министерские мозги. Кто б мог подумать, что эта пигалица вытянет такой счастливый билет? Вы спрашиваете, дон, что должен был делать он, Амбросио? К девяти прийти на площадь, там прогуливаться и ждать, а те его подберут на машине. Покрутились по городу, а когда народ спать лег, подогнали свой грузовичок к дому Маурокруза, глухого как пень. Дон Кайо сговорился с Росой встретиться там в десять. Разумеется, она пришла, еще бы ей не прийти. А когда пришла, дон Кайо вышел ей навстречу, а те остались в машине. То ли он ей сказал что-то, то ли она сама догадалась – так или иначе, кинулась бежать, а дон Кайо кричит: «Держи ее!» Ну, Амбросио – вдогонку, поймал, схватил, принес, посадил в грузовичок. Вот тут-то и выяснилось, дон, что попались они на ее удочку: не пискнула, не крикнула, только отбивалась, царапалась и брыкалась. Чего же проще было – подай голос, позови на помощь, из всех дверей повыскакивают люди, полпоселка сбежится. Как по-вашему? Она хотела, чтоб ее похитили, она надеялась, что ее похитят. Вот ведь тварь, а? Вы скажете, что она перепугалась до смерти, дара речи лишилась. Ага. А ведь она отчаянно отбивалась, пока Амбросио ее волок, а в грузовичке сразу стихла, закрыла лицо руками, вроде как заплакала, но Амбросио видел, что она и не думала плакать. Горец запер кузов, и машина понеслась напрямик, срезая путь. Приехали на место, дон Кайо вылез, а за ним и Роса – сама, заметьте, вытаскивать ее не пришлось. Амбросио пошел спать, раздумывая, что будет, если Роса расскажет Тумуле, а та – его матери, и какую выволочку она ему устроит. Но он и представить себе не мог, как повернется дело. А повернулось так, что ни Роса не вернулась на следующий день, ни дон Кайо. Не вернулись ни наутро, ни к вечеру, никогда, короче говоря, они не вернулись. В поселке, где жила Тумула, стоял плач и стон, в Чинче донья Каталина устроила то же самое, и Амбросио просто не знал, куда деваться. На третий день приехал из Лимы Коршун, сразу сообщил в полицию, и молочница тоже. Вы представьте, дон, какие слухи и толки ходили по городу. Встречаясь на улице, Горец и Амбросио делали вид, что знать друг друга не знают, у Горца тоже душа в пятках была. Появились те двое только через неделю, дон. Никто его не принуждал жениться, никто не приставлял дуло к виску: пойдешь под венец или в гроб ляжешь. Он по своей воле нашел священника. Рассказывали, как они вышли из автобуса на Пласа-де-Армас, он вел Росу под ручку, и таким вот манером явились в дом Коршуна, словно с прогулки. Вы представьте, представьте себе, как вытянулось лицо у Коршуна, когда дон Кайо и Роса предстали перед ним и сынок достал из кармана брачное свидетельство и сказал: мы поженились.
– Это что, они так крыс ловят? – Скупо усмехнувшись, Бермудес показал в сторону Университетского парка. – Что там происходит, в Сан-Маркосе?
На всех четырех углах стояло оцепление – солдаты в касках, штурмовые гвардейцы и конная полиция. «Долой диктатуру!» – кричали плакаты со стен университета, «Только АПРА спасет Перу!» Центральный вход в университет был закрыт, на балконах покачивались траурные полотнища, и на крыше фигурки, казавшиеся снизу, с земли, крошечными, следили за действиями солдат. Доносился многоголосый гул, взрывавшийся время от времени рукоплесканиями.
– Кучка апристов сидит здесь с двадцать седьмого октября, – сказал лейтенант, подзывая к себе полицейского прапорщика, командовавшего оцеплением на проспекте Абанкай. – Им хоть кол на голове теши.
– А почему бы не открыть огонь? – спросил Бермудес. – Так-то армия начинает чистку?
Командир патруля подошел к джипу, откозырял и стал изучать пропуск, протянутый ему лейтенантом.
– Ну-с, как наши смутьяны? – осведомился тот, кивнув на Сан-Маркос.
– Орут, – ответил прапорщик. – Камнями кидаются. Можете следовать, господин лейтенант.
Полицейские развели «рогатки», и машина поехала по Университетскому парку. Ветер пошевеливал черные креповые полотнища с белыми надписями: «Мы оплакиваем нашу демократию!», кое-где были намалеваны череп и кости[14]14
Череп и кости – символика анархистского движения.
[Закрыть].
– Я бы давно всех перестрелял, – сказал лейтенант, – но полковник Эспина хочет взять их измором.
– А как дела в провинции? – спросил Бермудес. – Воображаю, что творится на севере. Апристы всегда были там сильны.
– Да нет, все спокойно. Не верьте басне, будто АПРА пользовалась в стране поддержкой, – ответил лейтенант. – Чуть началось, ее главари кинулись по посольствам просить убежища. Небывало бескровная революция, сеньор Бермудес. Ну, а с этими горлопанами из Сан-Маркоса можно было бы в пять минут покончить, но начальству виднее.
На центральных улицах войск не было, и только на площади Италии вновь замелькали каски. Бермудес вылез из машины, сделал, разминая ноги, несколько шагов, нерешительно потоптался у входа, поджидая лейтенанта.
– Вы никогда не бывали в министерстве? – подбодрил его тот. – Не смотрите, что такой обшарпанный фасад, кабинеты там роскошные. У полковника там и картины и все.
Вошли они, значит, и тут, буквально через две минуты, вылетели обратно, дон Кайо и Роса, а за ними – сам Коршун, разъяренный до последней степени, ну просто в бешенстве, орет и ругается страшными словами. К Росе-то он ничего не имел, он ее вроде даже и не заметил, а вот сыну досталось по первое число. Он его сшибал с ног, пинками поднимал и так вот прогнал до самой Пласа-де-Армас. Убил бы, если б не отняли. Не мог он согласиться, что этот молокосос женился, да как женился и, главное, – на ком?! Так и не простил никогда, и не велел дону Кайо на глаза ему показываться, и денег не давал. Пришлось ему самому и себя кормить, и Росу. А он и коллеж не успел кончить, а ведь какие надежды подавал, какую карьеру ему Коршун прочил. Если бы они не обвенчались, а просто зарегистрировали брак у алькальда[15]15
Алькальд – глава местной администрации.
[Закрыть], Коршун в два счета обтяпал бы это дело, но ведь с Господом Богом сговориться трудно. Верно, дон? Да и донья Каталина чересчур была рьяная и ревностная, она бы не позволила. Они, конечно, спросили у священника, как им быть, а тот сказал, что тут уж ничего не попишешь, таинство есть таинство и только одна смерть может их разлучить. Было Коршуну от чего в отчаянье прийти. Говорили, что он даже отколотил того падре, который обвенчал дона Кайо, и на него за это наложили епитимью и заставили за свой счет выстроить колокольню для новой церкви в Чинче. Так что святая наша матерь и тут своего не упустила. Парочку эту Коршун больше никогда не видел. Кажется, уже перед смертью он спросил, есть ли внуки. Может, если б были, он бы простил сына с невесткой, но Роса, мало того что страшна стала как смертный грех, оказалась еще и яловой. Еще говорили, Коршун, чтобы ничего дону Кайо не досталось, принялся швырять денежки на ветер, пропивать и прогуливать и без конца жертвовать на бедных все, что имел, и что если бы Господь его не прибрал в одночасье, не видать бы им и того домика за церковью. Он бы и его отдал, да не успел. Вы спрашиваете, дон, как же это Кайо прожил столько лет с нею? Все в один голос твердили Коршуну, утешали его: пройдет у него дурь, он опомнится, свезет Росу к матери и вернется к вам. Как бы не так. А вот почему, не знаю. Дело тут не в религии, дон Кайо в церковь не ходил. Может, хотел досадить отцу? Вы говорите, он его ненавидел? В отместку за те надежды, которые тот на него возлагал? Залезть в дерьмо по уши, только чтобы позлить отца? Плохо верится, дон. Так надругаться над своей жизнью, чтобы отец страдал? Я не знаю, дон, не уверен. Ну-ну, дон, что это вы? Вам нехорошо? Как вы сказали? Вы не про Коршуна и дона Кайо, а про себя и про ниньо Сантьяго? Так? Молчу. Вы не со мной разговариваете. Понял. Не сердитесь, дон, я же ничего не сказал такого.








