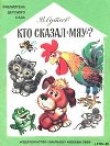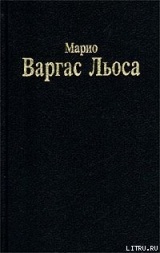
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 39 страниц)
Часть третья
I
Он пришел в редакцию около пяти и снимал пиджак, когда зазвонил телефон. Он видел, как Ариспе поднял трубку, задвигал губами, окинул взглядом пустые столы и наконец заметил его: Савалита, на минутку. Он пересек комнату, остановился у стола, заваленного бумагами, окурками, фотографиями, корректурными оттисками.
– Вот какое дело, – сказал Ариспе. – Эти разгильдяи из уголовной хроники раньше шести не явятся. Съездите, соберите материал, потом передадите его Бесеррите.
– Улица генерала Гарсона, 3/VI, – прочел Сантьяго. – Район Хесус-Мария?
– Поезжайте, – сказал Ариспе, – а я позвоню Перикито и Дарио. В архиве, наверно, сохранились ее фотографии.
– Музу зарезали? – сказал Перикито уже в редакционной машине, перезаряжая камеру. – Гвоздевой матерьяльчик.
– Сколько лет пела на «Радио-эль-Соль», – сказан водитель Дарио. – Кто это ее?
– Наверно, на почве ревности, – сказал Сантьяго. – Я-то раньше никогда про нее не слышал.
– Я ее снимал, когда она стала «Королевой фарандолы[56]56
Фарандола – популярная танцевальная мелодия провансальского происхождения.
[Закрыть]», первоклассный был бабец, – сказал Перикито. – А ты что, Савалита, и полицейскую хронику делаешь?
– Да нет, когда Ариспе позвонили, я один был под рукой, – сказал Сантьяго. – Это мне будет урок, – на службу вовремя не приходить.
Дом стоял рядом с аптекой, две патрульные машины окружала толпа зевак, а вот и «Кроника» прикатила, крикнул какой-то мальчишка. Они предъявили полицейскому свои документы, а Перикито защелкал фотоаппаратом, снимая фасад, лестницу, площадку на первом этаже. Дверь была открыта, думает он, тянуло сигаретным дымом.
– А вас не припоминаю, – сказал ему толстяк в синем, изучая его удостоверение. – Что приключилось с Бесерритой?
– Его не было на месте, когда позвонили. – И Сантьяго ощутил непривычный запах – вспотевшего тела, думает он, тронутых гнильцой фруктов. – А я из другого отдела, инспектор, потому и не припоминаете.
Вспыхнул «блиц» Перикито, толстяк отступил в сторону. Сантьяго увидел кучку вполголоса переговаривающихся людей, а за ними – кусок стены, оклеенной голубыми обоями, грязный кафель, ночной столик, черное покрывало. Разрешите – двое мужчин расступились – глаза его скользнули вверх, вниз и опять вверх – какая она была белая, думает он, – не задерживаясь на запекшихся сгустках, на черно-красных, сморщившихся краях ран, на спутанных прядях, закрывающих лицо, на черном треугольнике волос внизу живота. Он не двигался, ничего не говорил. Радуги Перикито сверкали то слева, то справа, хотелось бы лицо, инспектор, и чья-то рука отвела завитки, и открылось лицо – голубоватое и чистое, с залегшими под изогнутыми ресницами тенями. Спасибо, инспектор, сказал Перикито, присевший перед кроватью на корточки, и снова ударил луч ослепительного света. Десять лет, Савалита, ты думал о ней, если бы Ана узнала, пожалуй, приревновала бы тебя, подумала, ты влюблен в Музу.
– Кажется, нашему репортеру такие картинки внове, – сказал толстяк. – Вы уж только, юноша, постарайтесь не хлопнуться в обморок, нам хватит возни и с этой дамой.
Плавающие в густом дыму лица расплылись в улыбках. Сантьяго с усилием выдавил улыбку и из себя. Взявшись за карандаш, обнаружил, что ладони его мокрые от пота; вытащил блокнот и снова глянул и увидел: пятна крови, поникшие, сплющенные груди, чешуйчатые темные соски. От хлынувшего в ноздри запаха закружилась голова.
– Распороли до пупа. – Перикито, прикусив кончик языка ввинчивал новую лампочку. – Садист какой-то.
– Ей еще кое-что взрезали, – мрачно сказал толстяк. – Подойди поближе, Перикито, и вы, юноша: посмотрите, полюбуйтесь на это зверство.
– Дырка в дырке, – прозвучал рядом чей-то наглый голос, и Сантьяго услышал сдавленные смешки и неразборчивое бормотание. Он отвел глаза от убитой, шагнул к толстяку.
– Можно получить у вас некоторые сведения, инспектор?
– Разумеется, но сначала позвольте представиться. – Тот благожелательно протянул пухлую руку. – Адальмиро Перальта начальник отдела по расследованию убийств, а это – мой заместитель Лудовико Пантоха. И его не забудьте упомянуть.
Стараясь изо всех сил, чтобы улыбка не сползла с лица, не погасла, ты писал в блокноте, Савалита, и видел, как бьется в истерике твое перо, рвет бумагу, выводит что-то невразумительное.
– Услуга за услугу, с Бессеритой мы всегда находили общий язык, – и слышал дружелюбно-улыбчивого инспектора. – Мы вам предоставим данные – самые свежие, из первых рук, а вы нас снимете покрупней, черкнёте десять строчек поподробнее, это никогда лишним не бывает.
Снова смешки, вспышки «блица», и этот запах, и клубы табачного дыма. Сантьяго кивал, строчил, прижав к груди блокнот, перегнув его пополам, и рука его выводила какие-то закорючки, и буквы были похожи на иероглифы.
– Нас вызвала старушка из соседней квартиры, – сказал инспектор. – Слышала крики, выглянула, увидела, что дверь открыта. Старушку пришлось отправить в больницу. – Нервный припадок. Сами можете представить, каково ей было застать такое.
– Восемь ножевых проникающих ранений, – сказал старший агент Лудовико Пантоха. – Медицинский эксперт подсчитал, юноша.
– Вполне вероятно, что жертва находилась в состоянии наркотического опьянения, – сказал инспектор Перальта. – Чувствуете запах? И потом, зрачки. В последнее время она злоупотребляла наркотиками. Состояла на учете в полиции. Ну, вскрытие покажет.
– Год назад у нее были большие неприятности по этой части, – сказал старший агент Лудовико Пантоха. – Мы ее посадили тогда. Да, низко пала.
– Ножичек нельзя ли, инспектор? – сказал Перикито.
– Хорош ножичек, клинок пятнадцать сантиметров, – сказал инспектор. – Унесли на экспертизу. Есть, есть отпечатки, да еще какие – будто специально хотел нас порадовать.
– Он недолго будет гулять на свободе, – сказал Лудовико. – Наследил, орудие убийства оставил на месте преступления, пошел на него средь бела дня. Нет, это никакой не профессионал, что вы.
– Личность пока не установили: любовников у покойной было множество, – сказал инспектор. – А в последнее время путалась просто со всеми подряд. Да, бедняжка стала весьма неразборчива.
– Вы посмотрите, посмотрите, в какой конуре она встретила свой смертный час, – сказал Лудовико. – А ведь когда-то жила как принцесса.
– В тот год, когда я поступил в «Кронику», она победила на конкурсе, стала «Королевой фарандолы», – сказал Перикито. – В сорок четвертом, четырнадцать лет назад. Как время-то летит.
– Жизнь – вроде качелей: то вверх, то вниз, – улыбнулся инспектор Перальта. – Дарю вам, юноша, эту фразу, запишите, вставите в репортаж.
– Она мне казалась просто редкостной красоткой, – сказал Перикито. – А теперь смотрю – ничего особенного.
– Сколько лет прошло, Перикито, – сказал инспектор. – И потом, восемь дырок мало кому на пользу пойдут.
– Щелкнуть тебя, Савалита? – сказал Перикито. – Бесеррита обязательно снимается рядом с трупом, целую коллекцию собрал. У него, наверно, несколько тысяч фотографий.
– Видел я его коллекцию, – сказал инспектор. – Уж, кажется, я ко всему привык, всякое видел, и то – в дрожь бросает.
– Когда приедем в редакцию, сеньор Бесеррита вам позвонит, – сказал Сантьяго. – Не стану вас больше отвлекать от дела. Очень вам благодарен.
– Скажите Бесеррите, чтоб заглянул к нам в контору так часиков в одиннадцать, – сказал инспектор. – Счастливо, юноша, рад был познакомиться.
Они вышли на площадку, и Перикито сфотографировал дверь соседней квартиры. На тротуаре по-прежнему толпились любопытные, заглядывая через плечо охранявшего выход полицейского, Дарио покуривал в машине: чего ж вы меня не взяли, мне бы тоже хотелось взглянуть. Они расселись, машина тронулась, и через минуту им наперерез выскочил фургончик «Ультима Ора».
– Мы их обскакали, – сказал Дарио. – Опростоволосился Норвин.
– Знай наших. – Перикито прищелкнул пальцами, подтолкнул Сантьяго локтем. – Она была любовницей Кайо Бермудеса. Видал один раз, как он с нею входил в шикарнейший кабак на улице Канон.
– Нет, – говорит Амбросио. – И не слышал, и в газетах не читал. Я, наверно, тогда уже в Пукальпе был.
– Кайо Бермудеса? – сказал Дарио. – Да это ж бомба!
– Должно быть, разгребая эту помойку, ты чувствовал себя Шерлоком Холмсом, – сказал Карлитос. – Тебе дорого это обошлось, Савалита.
– Ты был его шофером и не знал, кто его любовница? – говорит Сантьяго.
– Не знал, – говорит Амбросио. – И никогда ее не видел. Впервые слышу, ниньо.
Пока пикапчик «Кроники» пробирался через центр, а ты, Савалита, пытался разобрать свои каракули в блокноте и восстановить разговор с инспектором, на место первоначальной оторопи пришло тревожное возбуждение. Он выпрыгнул из машины, взбежал по лестнице в редакцию. Там уже горели все лампы и за всеми столами уже сидели люди, но он не стал ни с кем разговаривать, нигде не задержался. В лотерею, что ли, выиграл? – спросил его Карлитос, он ответил: сенсационный материал, Карлитос. Сел за машинку и целый час без передышки печатал, правил. А потом, Савалита, гордясь собой, ты болтал с Карлитосом и нетерпеливо поджидал Бесерриту. И вот наконец увидел его в дверях, думает он, – приземистого и жирного, постаревшего Бесерриту, увидел его шляпенку, знавшую лучшие времена, лицо отставного боксера, нелепые усики, желтые от никотина пальцы. Какое разочарование тебя ожидало, Савалита. Он не ответил на его «добрый вечер», мельком проглядел три странички и без всякого интереса выслушал рассказ Сантьяго. Одним преступлением больше, одним меньше – что это значило, Савалита, для этого человека, который дневал и ночевал в притонах, ничего, кроме убийств, краж, растрат, поджогов, грабежа и разбоя не знал и четверть века кормился за счет воров, проституток, педерастов, наркоманов? Однако он обескуражил тебя ненадолго, Савалита. Восхитить его было трудно, но дело свое Бесеррита знал, думает он. Кажется, ему понравилось, думает он. Он снял свою древнюю шляпу, снял пиджак, закатал рукава сорочки с резинками у локтей, как у бухгалтера, думает он, ослабил узел галстука, такого же засаленного и ветхого, как костюм и башмаки, и двинулся, надутый и брюзгливый, по комнате, не отвечая на поклоны, тяжело и медленно неся литое тело, прямо к столу Ариспе. Сантьяго подошел поближе, в закуток Карлитоса, чтобы не упустить ни слова. Бесеррита ударил костяшками пальцев по крышке пишущей машинки, и Ариспа поднял голову: ну-с, сударь, что хорошенького скажете?
– Центральную полосу целиком мне. – Голос у него, думает он, был надтреснутый, хрипловатый, слабый, и говорил он насмешливо. – И Перикито дня на три-четыре в полное мое распоряжение.
– А домик с роялем с видом на море? – сказал Ариспе.
– И кого-нибудь на подхват, вот хоть Савалиту, у меня двое ушли в отпуск, – сухо сказал Бесеррита. – Если хочешь, чтоб мы раскрутили это дело, давай сотрудника.
Ариспе в задумчивости погрыз кончик красного карандаша, просмотрел машинопись, потом ищуще оглядел редакцию. Ты влип, сказал Карлитос, откажись под любым предлогом, наври что-нибудь. Но ты не стал врать, Савалита, ты счастливым пошел к столу Ариспе – прямо к волку в зубы.
– Не соблаговолите ли поработать несколько дней с уголовщиками? – сказал Ариспе. – Бесеррите требуется ваша помощь.
– Теперь, значит, спрашивают о согласии, – едко пробормотал Бесеррита. – Когда я начинал в «Кронике», никому дела не было до моего мнения. Ну-ка, живо, сказали мне, обегайте все комиссариаты, мы открываем колонку полицейской хроники, поручаем ее вам. И вот уже двадцать пять лет меня держат на этом деле, и никто еще не спросил, нравится мне оно или нет.
– В один прекрасный день, сударь, вы лопнете от злости, – Ариспе ткнул себя карандашом в грудь, – сердечко не выдержит. Окстись, Бесеррита, если у тебя отнять полицейскую хронику, ты же зачахнешь с тоски. И потом, кто, если не ты? Ты – наш перуанский корифей.
– На кой мне сдалась моя слава, недели не проходит без протеста, – проворчал Бесеррита. – Чем хвалить, лучше бы прибавили построчную.
– Двадцать пять лет, сударь, вы задаром спите с самыми дорогими шлюхами, бесплатно напиваетесь в самых шикарных борделях, а все жалуетесь, все чем-то недовольны, – сказал Ариспе. – Что же нам тогда говорить – мы-то выворачиваем карманы перед тем, как заказать лишнюю рюмочку или взять девочку.
Тарахтенье машинок смолкло, над столами показались смеющиеся лица сотрудников, слушавших диалог Ариспе и Бесерриты, который тоже начал двусмысленно улыбаться, а потом издавать, точно давясь, хриплые смешки: когда он напивался, это сопровождалось икотой, отрыжкой и бранью.
– Годы не те, – сказал он. – Женщины мне больше не нравятся.
– А, так ты на старости лет сменил вкусы? – сказал Ариспе и поглядел на Сантьяго. – Будьте осторожны, теперь я понимаю, зачем Бесеррита просил дать вас ему в помощь.
– До чего ж у нас остроумное начальство, – проворчал Бесеррита. – Ну так что? Будет мне первая полоса? Перикито даешь?
– Даю, даю, только ты смотри не обижай его, – сказал Ариспе. – Надо потрясти подписчиков, поднять тираж, вот в чем штука, сударь.
Бесеррита кивнул, повернулся – снова затюкали машинки – и вместе с Сантьяго двинулся к своему столу. Стол стоял в самой глубине комнаты, думает он, оттуда он видел спины всех сотрудников и не уставал обыгрывать эту тему: напившись, выходил на середину, расстегивал пиджак, упирал кулаки в жирные бедра и кричал: я в заднице у вас у всех! Редакторы съеживались за машинками, утыкались носами в бумаги, и никто, даже Ариспе, не осмеливался посмотреть на Бесерриту, думает он, покуда тот вел медленным яростным взором по склоненным головам страшно озабоченных редакторов, – мою полосу в грош не ставите и меня, значит, тоже? – необыкновенно сосредоточенных корректоров, – потому и загнали меня на задворки, в задницу всей «Кроники»! – всецело поглощенного своим делом кудлатого Эрнандеса, – чтоб я день и ночь любовался задами господ из международного отдела, господ из внутренней информации, – и похаживал между столами с беспокойным видом генерала перед битвой, – чтоб господа редакторы пердели мне в нос? – и до основания потрясал редакцию взрывами громового хохота. Но когда однажды Ариспе предложил ему пересесть, думает он, Бесеррита страшно возмутился: из моего угла меня вынесут только вперед ногами. Стол у него был такой же низенький и неказистый, как его хозяин, и такой же грязный, как его неизменная желтовато-серая тройка в сальных пятнах. Теперь он уселся за него, закурил тоненькую сигаретку, а Сантьяго остался стоять, взволнованный тем, что выбор пал на тебя, Савалита, предвкушающий серию статей, которые ты, Савалита, напишешь: я, Карлитос, шел на бойню как на праздник, Карлитос.
– Ладно, раз уж ввязались в это дело, надо шевелиться. – Бесеррита снял телефонную трубку, набрал номер, приблизил брюзгливо сложенные губы к микрофону, что-то сказал туда, ухватил толстыми пальцами с грязными ногтями перо, вывел на листочке какие-то закорючки.
– Все искал сильных ощущений? – сказал Карлитос. – Они тебе нравились.
– Это в Порвенире, возьмите Перикито и валяйте прямо сейчас туда. – Бесеррита повесил трубку, поднял на Сантьяго гноящиеся глаза. – Там когда-то выступала убитая. Хозяйка меня знает. Расспросите, раздобудьте фотографии. Кто, что, где, с кем дружила, куда ходила. А Перикито пусть пощелкает.
Сантьяго спускался по лестнице, на ходу надевая пиджак. Бесеррита уже предупредил Дарио, и редакционный пикап загораживал проезд. Завывали автомобильные гудки. Тут же появился разъяренный Перикито.
– Я же предупреждал Ариспе, что с этим самодуром больше работать не стану, – вопил он на всю улицу. – А он меня ему отдает на целую неделю. Савалита, он от нас мокрое место оставит.
– Характер у него, конечно, сволочной, но за своих сотрудников бьется как лев, – сказал Дарио. – Если бы не он, эту пьянь Карлитоса давно бы выкинули вон. Так что не надо.
– Уйду я из газеты, не могу больше, – сказал Перикито. – Рекламой займусь. Неделя под Бесерритой – хуже, чем триппер поймать.
Поднялись по Кольмене до Университетского парка, спустились по Асангаро, миновали белесый каменный фронтон Дворца правосудия, въехали по проспекту Республики в сырые сумерки, а когда справа, посреди темного парка, показались освещенные окна и засияли неоновые огни «Хижины», Перикито захохотал, некстати развеселившись: о господи, глаза бы мои не глядели на нее, Савалита, в воскресенье мы тут нажрались, до сих пор печенка болит.
– Бесеррита одной своей страничкой может закрыть любой бордель, любой шалман, погубить любую бандершу, – сказал Дарио. – Бесеррита – это король ночной Лимы. И скажу вам, никто так не носится со своими сотрудниками – Бесеррита их и поит, и по бабам водит. Не знаю, Перикито, чего тебе еще нужно, чем ты недоволен.
– Ладно, ладно, – согласился Перикито. – Во всем надо видеть светлую сторону. Если уж пришлось с ним работать, постараемся сыграть на его слабой струнке.
Заведения с девочками, вонючие кабаки, злачные места, где заблеванные полы посыпают опилками, фауна города Лимы в три утра. Вот где была его слабая струнка, думает он. Вот там он размякал, делался похожим на человека и вызывал к себе теплое чувство, думает он. Дарио затормозил: по полутемным тротуарам катился плотный ком людей с неразличимыми лицами, и изнемогающие фонари Порвенира лили на сумрачные фигуры слабый, скупой свет. Стоял туман, ночь была сырая. Двери «Монмартра» были закрыты.
– Постучите, Пакета, наверно, там, – сказал Перикито. – «Монмартр» открывается совсем под утро, сюда стекаются все, кто недобрал.
Постучали в стеклянную дверь – пианист в красноватом сиянии, думает он, а зубы такие же белые, как клавиши его рояля, две танцовщицы с пышными плюмажами на голове и на заду, – послышались шаги, и появился тощий парень в белой жилетке и галстуке-бабочке, глянул на них с опаской: вы из «Кроники»? Прошу, хозяйка вас ждет. Заставленный бутылками бар, потолок, усеянный платиновыми звездами, пятачок танцевальной площадки, микрофон на штативе, столики, кресла. Отворилась незаметная дверца в глубине бара, добрый вечер, сказал Перикито, и – помнишь? – выплыла Пакета – глаза в черных ореолах туши и длиннющих накладных ресниц, пухлые щеки, крутые бедра в удушье узких брючек, поступь канатоходца.
– Сеньор Бесерра вам, наверно, говорил? – сказал Сантьяго. – Мы по поводу убийства в Хесус-Мария.
– Он обещал, что меня нигде не упомянут, он слово дал, надеюсь, он его сдержит. – Помнишь, Савалита, ее губчатую руку, заученную улыбку, медовый голос с едва уловимым привкусом ненависти и тревоги. – Вы же понимаете, может пострадать репутация кабаре.
– Нам нужны только некоторые сведения, – сказал Сантьяго. – Кем она была, чем занималась.
– Да мы едва были знакомы, я почти ничего не знаю, – уклончивые взмахи жестких ресниц, кривящиеся толстые губы цвета граната, – уже полгода, как она перестала у нас петь. Нет, больше: уже восемь месяцев. Она ведь почти потеряла голос, я ее пригласила из чистой жалости, и исполняла она три-четыре номера в вечер. А до этого работала в «Лагуне».
Она замолчала, потому что в руках Перикито вспыхнула первая радуга, уставилась, открыв рот, на фотографа, деловито снимавшего бар, танцплощадку, микрофон.
– Ну, зачем это? – недовольно сказала она. – Бесеррита же мне поклялся, что меня даже не упомянут.
– Затем, что надо показать одно из мест, где убитая работала, а ваше имя мы не назовем, – сказал Сантьяго. – Мне бы очень хотелось узнать что-нибудь из ее личной жизни. Какое-нибудь происшествие, забавный случай, в этом роде.
– Я ж вам сказала, почти ничего не знаю. – Пакета продолжала следить взглядом за Перикито. – Во всяком случае, не больше того, что всему городу известно. Много лет назад была довольно знаменита, выступала в «Амбесси», жила сами знаете с кем. Ну, этого, впрочем, вы не напечатаете.
– Это почему же? – засмеялся Перикито. – У нас ведь теперь в президентах не Одрия, а Мануэл Прадо, а «Кроника» наша принадлежит его же семейству. Так что можем писать все, что захочется.
– Я тоже думал, что можем, Карлитос, – сказал Сантьяго. – И в первой статье написал: «Зверское убийство бывшей любовницы Кайо Бермудеса».
– А я думаю, Савалита, что вы слегка рехнулись, – зарычал Бесеррита, злобно перебирая листки. – Ладно, теперь узнаем, что думает начальство.
– Лучше бы так: «Звезда фарандолы зарезана» – это вызовет больший интерес, – сказал Ариспе. – Кроме того, так считают наверху.
– Она была на содержании у этого мерзавца или нет? – сказал Бесеррита. – А если была и если этого мерзавца духа нет не только в правительстве, но и вообще в стране, почему ж нельзя?
– А потому, сударь, что директорат не велит, – сказал Ариспе.
– Вот этот довод сокрушительный, – сказал Бесеррита. – Ну-ка, выправьте статью: всюду, где «бывшая любовница Кайо Бермудеса», поставьте «бывшая королева фарандолы».
– А потом Бермудес ее бросил, убежал за границу, это было в последние дни Одрии. – Пакета моргнула от очередной вспышки. – Помните, когда началась эта заварушка в Арекипе? Она вернулась на эстраду, но была уже совсем не та, что раньше. И голос не тот, и вообще. Стала пить, пыталась однажды с собой покончить. Устроиться надолго нигде не могла. Плохи были ее дела.
– И за все то время, что ты его возил, у него не было бабы? – говорит Сантьяго. – Ну, значит, он педераст.
– Как жила? – сказала Пакета. – Я ж говорю: плохо жила. Пила, любовники ее бросали, денег никогда не было. Мне ее стало жалко, вот и заключила с ней контракт, месяца два она тут работала, нет, меньше. Гостям она не нравилась. Песенки вышли из моды. Она попыталась было угнаться, сменить репертуар, но новые ритмы ей не давались.
– Любовниц не было, а бабы были, – говорит Амбросио. – «Курочки».
– Ну, а с наркотиками, сеньора, как обстояли дела? – сказал Сантьяго.
– С чем? – изумленно переспросила Пакета. – С наркотиками?
– Он ходил в бордели, – говорит Амбросио, – я его сто раз возил. К Ивонне, к этой. Очень часто ездили.
– Но ведь и у вас, сеньора, были неприятности по этой части, – сказал Сантьяго, – и вас задерживали вместе с убитой. Благодаря стараниям сеньора Бесерры в газеты ничего не просочилось. Как же вы не помните?
Мгновенная судорога передернула мясистое лицо, толстые неподвижные ресницы затрепетали от негодования, но сейчас же припоминающая улыбка упрямо вернулась на место, смягчая ее черты. Пакета чуть сощурилась, как бы проникая внутренним взором в прошлое и отыскивая там среди прочего этот пустяковый случай: ах, вот вы про что, да-да.
– Да и Лудовико, помните, я вам про него рассказывал? Это он меня подбил уехать в Пукальпу и стал шофером дона Кайо, так он тоже часто возил его в бордель, – говорит Амбросио. – Так что нет, ниньо, не педераст он.
– Никаких наркотиков, никаких наркотиков не было, а было недоразумение, которое сразу же разъяснилось, – сказала Пакета. – Полиция арестовала тут одного, появлялся тут время от времени, он, кажется, подторговывал кокаином, ну, а нас с нею пригласили как свидетелей. Мы ничего не знали, и нас сразу же отпустили.
– С кем она виделась, общалась, водила знакомство? – сказал Сантьяго.
– То есть кто любовник? – показала неровные зубы, Савалита, сверкнула глазами. – Да у нее их знаете сколько.
– Имена можете не называть, – сказал Сантьяго. – Что это были за люди, из какой среды?
– Крутила романы, но в подробности меня не посвящала, мы подругами не были, – сказала Пакета. – Я знаю то, что все знают: распутную жизнь вела, вот и все.
– А родня у нее какая-нибудь осталась? – сказал Сантьяго. – Или близкая подруга? Кто бы нам помог разобраться?
– Нет, кажется, родни не было, – сказала Пакета. – Сама-то говорила, что она из Перу, но многие считали ее иностранкой. Ходили слухи, что перуанский паспорт ей выправил сами знаете кто.
– Еще сеньор Бесерра просил какие-нибудь фотографии, когда она здесь пела, – сказал Сантьяго.
– Фотографии я вам дам, с одним условием: вы уж, пожалуйста, не упоминайте меня, не впутывайте в это дело, – сказала Пакета. – Договорились? Бесеррита мне обещал.
– Обещанное – свято, сеньора, – сказал Сантьяго. – Теперь последнее, и я вас оставлю в покое. Кто бы все-таки мог бы нам о ней рассказать?
– Когда она перестала у меня петь, я ее больше вообще не видела. – Пакета вздохнула и вдруг с таинственно-доверительным видом сказала: – Однако кое-что слышала. Поговаривали, что она пошла в заведение, сами понимаете какое. Ручаться не могу. Знаю, что жила вместе с одной женщиной, а та работала у француженки.
– У Ивонны? – сказал Сантьяго.
– Вот ее-то как раз можете назвать, – засмеялась Пакета, и всю сладость в ее голосе затопила прорвавшаяся ненависть. – Назовите, пусть полиция ее притянет, она ох как много знает.
– А как звали ту женщину, вместе с которой она жила? – сказал Сантьяго.
– Кета? – говорит Амбросио, а через минуту ошеломленно повторяет: – Неужто Кета?
– Если узнают, что я вам сказала, как ее зовут, они меня уничтожат, француженка – мой самый злейший враг. Как крестили – не знаю, а имя она себе взяла – Кета.
– Ты никогда ее не видел? – говорит Сантьяго. – И от Бермудеса никогда не слышал?
– Они жили вместе, и чего только про них не говорили, – взмахнула ресницами Пакета. – Они вроде бы не только дружили. Наверно, это вранье.
– Не видел и не слышал, ниньо, – говорит Амбросио. – Стал бы дон Кайо рассказывать своему шоферу, с кем он путается.
Они вышли, и туманный влажный полумрак Порвенира охватил их. Дарио, склонясь к рулю, клевал носом. Когда он включил зажигание, с тротуара донесся сердитый лай.
– Смотри-ка, все забыла: и про марафет, и про то, что ее арестовали вместе с Музой, – засмеялся Перикито. – Ах, паскудная баба.
– Да она рада до смерти, что Музу пришили, она ее ненавидит и даже скрыть это не может, – сказал Сантьяго. – Заметил, Перикито? И пила, и голос потеряла, и по рукам пошла.
– Но ты много вытянул из Пакеты, – сказал фоторепортер. – Грех жаловаться.
– Да ну, какой там много, – сказал Бесеррита. – Копайте, копайте. Докапывайтесь.
Это были беспокойные и напряженные дни, Савалита, думает он, ты ожил, заинтересовался, увлекся, ты без устали колесил по городу, собирая сведения в кабаре, радиостудиях, пансионах, публичных домах, ты терся среди разнообразной фауны ночного города.
– Муза – нехорошо, – сказал Бесеррита. – Надо ее окрестить заново. Вот, к примеру: «По следам Ночной Бабочки».
Ты писал длинные репортажи, сочинял заголовки и подписи к фотографиям и все больше увлекался этим. Бесеррита пробегал их, брезгливо морщась, правил грозным красным карандашом, придумывал «шапки»: «Новые данные о богемной жизни Ночной Бабочки, убитой на Хесус-Мария»; «Была ли Муза женщиной с темным прошлым?»; «Журналисты „Кроники“ обнаружили новую участницу преступления, ужаснувшего Лиму»; «От начала артистической карьеры – к кровавому концу?»; «Ночная Бабочка скатилась к самому низкому распутству, утверждает владелица кабаре, где была спета последняя песенка Музы»; «Не наркотики ли лишили ее голоса?»
– Вы обставили «Ультима Ора», Бесеррита, – сказал Ариспе. – Вы им вставили фитиль. Продолжайте в том же духе.
– Лей, лей погуще, погорячей, – говорил Карлитос. – Читающая публика требует.
– Вы делаете успехи, Савалита, – говорил Ариспе. – Лет через двадцать из вас выйдет толк.
– Я с таким восторгом собирал и копил это дерьмо: сегодня – кучку, завтра – кучку, – сказал Сантьяго. – И вот теперь целая гора, и теперь изволь все съесть. Вот, Карлитос, вот что со мной случилось.
– Ну, сеньор Бесерра, кончили на сегодня? – сказал Перикито. – Можно по домам?
– Мы еще и не начинали, – сказал Бесеррита. – Сейчас поедем к «мадам», выясним, с кем путалась Муза.
Их встретил Робертито: милости прошу, господа, будьте как дома, чем вас сегодня порадовать, сеньор Бесеррита? Но тот мгновенно охладил его: мы по делу, в кабинет пройдем, можно? Разумеется, сеньор Бесерра, проходите, проходите.
– Притащи-ка им пива, – сказал Бесеррита. – А мне – мадам. Только поживей.
Робертито взмахнул пушистыми ресницами, кивнул, недружелюбно хихикнув, и в дверях сделал антраша. Перикито рухнул в кресло, раскинул ноги: до чего ж тут хорошо, до чего же шикарно. Сантьяго сел рядом. Кабинет был весь устлан коврами, думает он, свет был мягкий, боковой, а по стенам висели три картины. На одной белокурый юноша в маске гнался по извилистой тропинке за убегавшей от него на цыпочках очень белокожей девушкой с осиной талией. На другой он ее уже поймал и падал вместе с нею к подножью плакучих ив, а на третьей девушка с оголенной грудью лежала на траве с томно-тревожным выражением лица, а юноша нежно целовал ее округлые плечи. Дело происходило на берегу озера или реки, и вдалеке плыла стая лебедей с длинными шеями.
– Что за молодежь пошла, – с удовлетворением констатировал Бесеррита. – Ничего на уме, кроме пьянства и разврата.
Губы его кривились насмешливой ухмылкой, горчичного цвета пальцы пощипывали усики, шляпу он сбил на затылок и, расхаживая взад-вперед по комнате, напоминал злодея, думает он, злодея из мексиканского фильма. Вошел с подносом Робертито.
– Сейчас придет, сеньор Бесерра, – низко поклонился он. – Спрашивала, не желательно ли вам стаканчик виски?
– Я не пью, у меня язва, – буркнул Бесеррита. – Выпьешь, а наутро кровью с… будешь.
Робертито исчез, и появилась Ивонна. Помнишь, Савалита, ее длинный, сильно напудренный нос, ее шумящее шелком, переливающееся блестками платье? Зрелая, тертая, дошлая, улыбающаяся женщина поцеловала Бесерриту в щеку, великосветским движением протянула руку Перикито и Сантьяго. Взглянула на поднос – что же Робертито вас не обслужил? – сделала укоризненную гримасу и, наклонившись, сама – очень ловко, почти без пены – наполнила стаканы до половины и протянула их посетителям. Потом села на краешек кресла, вытянула шею – кожа под глазами собралась в складки, – положила ногу на ногу.
– Ну, нечего пялиться, – сказал Бесеррита. – Отлично понимаешь, почему мы тут.
– Не могу поверить, что ты не пьешь, – помнишь, Савалита, ее иностранный выговор, ее уверенные и округлые движения всем на свете довольной матроны, главы рода? – Ты же старый пьяница, Бесеррита.
– Язва меня чуть не доконала, – сказал Бесеррита. – Теперь, кроме молока, ничего в рот не беру. Притом коровьего.
– Ты все такой же. – Она повернулась к Перикито и Сантьяго: – Мы с этим старикашкой – как брат с сестрою, мы сто лет знакомы.
– И за эти сто лет без легкого кровосмешения не обошлось, – засмеялся Бесеррита и тем же шутливо-фамильярным тоном продолжал: – Ну теперь представь, что ты пришла ко мне на исповедь, и отвечай: как долго пробыла у тебя Муза?