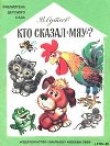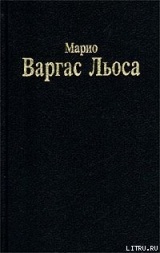
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 39 страниц)
– Муза? У меня? – улыбнулась Ивонна. – Ваше преподобие, зачем вы повторяете грязные сплетни?
– Теперь я вижу, дочь моя, что ты мне не доверяешь. – Бессерита присел на подлокотник ее кресла. – Теперь я вижу, что ты говоришь неправду.
– Святой отец, у вас, наверно, не все дома. – Ивонна хлопнула Бессериту по колену. – Если бы она работала у меня, я бы тебе сказала.
Она достала из рукава платочек, промокнула глаза, перестала улыбаться. Разумеется, она ее знала, несколько раз приходила сюда, когда была подругой, ну, Бессерита сам знает кого. Он ее привозил сюда развлечься, посмотреть через то окошечко из бара. Но, насколько ей, Ивонне, известно, она никогда ни в одном заведении ни работала. И снова засмеялась без изысканности. Ее морщины у глаз и на шее, думает он, ее ненависть: клиентуру свою бедняжка находила на панели, как сучка беспородная.
– Видно, мадам, ты ее очень сильно любила, – проворчал Бессерита.
– Когда Бермудес ее взял на содержание, она чихала на всех через плечо, – вздохнула Ивонна. – Меня на порог не пускала. Потому, когда она всего лишилась, и ей никто не пришел на помощь. А что его упустила – так сама виновата. Не надо было пить и нанюхиваться.
– Да ты просто в восторге, оттого что ее пришили, – улыбнулся Бессерита. – Какой всплеск чувств.
– Когда прочла в газетах, мне стало ее очень жалко, – сказала Ивонна. – И потом, эти ужасные фотографии: подумать, как она жила, как скверно кончила. А если ты растрезвонишь, что она у меня служила, я буду только рада. Реклама – путь к процветанию.
– Как ты уверенно держишься, – бледно улыбнулся Бессерита. – Наверно, нашла покровителя не хуже, чем был Кайо Бермудес.
– Это все поклеп. Бермудем не имел ко мне никакого отношения, – сказала Ивонна. – Он был моим клиентом, таким же, как все прочие.
– Ладно, ближе к унитазу, чтоб не на пол, – сказал Бессерита. – Она здесь не работала. Хорошо. Теперь позови-ка ту, которая с ней жила. Мы ее расспросим и оставим вас обеих в покое.
– Которая с ней жила? – Знаешь, Карлитос, она переменилась в лице, побледнела, вся вальяжность с нее слетела. – Ты хочешь сказать, что кто-то из девочек жил с Музой?
– Ах, значит, полиция тебя еще не побеспокоила. – Бессерита поскреб усики, алчно облизнулся. – Ну, это не на горами. Готовьтесь, мадам. Рано или поздно они явятся и допросят – и тебя, и некую Кету.
– Кета? – Мир рушился, Карлитос, почва уходила у нее из-под ног. – Что ты говоришь, опомнись, Бессерита!
– Они ежедневно меняют имена, и поди, догадайся, кто есть кто, – пробормотал Бессерита. – Но ты не бойся, мы же не из полиции. Позови ее. Душевный разговор, и ничего больше.
– Кто тебе сказал, что Кета жила с ней? – Ивонна улыбалась из последних сил, пытаясь держаться с прежней непринужденностью.
– Учти, Ивонна, я-то тебе доверяю, я-то – твой истинный друг. – Бессерита назидательно воздел перст. – Мне сказала это Пакета.
– Ах, сукино отродье, тварь распоследняя, потаскуха! – Представляешь, Карлитос: сначала – дама из высшего общества, потом – испуганная старушка, а потом – просто пантера. – Из гузна выползла на свет божий, паскуда!
– Мадам, – счастливый Бессерита положил ей руку на плечо, – как вы замечательно ругаетесь, я восхищен и тронут. Мы отомстим за вас: завтра появится заметочка о том, что нет во всей Лиме более подозрительного и мерзкого притона, чем «Монмартр».
– Ты же ее погубишь. – Ивонна сжала его колено. – Разве ты не понимаешь, что полиция ее арестует, будет тягать на допросы.
– Она видела что-нибудь? – понизил голос Бессерита. – Она знает что-нибудь?
– Да нет, конечно, просто не хочет, чтоб ее впутывали в эту историю, – сказала Ивонна. – Ты ее погубишь. За что?
– Не собираюсь я ее губить, мне надо всего лишь, чтобы она сообщила кое-какие сведения о личной жизни Музы. Имени ее мы не назовем, о том, что они жили вместе, не упомянем. Моему честному слову ты, надеюсь, поверишь?
– Разумеется нет, – сказала Ивонна. – Ты такая же паскуда, как и Пакета.
– Ах, вот, значит мадам, какого вы обо мне мнения. – Бесеррита с беглой улыбкой покосился на Сантьяго и Перикито. – Что ж, ты в своем праве.
– Кета – хорошая девушка, Бесеррита, – сказала тихо Ивонна. – Не топи ее. И потом, тебе это может слишком дорого обойтись. Я тебя предупреждаю. За нее есть кому заступиться.
– Не надо сцен, – улыбнулся Бесеррита. – Позови ее. Обещаю, что ничего ей не будет.
– Неужели ты считаешь, что она, после того что случилось с ее подругой, могла прийти на работу? – сказала Ивонна.
– Хорошо, разыщи ее и устрой мне с ней встречу, – сказал Бесеррита. – Мне нужны всего лишь некоторые данные о погибшей. И передай ей: не захочет разговаривать со мной – я напечатаю ее имя на первой полосе, и тогда уж придется беседовать с полицией.
– Клянешься, что нигде не будешь ее упоминать? – сказала Ивонна.
Бесеррита кивнул. На лицо его постепенно наплывало довольное выражение, глаза заблестели. Он поднялся, подошел к столу, проворно взял стакан Сантьяго и залпом выпил. Белая пена окаймила губы.
– Клянусь. Разыщи ее и позвони мне, – торжественно сказал он. – Мой телефон у тебя есть.
– Неужели позвонит? – сказал Перикито уже потом, в машине. – Я-то думаю, она ей скажет: «Милая Кета, щелкоперы из „Кроники“ нацелились на тебя, узнали, что ты жила с Музой, спрячься, исчезни».
– Да что ж это за Кета такая? – сказал Ариспе. – Вроде бы мы должны ее знать, Бесеррита.
– Очевидно, штучка высшего разбора, птичка-надомница, – сказал Бесеррита. – Мы ее и знаем, только под другим именем.
– Вот что, сударь, – сказал Ариспе, – надо эту штучку-птичку найти во что бы то ни стало, хоть всю Лиму переверни.
– Кто-то, кажется, сомневался, что «мадам» мне позвонит? – Бесеррита не тщеславился, а глядел насмешливо. – Сегодня в семь у нас свидание. Шеф, всю первую полосу мне.
– Проходите, проходите, пожалуйста, – сказал Робертито, – сюда, сюда. Садитесь.
Теперь, когда в единственное окно проникало предзакатное солнце, комната потеряла свое таинственное очарование. Стало заметно, думает он, что обои выцвели, обивка вылиняла, а ковер прожжен и прорван во многих местах. У девушки с картинок вместо лица было какое-то пятно, и лебеди утратили четкость очертаний.
– Здравствуй, Бесеррита. – Ивонна не поцеловала его, не протянула руки. – Я поклялась Кете, что ты сдержишь свое слово. Зачем ты притащил с собой этих?
– Скажи Робертито, чтоб пива принес, – сказал Бесеррита, не вставая с дивана, не глядя на женщину, вошедшую вместе с Ивонной. – Сегодня мы заплатим.
– Высокая, ножки славные, мулатка, волосы рыжие, – сказал Сантьяго. – Прежде я никогда ее у Ивонны не видал, Карлитос.
– Садитесь, ребята, – по-хозяйски предложил Бесеррита. – Выпьете чего-нибудь?
Робертито разлил пиво по стаканам, руки у него дрожали, ресницы трепетали, взгляд был испуганным. Он чуть не бегом выскользнул из комнаты, притворил за собой дверь. Кета опустилась на узкий диванчик, думает он, она-то как раз страха не выказывала, а глаза у Ивонны горели.
– Ага, ну, раз я тебя здесь не видел, тебя держат для особых случаев, – сказал Бесеррита, прихлебывая пиво. – Работаешь дома, обслуживаешь избранную публику.
– Где я работаю, вас не касается, – сказала Кета. – И почему это вы мне тыкаете?
– Не надо, не заводись, – сказала Ивонна. – Он просто хамоват по натуре. Задаст тебе два-три вопроса, и все.
– А вот вам никогда в жизни моим клиентом не стать, – сказала Кета. – Таких денег, что я беру за ночь, вы и в руках-то не держали.
– Ну, слава богу, гора с плеч, – засмеялся Бесеррита, вытирая усы. – Скажи-ка, с какого времени ты жила с Музой в Хесус-Мария?
– Никогда я с ней не жила, все это брехня этой!.. – закричала Кета, но Ивонна схватила ее за руку, и она понизила голос: – Не впутывайте меня в это дело. Я вас предупреждаю, что…
– Мы не из полиции, а из газеты, – сказал Бесеррита. – И речь не о тебе, а о Музе. Расскажи все, что знаешь о ней, мы выйдем и сейчас же тебя забудем. Зачем нам ссориться, Кета.
– А грозить зачем? – закричала Кета. – Зачем хозяйке говорили, что сообщите в полицию? Вы думаете, мне есть чего скрывать?
– Если тебе нечего скрывать, значит, нечего и полиции бояться, – сказал Бесеррита и опять отхлебнул из стакана. – Я пришел по-дружески с тобой поговорить. Так что не будем ссориться.
– Ему можно верить, Кета, он свое слово сдержит, – сказала Ивонна. – Он тебя не назовет. Ответь ему на его вопросы.
– Ладно, сеньора, – сказала Кета. – Ну, давайте спрашивайте.
– Вот это другой разговор, – сказала Бесеррита. – Я, Кета, человек слова. Так с какого времени ты жила с Музой?
– Я с ней не жила. – Она, Карлитос, изо всех сил старалась совладать с собой, отводила взгляд, а если ненароком встречалась с ним глазами, голос ее пресекался. – Мы дружили, иногда я оставалась у нее ночевать. Переехала она на Хесус-Мария чуть больше года назад.
– Довел до истерики, а потом расколол, – сказал Карлитос. – Это его метод. Добиться, чтоб нервы сдали, и вытянуть все. Больше подходит полицейскому, а не журналисту.
Сантьяго и Перикито не притрагивались к пиву, не вмешивались в разговор, молча следили за его ходом. Да, Савалита, теперь он будет ее потрошить, теперь она все выложит. Голос ее, думает он, то срывался на крик, то был еле слышен, и Ивонна похлопывала ее по руке: успокойся, мол. У бедняжки дела шли все хуже и хуже, особенно после того, как потеряла ангажемент в «Монмартре», а Пакета показала себя в этом деле последней скотиной. Выкинула ее, можно сказать, на улицу, хоть знала, что та подыхает с голоду. Романы еще случались, но такого любовника, чтоб снял ей квартиру и платил ежемесячно, подцепить уже не смогла. И тут, Карлитос, она вдруг заплакала, и не потому, что Бесеррита допек ее вопросами, – заплакала по Музе. Значит, верность еще кое-где сохранилась, Савалита, – среди проституток, например.
– Значит, бедняжка уже дошла до ручки, – загрустил Бесеррита: одна рука приглаживает усы, другая держит стакан, поблескивающие глазки устремлены на Кету. – Соглашалась за бутылку, за дозу.
– Это тоже напечатаете? – зарыдала Кета. – Мало всей той грязи, что вы на нее каждый день вываливаете, теперь еще и про это напишете?
– О том, что скатилась на дно, что стала почти уличной, что пила, уже растрезвонили все газеты, – вздохнул Бесеррита. – Мы, по крайней мере, выпятили светлую сторону: дескать, была в свое время знаменита, стала «Королевой фарандолы» и что это вообще одна из самых очаровательных женщин Лимы.
– Чем раскапывать ее прошлое, лучше бы нашли убийцу и того, кто его послал. – Кета закрыла лицо руками. – О них небось помалкиваете, духу не хватает.
Тогда, Савалита, это случилось? Да, думает он. Окаменевшее лицо Ивонны, думает он, страх и смятение в ее глазах, пальцы Бесерриты, поглаживавшие усы и вдруг замершие, локоть Перекито, толкнувший тебя в бок. Все четверо сидели неподвижно, глядя на неутешно рыдавшую Кету. Глаза Бесерриты вспыхнули, вонзились в склоненное рыжеволосое темя.
– Я ничего не боюсь и обо всем пишу, бумага все стерпит, – почти нежно прошептал Бесеррита. – Если у тебя духу хватит, за меня не беспокойся. Кто? Кто это может быть, по-твоему?
– Если уж не хватило ума не ввязываться, – испуг на лице Ивонны, ужас на лице Ивонны, Карлитос, ее крик, – если уж наплела бог знает что, так хоть…
– Ты не понимаешь, мадам. – Голос Бесерриты стал плачущим. – Она не хочет, чтобы убийство Музы осталось нераскрытым, чтоб так и повисло. Если Кета решится, я тоже решусь. Кто это мог, по-твоему, сделать?
– Ничего я не наплела, сеньора, – сквозь рыдания сказала Кета, и вдруг, Карлитос, она вскинула голову и выпалила: – Вы сами знаете, что ее убил человек Кайо-Дерьма.
Из всех пор выступил пот, все кости затрещали. Не пропустить ни звука, ни слога, не шевельнуться, не дышать, а где-то под ложечкой вдруг ожил червячок, становясь змеей с острым жалом – как тогда, думает он, нет, куда хуже, чем тогда. Ох, Савалита.
– Вы что это, ниньо, никак плачете? – говорит Амбросио. – Больше не пейте.
– Если хочешь, я так и напишу, и напечатаю один к одному, а не хочешь – не стану, – забормотал Бесеррита. – Кайо-Дерьмо – это Бермудес? Ты уверена, что это он велел ее убить? Эта сволочь сейчас далеко от Перу, Кета.
Помнишь, Савалита: разъехавшееся от рыданий лицо, вспухшие, покрасневшие от слез глаза, дрожащие губы, качающаяся из стороны в сторону голова, машущая рука: нет, не Бермудес.
– Да что за человек? – настаивал Бесеррита. – Ты видела его? Ты была при этом?
– Кета ездила в это время в Гуакачину, – вмешалась Ивонна. – С сенатором ездила, если уж на то пошло.
– Я три дня не виделась с Ортенсией, – рыдала Кета. – Узнала из газет. Но я не вру, я знаю.
– Откуда он взялся, этот человек? – повторил Бесеррита, впившись глазами в Кету, а рукой нетерпеливо осаживая Ивонну: «Не мешай, молчи!» – Без согласия Кеты я ни строчки не напечатаю. Если она не решится, и я не сунусь.
– Ортенсия много знала об одном денежном тузе, она же голодала и мечтала только уехать отсюда, – захлебывалась слезами Кета. – Она же не по злобе, а только чтобы уехать и все начать сначала там, где ее никто не знает. Когда ее убили, я сама чуть не умерла. Мало ей горя принес эта сволочь Бермудес и все прочие, когда она скатилась вниз.
– Понятно. Она тянула из него деньги, и он приказал ее убить, чтоб прекратить шантаж, – мягко, нараспев проговорил Бесеррита. – И кого ж он нанял?
– Не нанял, а уговорил, – сказала Кета, взглянув Бесеррите прямо в глаза. – Он уговорил его, убедил. Тот был как раб, во всем ему подчинялся, даже в таких делах, о которых говорить совестно.
– Нет, все, я это опубликую, – повторял вполголоса Бесеррита. – Это же черт знает что! Я тебе верю, Кета.
– Златоцвет приказал ее убить, – сказала Кета. – А убийца – тот, с кем он жил. Зовут его Амбросио.
– Златоцвет? – И тут он сорвался с места, Карлитос, заморгал, поглядел на Перикито, потом на меня, потом смутился и перевел взгляд на Кету, потом уставился в пол и все повторял как идиот: Златоцвет! Златоцвет?
– Это прозвище Фермина Савалы, теперь-то ты видишь, что она бредит? – Это крикнула тоже вскочившая на ноги Ивонна. – Теперь ты видишь, что все это ерунда? Даже если правда, все равно несусветная глупость. Все это она выдумала.
– Ортенсия тянула из него деньги и угрожала, что расскажет жене и вообще всем на свете про его шофера, – зарычала Кета. – Все это правда, а он, вместо того чтобы отправить ее в Мексику, подослал к ней своего любовника. Ну, что, напечатаете?
– Ну, мы и вляпались все, по уши! – И он повалился на диван, Карлитос, стараясь не встречаться со мной глазами, запыхтел и вдруг, чтоб занять чем-нибудь руки, схватил свою шляпу, нахлобучил ее на голову. – А чем докажешь? А откуда ты это взяла? Ты меня на пушку не бери, Кета, я этого не люблю.
– Я ей говорила и в сотый раз повторяю: все это – полная чушь, – сказала Ивонна. – Доказательств у нее нет, сама в это время была в Гуакачине, ничего не знает. А и были бы доказательства, кто ей поверит, кто ее всерьез-то примет? Ничего себе – Фермин Савала! Сколько у него миллионов? Хоть ты ей объясни, Бесеррита, что с ней сделают, если не заткнется.
– Ты вляпалась в дерьмо, Кета, и нас за собой тащишь. – Он рычал, Карлитос, он корчил рожи, поправлял шляпу. – Если напечатаем, нас всех запрут в сумасшедший дом. Ты этого хочешь, Кета?
– Невероятно, что он так себя вел, – сказал Карлитос. – Но, видишь, нет худа без добра: по крайней мере, вся эта мерзость обнаружила, что и Бесеррита – человек, что и он способен к нормальным человеческим чувствам.
– Савалита, чего вы расселись тут? – Бесеррита посмотрел на часы, выговорил с мучительно давшейся ему естественностью: – Вам делать нечего? Идите работать.
– Трус, жалкий трус, – глухо сказала Кета. – Я так и знала, что пойдешь на попятный.
– Хорошо хоть, что ты сумел встать и выйти и не разреветься, – сказал Карлитос. – Я боюсь только, как бы девки не поняли, в чем дело: тогда тебе путь к Ивонне заказан. А ведь ее заведение – лучшее в Лиме.
– Хорошо, что я тебя нашел тогда, Карлитос, – сказал Сантьяго. – Не знаю, что бы я делал в ту ночь без тебя.
Да, ему повезло, что он встретил Карлитоса, что побрел не в пансион, а на площадь Сан-Мартин, что не пришлось в полном одиночестве плакать в подушку, чувствуя, что мир рухнул, не зная, покончить ли с собой, убить ли отца. Бедный старик, Савалита. Да, он сумел встать, сказал «до свиданья», вышел из комнаты, столкнувшись в дверях с Робертито, и добрался до площади Второго Мая, так и не поймав такси. Ты жадно заглатывал холодный воздух, Савалита, ты слышал, как колотится сердце, и время от времени переходил с шага на бег. Ты вскочил в автобус, вылез на Кольмене и вдруг увидел, как из-за столика в баре «Села» поднимается несуразная фигура Карлитоса и машет тебе рукой. Ну что, Савалита, вы уже были у Ивонны? Пришла к вам эта самая Кета? А Бесеррита где? А Перикито? Но когда он подошел поближе, сразу заговорил по-другому: что стряслось, Савалита?
– Мне плохо. – Ты, Савалита, вцепился в него. – Мне очень плохо, Карлитос.
Да, это был Карлитос, и он смотрел на тебя в растерянности, а потом хлопнул по плечу: надо пойти дернуть, Савалита. И он покорно поплелся за тащившим его Карлитосом и, как лунатик, спустился по лесенке «Негро-негро», слепыми спотыкливыми шагами пересек полутьму бара. Их всегдашний столик был свободен, два немецких пива, крикнул Карлитос и откинул голову к колонкам «Нью-Йоркера».
– После очередного кораблекрушения нас всегда прибивает к этому берегу. – Его косматая голова, думает он, и светящееся в глазах участие, и небритое лицо, и желтоватая кожа. – Этот шалман нас притягивает.
– В пансионе я бы, наверно, сошел бы с ума, Карлитос, – сказал Сантьяго.
– Я-то подумал сначала, что это так называемые пьяные слезы, но теперь вижу: нет, – сказал Карлитос. – С Бесерритой нельзя не поругаться. Он что, напился и покрыл тебя в три этажа? Не обращай внимания.
Язвительные, глянцевито поблескивающие разноцветные карикатуры по стенам, говор и гул невидимых посетителей. Официант принес пиво, они выпили одновременно. Карлитос поглядел на него поверх стакана, протянул сигарету, чиркнул спичкой.
– Помнишь, Савалита, здесь мы с тобой вели нашу первую мазохистскую беседу, – сказал он. – Здесь мы признались друг другу, что я не состоялся как поэт, а ты – как коммунист. Теперь мы просто два газетчика. Мы с тобой здесь подружились.
– Мне надо это кому-нибудь рассказать, иначе я сгорю, Карлитос, – сказал Сантьяго.
– Если тебе станет легче, я готов, – сказал Карлитос. – Только сперва подумай. Мне тоже иногда случалось изливать душу разным людям, а потом я не знал, куда деться от ненависти к тем, кто узнал мои слабости. Может быть, завтра, Савалита, и ты меня возненавидишь.
Но Сантьяго, не отвечая, снова заплакал. Он согнулся над столом, захлебываясь от рыданий, не отнимая ото рта носовой платок, чувствуя на плече руку: ну-ну, успокойся, слышал его голос:
– Ну, что, Бесеррита нажрался и сказал тебе про отца при всем честном борделе? – мягкий, думает он, чуть застенчивый, сочувственный.
Нет, Савалита, это случилось не в ту минуту, когда ты услышал это от Кеты, а тогда, в баре «Негро-негро», когда понял, что вся Лима, кроме тебя, знает, что твой отец – педераст. Вся редакция, кроме тебя, думает он. Заиграл пианист, в полутьме засмеялась женщина, он почувствовал горький вкус пива, подошел официант с фонариком: забрал пустые бутылки, поставил новые. Теребя платок, вытирая глаза и губы, ты говорил, Савалита. Мир не рухнет, ты не сойдешь с ума, Савалита, не покончишь с собой, думает он.
– Ты же знаешь, у девок язык – как бритва. – Карлитос то откидывался к стене, думает он, то нависал над столом и тоже был удивлен и испуган. – Она выпалила это, чтоб отплатить Бесеррите, чтоб заткнуть ему рот: ведь ей пришлось по его милости пережить несколько неприятных минут.
– Они говорили про него как про тебя, – сказал Сантьяго. – И я сидел там, Карлитос.
– Самое мерзкое – не эта история с убийством: это-то, я полагаю, брехня, Савалита. – Карлитос тоже запинался, думает он, и тоже противоречил себе. – А то, что ты узнал, и главное – от кого узнал. Я-то думал, ты в курсе.
– Эта ужасная кличка, и эти слова – «его любовник, его шофер», – сказал Сантьяго. – Так, словно они его знают всю жизнь. Его имя треплют в публичном доме. И я – там. Там, Карлитос.
Этого не может быть, Савалита, подумал ты и закурил, это – ложь, и выпил глоток пива, и голос изменял ему, когда он повторял «этого не может быть». И на фоне ко всему безразличных карикатур из «Нью-Йоркера» плавало размытое дымом лицо Карлитоса: тебе кажется это ужасным, Савалита, но, поверь мне, бывает и хуже. Ты свыкнешься, притерпишься, и будет тебе наплевать на это, и он потребовал еще пива.
– Я тебя накачаю сегодня, – гримасничая, сказал он, – тебе будет так скверно, что ни о чем другом думать не захочется, – еще немного – и ты поймешь, что не стоило так горевать, Савалита.
Но напился Карлитос, думает он, как теперь напиваешься ты. Карлитос поднялся и пропал в полутьме, смех женщины замирал и звучал снова, пианист играл один и тот же монотонный пассаж: хотел накачать тебя, а напился-то я, Амбросио. И снова появился Карлитос: отлил не меньше литра, разве можно так тратить деньги, а?
– А зачем вам меня накачивать? – смеется Амбросио. – Это никому еще и никогда не удавалось.
– Вся «Кроника» знала, – говорил Сантьяго. – Когда меня не было, меня называли «сынок того педераста»?
– Не сходи с ума, Савалита, – сказал Карлитос. – Ты-то тут при чем?
– Никогда ничего не слышал об этом, – ни в школе, ни у нас в Мирафлоресе, ни в университете, – сказал Сантьяго. – Ведь если бы это было правдой, хоть что-нибудь-то до меня докатилось бы, я бы заподозрил неладное. Но ведь никогда ничего, Карлитос.
– По Перу вечно гуляет какая-нибудь сплетня, – сказал Карлитос. – Она так обкатывается, что становится вроде правды. Выбрось это из головы.
– А может быть, я не хотел знать? – сказал Сантьяго. – Пропускал все мимо ушей?
– Не собираюсь тебя утешать, тебя не в чем утешать, отрыгнув, сказал Карлитос. – Вот его стоит пожалеть. Если это брехня, то его опорочили и замазали так, что не отмыться, а если правда, то жизнь его, наверно, достаточно хреновая. Хватит об этом.
– Правдой это не может быть, – сказал Сантьяго. – Если это не брехня, то, значит, клевета.
– Наверно, эта шлюха за что-нибудь его ненавидит и решила отомстить таким способом, – сказал Карлитос. – Может, какие-нибудь постельные недоразумения, а может быть, шантаж. Не знаю, что ты мог заподозрить или почувствовать. И потом, вы с ним сколько лет не виделись?
– Я? – сказал Сантьяго. – Да как тебе могло в голову такое прийти? Как я на него посмотрю после всего этого? Да я умру от стыда.
– От стыда не умирают, – сказал Карлитос и снова рыгнул. – Смотри, тебе видней. Так или иначе, история эта не всплывет.
– Ты что, не знаешь Бесерриту? – сказал Сантьяго. – Обязательно всплывет. Бесеррита постарается.
– Бесеррита пойдет советоваться к Ариспе, Ариспе – в директорат, – сказал Карлитос. – Они ж не дураки и себе не враги, что один, что другой. Такие имена в полицейской хронике трепать никто не позволит. Так тебя огласка пугает? Какой ты все-таки еще буржуй, Савалита.
И снова рыгнул, и засмеялся, и заговорил – все более несвязно: ты станешь мужчиной, Савалита, сегодня вечером или вообще никогда не станешь. Да, тебе повезло, думает он: видеть, как напивается Карлитос, слышать, как он, отрыгивая, плетет околесицу, тащить его волоком из «Негро-негро», прислонять к колоннаде в ожидании такси. Повезло, что пришлось везти его в Чоррильос и подымать, взяв под мышки, по лестнице, раздевать и укладывать в постель. Повезло, что не напился, думает он, что был занят каким-то делом и должен был думать о Карлитосе, а не о себе. Завтра я схожу к тебе в больницу, снесу чего-нибудь почитать, думает он. Несмотря на отвратительный вкус во рту, на туман в голове, на ломоту во всем теле, наутро ему стало лучше. Он перестрадал и стал сильнее, думает он, и мышцы одеревенели, потому что спал он не раздеваясь, на неудобной кушетке, стал спокойнее, словно пережитое переменило его, заставило повзрослеть. Вот этот маленький душ, втиснутый между раковиной и унитазом в квартире Карлитоса, и холодная вода, от которой ты вздрогнул и окончательно проснулся. Он медленно оделся. Карлитос спал – на животе, свесив голову с кровати, в трусах и носках. Вот улица, а на улице – солнце, с которым бессилен справиться утренний туман, разве что чуть-чуть подпортить, вот кафе на углу, и кучка трамвайщиков в синих фуражках облепила стойку, обсуждает футбол. Он заказал кофе с молоком, спросил, который час, десять, он уже должен был приехать в контору, и ты, Савалита, не волновался, был спокоен. К телефону пришлось идти мимо стойки, потом по коридору, заставленному ящиками и коробками. Набирая номер, увидел вереницу муравьев, ползущую по стропилам. Ладони вдруг вспотели, когда в трубке раздался голос Чиспаса: слушаю.
– Привет, Чиспас. – И по всему телу побежали мурашки, и пол вдруг стал податливым и рыхлым. – Это я, Сантьяго.
– Не могу говорить, – еле слышно прошипела трубка. – Позвони попозже, старик здесь.
– Я хочу с ним поговорить, – сказал Сантьяго. – Да-да, с ним. Передай ему трубку, это срочно.
Наступило долгое – ошеломленное? изумленное? восторженное? – молчание, нарушаемое стрекотом пишущей машинки и растерянным покашливанием Чиспаса, который, наверно, уставился на телефон, не зная, что сказать, что делать, а потом его театральный выкрик: а-а, да это же хилячок, да это же академик! – и машинка замолкла. Да где ж ты пропадал, да откуда ж ты взялся, почему ж ты домой не являешься. Да, папа, это наш Сантьяго, просит тебя. Другие голоса, перекрывшие, заглушившие голос Чиспаса, и вот – жаркая кровь прихлынула к твоему лицу, Савалита.
– Алло, алло. – Тот же голос, что и годы назад, только чуть подрагивающий от волнения и радости, голос изумленный, голос, срывающийся на крик. – Алло, это ты, сынок? Сынок? Ты?
– Здравствуй, папа. – А сюда, в коридор, долетал смех толпившихся у стойки вагоновожатых, а рядом с тобой громоздились штабеля прохладительного «Пастерина», а муравьи уже скрылись за жестяными коробками галет. – Да, папа, это я. Как там мама? Как вы все?
– Мы обижены на тебя, мы ждем тебя каждый день. – Голос полон мучительной надеждой, слова звучат сбивчиво. – А ты? Ты-то как? Ты здоров? Откуда ты звонишь?
– Я в Чоррильосе. – Да нет, этого не может быть, это вздор, выдумки, клевета, думает он. – Мне надо с тобой поговорить, папа. Ты сейчас очень занят?
– Нет, нет, конечно, я сейчас приеду. – И вот почти ничего, кроме беспокойства и тревоги. – Ничего не случилось? Ты в порядке? У тебя неприятности?
– Нет, папа, все в порядке. Буду ждать тебя у входа в «Регатас», это здесь рядом.
– Я еду, еду. Я выхожу. Через полчаса буду, самое большее. Вот Чиспас что-то хочет тебе сказать.
В трубке – хлопанье дверей, грохот отодвигаемых стульев, и снова – тявканье машинки, отдаленное завывание клаксонов, шум машин.
– Старик помолодел за секунду лет на двадцать, – радостно сказал Чиспас. – Вылетел пулей. А я уж не знал, что врать. Что стряслось? Ты опять влип в какую-нибудь историю?
– Нет, никуда я не влип, – сказал Сантьяго. – Много времени прошло. Я помирюсь с ним.
– Давно пора, давно пора, – твердил Чиспас ликующе, но все еще недоверчиво.
– Подожди, я маме позвоню. Ее надо предупредить. А то как бы она на радостях в обморок не брякнулась.
– Я сейчас не поеду домой, Чиспас. – И услышал: да ты что, старина, так нельзя. – В воскресенье. Скажи, что приду в воскресенье к обеду.
– Ладно, понял. Мы с Тете ее подготовим, – сказал Чиспас. – Ах ты, капризник. На обед будет чупе с креветками.
– Помнишь, когда мы с тобой виделись последний раз? – говорит Сантьяго. – Это было лет десять назад, у входа в «Регатас».
Он вышел из кафе на проспект, но вместе того, чтобы спуститься по лестнице к «Регатас», медленно, рассеянно побрел дальше, думая о том, что сделал, и удивляясь тому, что сделал. Был прилив: море проглотило полосу песчаного клубного пляжа, пенистые языки дотягивались до помоста, на котором летом было столько зонтиков, столько купальщиков. Сколько лет, Савалита, ты не был на пляже клуба «Регатас»? С тех пор, как поступил в Сан-Маркос, значит, лет пять-шесть, а в ту пору казалось – сто. А теперь – тысячу, думает он.
– Как же не помнить? – говорит Амбросио. – Вы же тогда помирились с папой вашим, с доном Фермином.
Что они, строят бассейн? Интересно, Чиспас тогда еще занимался греблей? Ты, Савалита, стал чужим в собственной семье, ты не знал, что делают твой брат, твоя сестра, чем они заняты, сильно ли переменились и в чем переменились. Он дошел до подъезда клуба, сел на тумбу, державшую цепь, каморка швейцара была пуста. Оттуда ему была видна Агуа-Дульсе, пустынный берег, закрытые павильончики, туман, окутывавший скалы Барранко и Мирафлореса. На гальке лежало несколько лодок, одна – совсем дырявая. Было холодно, ветер трепал его волосы, оставлял на губах привкус соли. Он сделал несколько шагов по этому маленькому пляжу, отделявшему «Регатас» от Агуа-Дульсе, присел на лодку, закурил: если бы я не ушел из дому, папа, я так никогда бы ничего и не узнал. Над водой кружили чайки, они на мгновенье присаживались на скалы, потом взлетали и круто снижались, так что лапки оказывались в воде, ныряли и выныривали, держа в клюве почти невидимую трепещущую рыбешку. Зеленовато-свинцовое море, думает он, бурая пена разбивающихся о скалы волн. Я не должен был поступать в Сан-Маркос, папа. Ты не плакал, Савалита, и ноги у тебя не дрожали, ты вел себя как подобает мужчине, ты не кинулся к нему, не упал в его объятья, скажи мне, что это неправда, папа, скажи мне, что все это не так. Вдалеке показалась машина, она шла зигзагами, объезжая рытвины, вздымая пыль. Он встал, пошел навстречу. Не плакать? Притвориться, что я ничего не замечаю? Но ведь он, наверно, за рулем, и ты, Савалита, увидишь его лицо? Да, вот за лобовым стеклом – широкая улыбка Амбросио, звучит его голос: как поживаете, ниньо Сантьяго? И вот – отец. Как он поседел, как похудел, сколько новых морщин: сынок. Больше отец ничего не сказал, думает он, только раскинул руки, обнял его и надолго прижал к себе, и губы его, Савалита, приникли к твоей щеке, и ты почувствовал запах его одеколона, и сам вдруг охрип: здравствуй, папа, как ты, папа? Все вздор, все клевета, быть этого не может.
– Вы ж не знаете, ниньо, до чего ж дон Фермин обрадовался, – говорит Амбросио. – Представить себе не можете, что для него было помириться с вами.