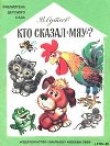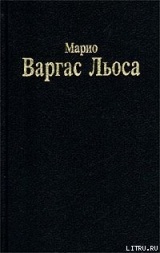
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 39 страниц)
– И еще весьма прискорбно, что случилось все это, как раз когда истекает срок контракта с АНСА. – Сквозь клубы табачного дыма он отыскал глаза Тальио. – Представьте, чего мне будет стоить убедить министра продлить его на новый срок.
– Я поговорю с ним, я постараюсь убедить его. – Ага, вот они: светлые, встревоженные, затравленные. – Я как раз и собирался обсудить с вами продление контракта. И тут – на тебе! Я сделаю все, чтобы удовлетворить министра, сеньор Бермудес.
– Даже не пытайтесь прорваться к нему, пока он в такой ярости, – улыбнулся он и порывисто встал. – Ладно. Возьму это на себя.
На молочно-бледном лице вновь заиграл румянец, к Тальио вернулись надежда и красноречие, почти пританцовывая, шел Тальио вместе с ним к дверям кабинета.
– А тот редактор, который говорил с доктором Альсибиадесом, сегодня же вылетит из агентства, – улыбался, искрился весельем, и голос был как патока. – Вы же знаете, сеньор Бермудес, для АНСА возобновление контракта – вопрос жизни. Вы не представляете себе, сеньор Бермудес, как я вам благодарен.
– Срок истекает на следующей неделе? Хорошо. Подготовьте договор с Альсибиадесом, а я постараюсь, чтобы министр подписал не откладывая.
Он протянул руку к двери, но не торопился открывать ее. Тальио замялся, стал густо краснеть. Он ждал, не сводя с посетителя глаз, когда же тот наберется храбрости и скажет:
– Да, кстати, сеньор Бермудес, – ну, рожай, рожай, наконец, – условия – те же, что и в прошлом году? Я имею в виду, ну, то есть…
– Вы имеете в виду мои услуги? – Он увидел ненатуральную вымученную улыбку Тальио, почувствовал, до чего тому неловко, трудно, муторно, и, почесав подбородок, скромно договорил: – На этот раз, сеньор Тальио, это вам будет стоить не десять процентов, а двадцать.
Он увидел, как у Тальио отвалилась челюсть, как собралась морщинами и снова разгладилась кожа на лбу, как исчезла улыбка, и резко отвел глаза.
– На предъявителя, с переводом в любой нью-йоркский банк. Принесете в следующий понедельник и передадите мне в руки. – Давай, давай, Карузо, считай, дели и умножай. – Вы ведь знаете, как медленно ползут у нас документы по кабинетам. А мы постараемся недели за две дело завершить к обоюдному удовольствию.
Тут он нажал наконец на ручку двери, но Тальио как-то дернулся, и он снова закрыл ее и ждал, улыбаясь.
– Это, конечно, замечательно, что недели за две, сеньор Бермудес. – Голос звучал хрипловато, печально. – Но вот в отношении, так сказать… вам не кажется, что сумма… э-э… несколько завышена?
– Завышена? – Он, будто в крайнем недоумении, широко раскрыл глаза, но тут же дружелюбно махнул рукой. – Все-все-все, ни слова больше, забудем об этом. Простите меня, больше не могу с вами беседовать, множество срочных дел.
Он распахнул дверь – стрекот пишущих машинок, силуэт Альсибиадеса за столом в глубине.
– Ни в коем случае, мы обо всем договорились, – засуетился Тальио. – Вопрос решен, сеньор Бермудес. В понедельник в десять, вам удобно?
– Да, конечно, – сказал он, почти выпихивая гостя. – Итак, до понедельника.
Он притворил дверь и перестал улыбаться. Подошел к своему столу, сел, достал из правого ящика стеклянную трубочку, набрал в рот слюны, прежде чем положить на язык таблетку. Проглотил, посидел с закрытыми глазами, уронив руки на столешницу. Через минуту в кабинет скользнул Альсибиадес.
– Итальянец просто вне себя, дон Кайо. Будем надеяться, что этот редактор в одиннадцать часов был на месте. Я сказал, что звонил в это время.
– В любом случае он его уволит. Субъекту, который подписывает такие манифесты, не место в информационном агентстве. Вы позвонили министру?
– Он ждет вас к трем часам, дон Кайо, – сказал доктор Альсибиадес.
– Теперь, пожалуйста, предупредите майора Паредеса, что я буду у него через двадцать минут.
– Знаешь, – сказал Сантьяго, – я вовсе не рвался в «Кронику», просто надо было на жизнь зарабатывать. Но теперь понимаю, что это, пожалуй, был наилучший выход.
– Три с половиной месяца – и еще не опротивело? – сказал Карлитос. – Да тебя надо за деньги показывать.
Нет, Савалита, тогда еще не опротивело: сегодня посол Бразилии, доктор Эрнандо де Магальяэш, вручил президенту верительные грамоты, я с надеждой смотрю на развитие нашего туризма, заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления, вчера компания «Антр ну» в присутствии многочисленных гостей отметила очередную годовщину своей деятельности. Тебе нравилась вся эта чушь, Савалита, ты сидел за машинкой и был доволен. Куда же девалось то рвение, с которым ты сочинял, думает он, куда исчез тот пыл, с которым ты писал и переписывал эти заметки, прежде чем отнести их Ариспе?
– А тебя на сколько хватило? – сказал Сантьяго.
На следующее утро ты, Савалита, бежал к киоску рядом с пансионом, отыскивал эти крошечные заметки, с гордостью показывал их сеньоре Лусии: вот это я написал.
– Меня уже через неделю воротило, – сказал Карлитос. – В агентстве я был чем-то вроде машинистки, никакой журналистикой там и не пахло. К двум часам я уже был свободен, днем мог читать, а по ночам – писать. Какого поэта лишилась наша словесность из-за того, что меня выперли из АНСА!
А твой рабочий день, Савалита, начинался в пять, но ты приходил в «Кронику» гораздо раньше, и уже с половины четвертого посматривал на часы – не пора ли идти на трамвай? – что ждет тебя сегодня: интервью, репортаж, «свободная охота»? – чтобы поскорее явиться в редакцию, сесть за стол в ожидании вызова: ну-ка, Савалита, десять строк на эту тему. Куда девался твой энтузиазм, думает он, твоя жажда творчества – я добьюсь успеха, меня будут поздравлять, мне повысят жалованье – и твои грандиозные планы? Что же не сработало? – думает он. Когда? – думает он. Почему? – думает он.
– Я так и не знаю, из-за чего в один прекрасный день эта сука вошла в редакцию и начала орать: «Саботажник, коммунист, вы нам работу срываете!» – И Карлитос, как в замедленной съемке, раскрывает рот, смеясь. – Да вы шутите!
– Нет, черт побери, я не шучу! – сказал Тальио. – Знаете ли вы, в какую сумму влетел мне ваш саботаж?!
– Я послал его тогда к такой-то матери и попросил на меня не кричать. – Карлитос был полон блаженства. – И меня выперли даже без выходного пособия. И я тут же устроился в «Кронику». И поставил крест на поэзии.
– А почему же ты не бросил журналистику? – сказал Сантьяго. – Занялся бы еще чем-нибудь.
– Это зыбучие пески, Савалита, – словно уплывая куда-то, словно засыпая, сказал Карлитос. – Это трясина. Войти можешь, а выбраться – нет. Тебя засасывает. Ты ненавидишь это дело, а освободиться не в силах. Ты ненавидишь это дело, а потом вдруг обнаруживаешь, что готов на что угодно, лишь бы добыть гвоздевой материал. И ты ночи не спишь, и оказываешься в самых немыслимых местах. Это – страсть, Савалита, тайный порок.
– Меня засосало по шейку, но я не утону, – говорит Сантьяго. – Знаешь почему? Потому что я получу адвокатский диплом, Амбросио, чего бы мне это ни стоило.
– Не то чтоб меня так уж тянуло к уголовной хронике, просто с Ариспе отношения не сложились, – из дальней дали говорил Карлитос. – Поддерживал и печатал меня один Бесеррита. Уголовная хроника – самое дно. И прекрасно, Савалита. Мне нравятся подонки.
Он замолчал и с застывшей улыбкой уставился куда-то в пустоту, но когда Сантьяго подозвал официанта, очнулся и заплатил по счету. Они вышли, и Сантьяго должен был взять его под руку, потому что Карлитос натыкался на столы и стены. Над крышами домов, обступивших площадь Сан-Мартин, слабо мерцала полоска неба.
– Странно, что Норвина тут сегодня не было, – нараспев, со сдержанной нежностью говорил Карлитос. – Вот уж подонок так подонок, великолепный экземпляр неудачника. Я тебя с ним познакомлю, Савалита.
Он шатался, держась за одну из колонн, от двухдневной щетины лицо казалось немытым, нос распух, в глазах светилось трагическое счастье. Завтра, Карлитос, я непременно приду к тебе в больницу.
IV
Она как раз из аптеки пришла, несла два рулона туалетной бумаги, и тут у черного хода в дверях столкнулась нос к носу с Амбросио. Чего насупилась, сказал он, я не к тебе пришел. А она: да уж, у меня тебе делать нечего. Вон машина стоит, показал Амбросио, я привез дона Фермина к дону Кайо. Дона Фермина – к дону Кайо? А что тут особенного, чего удивляться? Она и сама не знала, почему ее это так удивило, хотя уж больно они были разные. Она попыталась было представить дона Фермина в хозяйкиной гостиной, среди хозяйкиных гостей – и не смогла.
– Ты ему лучше на глаза не попадайся, – сказал Амбросио. – А то он расскажет, что ты у них служила и получила расчет, а потом и лабораторию, куда он тебя устроил, бросила. Смотри, как бы и сеньора Ортенсия тебя не турнула.
– Ты просто не хочешь, чтоб дон Кайо знал, что это ты меня сюда устроил, – сказала Амалия.
– Не хочу, – сказал Амбросио. – Только дело тут не во мне, а в тебе. Я ж тебе говорил: с тех пор, как я ушел от дона Кайо, он меня возненавидел. Мне-то что – я у дона Фермина служу. А если он про тебя узнает, сейчас же выставит.
– Скажите пожалуйста, – сказала она. – Как ты стал обо мне заботиться.
Так они и беседовали у черного хода, а Амалия то и дело поглядывала, не идет ли Карлота или Симула. Разве Амбросио ей не говорил, что отношения у дона Фермина с доном Кайо – не те, что раньше? Да, с тех пор, как дон Кайо арестовал ниньо Сантьяго, они раздружились. Раздружились-то раздружились, но дела остались, вот потому дон Фермин и наезжает в Сан-Мигель. Ну, как ей тут живется? Хорошо живется, грех жаловаться, работы немного, а хозяйка добрая. Мне спасибо скажи, Амалия, с тебя причитается, но Амалия шутейный этот тон не поддержала: я с тобой давно разочлась, не забывай, – и заговорила о другом, – как там, в Мирафлоресе? Сеньора Соила – в добром здравии, ниньо Чиспас ухаживает за барышней, которая участвовала в конкурсе «Мисс Перу», барышня Тете стала совсем взрослая, а ниньо Сантьяго как ушел из дому, так и не вернулся. При сеньоре Соиле его и вспоминать нельзя – она тотчас в слезы. И вдруг, с бухты-барахты: а тебе здешнее житье на пользу пошло, здорово похорошела. Амалия не засмеялась, а поглядела на него со всей яростью, какая только нашлась в душе.
– Выходной у тебя в воскресенье? – сказал он. – В два часа, на трамвайной остановке. Буду ждать. Придешь?
– И не подумаю, – сказала Амалия. – С какой это стати? Ты мне кто?
Тут в кухне послышались голоса, и она юркнула в дверь, не простившись с Амбросио, а потом прокралась в буфетную: и правда, дон Фермин – он как раз прощался с доном Кайо. Он был все такой же – высокий, седой, в элегантнейшем сером костюме, и Амалия вдруг разом вспомнила все, что стряслось с того времени, как она его видела в последний раз, вспомнила и Тринидада, и улочку Миронес, и как рожала, и тут полились у нее из глаз слезы. Пошла в ванную, умылась. Она теперь была по-настоящему зла на Амбросио, и на себя, что стала с ним разговаривать, как будто он ей – кто-нибудь, и что не отшила его с самого начала, не сказала: ты, может, решил, я тебя простила, раз ты мне сказал, что в одном доме в Сан-Мигеле ищут горничную? Чтоб ты сдох, подумала она.
Он подтянул узел галстука, надел пиджак, взял портфель и вышел из кабинета, с отсутствующим видом миновал секретаря. Машина стояла у подъезда: в военное министерство, Амбросио. По центру тащились минут пятнадцать. Он сам, не дожидаясь Амбросио, открыл дверцу, вышел: жди меня. Козыряющие солдаты, вестибюль, лестница, улыбка офицера. В приемной его ждал капитан с маленькими усиками: майор у себя, прошу вас, сеньор Бермудес. Паредес поднялся из-за стола ему навстречу. На письменном столе стояло три телефона, флажок, по стенам висели карты, таблицы, портрет Одрии, календарь.
– Эспина звонил, – сказал майор Паредес. – Жалуется на тебя. Говорил, если не уберете пост от моего дома, я вашего олуха застрелю. Прямо кипел.
– Я уже распорядился снять с дома наблюдение, – сказал он, распуская тугой узел галстука. – По крайней мере, Эспина знает, что за ним присматривают.
– Я же тебе говорил: это напрасный труд, – сказал майор Паредес. – Ему же перед отставкой дали третью звезду. Зачем ему заговоры устраивать?
– Затем, что министерство потерять – обидно, – сказал он. – Нет, сам-то он для заговоров слишком глуп. Но его могут использовать. Горца только ленивый не приберет к рукам.
Майор Паредес, скептически усмехнувшись, пожал плечами. Потом вынул из шкафа большой конверт, протянул. Он небрежно просмотрел его содержимое – бумаги, фотографии.
– Куда пошел, где был, с кем встречался, все телефонные разговоры, – сказал майор Паредес. – Ничего подозрительного. Он теперь все больше по девочкам. Была у него одна в Бренье, теперь вторая завелась – в Санта-Беатрис.
Он засмеялся, процедил что-то сквозь зубы – и вот они предстали перед ним – мясистые, грудастые, с порочным высверком глаз. Он спрятал бумаги и карточки в конверт, конверт положил на стол.
– Две любовницы, попойки в «Военном клубе» раза два в неделю – вот чем он теперь занят, – сказал майор Паредес. – Горец – человек конченный.
– У него в армии – множество друзей, десятки офицеров, обязанных ему лично, – сказал он. – У меня чутье как у гончей. Послушайся меня, давай выждем еще немного.
– Раз ты так настаиваешь, пусть за ним походят еще несколько дней, – сказал майор Паредес. – Только зря это.
– Генерал, даже если он в отставке и к тому же – круглый идиот, остается генералом, – сказал он. – А это значит, что он опасней всех красных и апристов вместе взятых.
Иполито и вправду, дон, был зверюга, но кое-какие понятия у него все же оставались. Обнаружилось это, когда они собирались работать в квартале Порвенир. Время еще было, они зашли в кафе пропустить по маленькой, и тут вдруг появляется Иполито, хватает их за руки, тянет за собой: пошли, мол, он их хочет угостить. Пошли. Пришли в какое-то заведение на авениде Боливии. Иполито заказал три двойных, достал сигареты, чиркнул спичкой, а руки так и ходят ходуном. Был он, дон, какой-то пришибленный, смеялся неохотно, вываливал язык, как собака в жару, и глаза у него бегали. Лудовико с Амбросио переглянулись, недоумевая, что это с ним.
– Что это с тобой, Иполито? – сказал Амбросио.
– Какая муха тебя укусила? – сказал Лудовико.
Но тот только помотал головой, залпом выпил свою рюмку и показал китайцу – повтори, мол. Ну, Иполито, что стряслось, говори, не томи. Тот поглядел на них с Лудовико, дунул дымом в лицо и наконец решился, выговорил: боязно мне идти в Порвенир. Лудовико с Амбросио так и покатились со смеху. Да ты что, Иполито, да там одно полоумное старичье, да они разбегутся при первом свистке, да такие ли мы с тобой дела делали. Иполито шарахнул второй стакан, выпучил глаза. Да не то чтобы боязно, слово «страх» он, конечно, слышал, но что это такое – не знает, никогда не испытывал, он ведь боксером был.
– Только не надо нам в сотый раз про бокс, ладно? – сказал Лудовико. – Наизусть выучили.
– Тут, понимаешь, личное, – сказал Иполито.
Лудовико кивнул китайцу, а тот, увидев, что посетители уже под градусом, оставил всю бутылку. Всю ночь не спал, говорил Иполито, можете себе представить? Лудовико с Амбросио смотрели на него как на ненормального. Да говори же ты толком, мы ж свои, мы ж друзья. А тот прокашлялся, вроде бы решился и сейчас же об этом пожалел, дон, и голос у него сел, и все-таки он выдавил: это, понимаешь, дело личное, вроде бы как, значит, семейное. И выложил, дон, душещипательную историю. Мамаша его плела циновки, и у нее был свой лоток, а он родился, вырос и жил в Порвенире, если, конечно, можно это назвать жизнью. Мыл машины, бегал с поручениями, разгружал на рынке фургоны, сшибал медяки где можно, а иногда и где нельзя – такое тоже случалось.
– А как называются жители Порвенира? – перебил его Лудовико. – В Лиме живут лименьо, в Бахо-эль-Пуэнте – бахопонтино, а в Порвенире кто?
– Да ты не слушаешь ни хрена! – рассердился на него Иполито.
– Слушаю, слушаю, – похлопал его Лудовико. – Просто вдруг сомнение обуяло. Извиняюсь, давай дальше.
И он хоть и не был там уже много лет, но здесь вот – и тут, дон, он постучал себя в грудь – осталось чувство, что Порвенир – его родина. А кроме того, там он и боксом начал заниматься. И многих старух тамошних он помнит, и очень может быть, что и они его узнают.
– А-а, я понял, – сказал Лудовико. – Это глупости: никто тебя не узнает, столько лет прошло. И потом, там же будет темно, тамошняя шпана все фонари камнями разбивает. Так что, Иполито, можешь не опасаться.
Тут он задумался, облизываясь, как все равно кот. Китаец принес соль и лимоны, Лудовико высунул язык, бросил щепотку соли на кончик, выжал прямо в рот пол-лимона, вылил в глотку свой стакан и сказал, что так, мол, совсем другое дело. Заговорили было о другом, но Иполито молчал, набычившись, смотрел то в пол, то на стойку и о чем-то думал.
– Нет, – сказал он вдруг. – Я не боюсь, что меня узнают. А просто – ноги не несут. Не могу я туда идти.
– Да что ты, ей-богу! – сказал Лудовико. – Старух-то лучше пугать, чем, к примеру, студентов, разве не так? Ну, покричат малость, поругаются. Брань на вороту не виснет.
– А если мне подвернется та, которая меня кормила, когда я вот такой был? – сказал тогда Иполито и грохнул кулаком по столу – всерьез, дон, разъярился. Амбросио с Лудовико снова взялись его стыдить, убеждать и уговаривать: что, мол, ты сопли распустил, ты ж мужчина, те, кто тебя кормил, были женщины хорошие, добросердечные, святые, мирные, неужели ж они станут в политику соваться? Но Иполито, дон, Иполито только мотал головой и ни в какую, и не уговаривайте меня, слушать ничего не хочу.
– Не хочу, – сказал он наконец, – не нравится мне это.
– А кому нравится? – сказал Лудовико.
– Мне, – сказал Амбросио и засмеялся. – Для меня это вроде встряски, приключения.
– Это потому, что ты редко с нами ходишь, – сказал Лудовико. – Ты ж важная птица, начальство возишь, конечно, наши дела для тебя игрушки. Погоди, вот засветят тебе булыжником по мозгам, как мне однажды, по-другому запоешь.
– Тогда и скажешь, нравятся тебе такие встряски или нет, – сказал Иполито. Но с ним, слава богу, ничего такого не случалось ни разу.
Да как он смел? В свой выходной Амалия, если не ездила навестить тетку или сеньору Росарио, гуляла вместе с Андувией и Марией, тоже горничными, служившими по соседству. Почему он помог тебе устроиться на место? Думал, ты все забыла? Ходили в кино, а однажды в воскресенье в «Колизео» смотрели народные танцы. А зачем ты вообще стала с ним разговаривать? Он и решил, что ты его простила. Иногда увязывалась за нею и Карлота, но Симула требовала, чтобы та возвращалась домой засветло, и проку от таких гуляний мало было. Дура, ты в его сторону и смотреть-то не должна! Симула изводила их советами и наставлениями, а когда возвращались – расспросами. Ничего себе концы – из Мирафлореса до Сан-Мигеля, да караулить тебя, да потом назад несолоно хлебавши. Бедная Карлота, Симула не позволяла ей носу на улицу высунуть, запугивала россказнями про то, какие мужики сволочи. Всю неделю она думала, как он будет ждать ее, иногда ее от злости бросало в дрожь, а иногда смех разбирал. Да он и не придет, верней всего, она же ему сказала: даже не подумаю, куда это я с тобою пойду? Но в субботу выгладила свое платье, которое подарила ей хозяйка – из синей блестящей материи – ты куда завтра? – спросила ее Карлота, а она ответила: к тетке. Погляделась в зеркало и снова обругала себя: дурища, и думать про него не смей! А в воскресенье надела только что купленные туфли на высоком каблуке, а на запястье – браслет, который в лотерею выиграла, чуть-чуть подкрасила губы. Накрыла на стол, но сама есть не стала, а поднялась в хозяйкину спальню поглядеть на себя во весь рост. Потом пошла. Пошла по Бертолото, свернула за угол, на Костанеру, и тут сразу разозлилась, и мурашки побежали по спине: он стоял на остановке и махал ей рукой. Вернусь, подумала она, не смей с ним разговаривать, подумала она. На нем был темно-коричневый костюм с жилеткой, рубашка белая, галстук красный, а из нагрудного кармана выглядывал платочек.
– Как хорошо, что ты пришла, – сказал Амбросио. – Я уж боялся, что зря тут торчу.
– Я иду на трамвай, – с негодованием повернулась к нему Амалия. – Я к тетке еду.
– А, вот и хорошо, сказал Амбросио. – Значит, нам по дороге.
– Да, совсем забыл, – сказал майор Паредес. – Эспина стал часто встречаться с твоим другом Савалой.
– Это ничего, – сказал он. – Они давние друзья. Эспина устроил ему заказ для армейского интендантства.
– Мне кое-что не нравится в поведении этого сиятельного дона Фермина, – сказал майор Паредес. – Мы за ним послеживаем. Он якшается с апристами.
– И благодаря этому в полном курсе их дел, – сказал он. – Фермин, а значит, и я. На его счет можешь не беспокоиться – только время попусту потеряешь.
– Лояльность этих вельмож никогда не внушала мне доверия, – сказал майор Паредес. – Он примкнул к нам для того лишь, чтобы обделывать свои делишки. Он извлекает из нашего дела пользу для себя.
– Как и все мы, – улыбнулся он. – Важно, что его польза идет на пользу режиму. Ну-с, займемся Кахамаркой?
Майор кивнул и, сняв трубку одного из трех телефонов, отдал распоряжение. Минуту он сидел, о чем-то размышляя.
– Сначала мне казалось, что ты прикидываешься циником, – сказал он наконец. – Теперь вижу, что ты на самом деле ни в кого и ни во что не веришь.
– Мне не за веру платят, а за работу, – снова улыбнулся он. – А с работой я справляюсь. Не правда ли?
– Если ты ищешь только выгоду и пользу, почему не согласился занять должности, которые предлагал тебе президент, – они в тысячу раз выгодней твоей? – засмеялся майор Паредес. – Выходит, ты не такой уж циник, Кайо.
Тот перестал улыбаться и с кроткой покорностью поглядел на майора:
– Почему? Потому что твой дядюшка дал мне шанс, равных которому пока не было. Потому что я еще не встречал человека, который справился бы с этими делами лучше, чем я. А может быть, потому, что мне нравится эта работа. Сам не знаю почему.
– Президент очень обеспокоен твоим здоровьем, – сказал майор Паредес, – и я тоже. За эти три года ты постарел лет на десять. Как твоя язва?
– Зарубцевалась, – сказал он. – Слава богу, можно больше не пить молоко. – Он взял со стола сигареты, закурил и тотчас закашлялся.
– Сколько ты выкуриваешь в день? – сказал майор Паредес.
– Пачки две-три, – сказал он. – Но черный табак, а не эту твою траву.
– Интересно знать, что именно тебя доконает, – засмеялся майор Паредес. – Курение, язва, твои таблетки, апристы? Или какой-нибудь отставник вроде Горца? Или твой гарем?
Он только улыбнулся в ответ. В дверь постучали, и вошел давешний капитан с усиками, держа в руках планшет. «Снимки готовы, господин майор». Паредес расстелил план на столе, и они оба надолго склонились над красными и синими значками на перекрестках, над жирной черной линией, извивавшейся по улицам и обрывавшейся на площади. Маршрут следования… – говорил Паредес, – места сосредоточения… намеченные остановки… мост, который торжественно откроет президент… Он кое-что заносил в блокнот, курил, иногда монотонно переспрашивал, уточняя. Потом оба снова уселись в кресла.
– Завтра я с капитаном Риосом еду в Кахамарку, наведу последний глянец, – сказал Паредес. – По нашей линии все в полном порядке, служба безопасности отлажена как часы. А твои люди?
– С безопасностью никаких проблем, – сказал он. – Меня беспокоит другое.
– Прием? – сказал Паредес. – Опасаешься эксцессов при встрече?
– Сенатор и депутаты обещали заполнить площадь верными людьми, – сказал он. – Но всем их обещаниям грош цена, сам знаешь. Я вызвал в Лиму представителей комитета по встрече президента. Ближе к вечеру я с ними потолкую.
– Эти горцы будут последними свиньями, если не встретят президента с распростертыми объятьями, – сказал Паредес. – Он проложил у них шоссе, выстроил мост. Раньше никто и не слышал про Кахамарку.
– Кахамарка была оплотом апристов, – сказал он. – Мы основательно почистили город, но всякое может случиться.
– Президент верит в успех, – сказал Паредес. – По его словам, ты обещал ему сорокатысячную манифестацию и полное благолепие.
– Будет ему и манифестация и благолепие, – сказал он. – Но в гроб меня вгонит это, а не язва и не сигареты.
Заплатили китайцу, дон, выбрались наружу, а в патио все уже собрались, и сеньор Лосано, увидевши их, сделал недовольное лицо и постучал по циферблату своих часов. Стояло в патио человек с полсотни, все в штатском, кто-то ржал, и дух стоял тяжелый. «Чем он лучше меня, – возмущался Лудовико, – кто он такой, чтоб нас инструктировать?» – а майор из полиции был вот с таким брюхом, дон, заика и через каждое слово говорил «значит»: з-з-значит, штурмовые г-г-гвардейцы и н-н-наряды рассредотачиваются по п-прилегающим улицам, а к-к-конные патрули скрытно занимают гаражи и д-д-воры. Лудовико и Амбросио потешались, дон, слушая е-е-его, но Иполито стоял как на панихиде. Тут выступил вперед сеньор Лосано, стало потише.
– Самое главное в том, чтобы полиции не пришлось вмешиваться, – сказал он. – Сеньор Бермудес особо это подчеркивал. И чтоб никакой стрельбы.
– Это он для тебя старается, – сказал Лудовико Амбросио. – Чтоб ты все передал дону Кайо.
– И п-п-потому, значит, личное оружие в-вам роздано не будет, п-получите, значит, только дубинки и п-прочее.
Тут все завыли, загудели, затопали ногами – запротестовали, дон, но открыто возразить никто не решился. М-м-молчать, сказал майор, но уладил все дело сеньор Лосано – и так умно, дон:
– Неужто таким первоклассным ребятам понадобится палить, чтобы разогнать кучку полоумных? А если пойдет наперекосяк, пустят штурмовых гвардейцев, – и пошутил еще, светлая голова: – Ну-ка, кто боится, поднимите руку. – Никто, конечно, не поднял, а он: – И хорошо, а то пришлось бы вычесть за то, что выжрано было за счет казны. – Тут все засмеялись, а он: – Продолжайте, господин майор.
– Ну вот, з-значит, и все. П-получите снаряжение, но сначала п-приглядитесь друг к другу, чтоб дубинкой своего не звездануть.
Опять засмеялись, но не потому, что было смешно, а просто из вежливости, а в арсенале им под расписку выдали резиновые дубинки, кастеты, велосипедные цепи. Вернулись в патио, некоторых уже так развезло, что еле говорили. Амбросио завел с ними беседу: кто, да откуда, да где призваны. Но там все были добровольцы, дон. С одной стороны, рады были сшибить пару лишних солей, а с другой – было боязно: мало ли как все обернется. Покуривали, пошучивали, замахивались, дурачась, друг на друга дубинками. Так проваландались до шести, а в шесть пришел майор и повел всех в автобус. На площади они разделились: половина осталась с Лудовико и Амбросио у качелей, а другую половину Иполито увел к кинотеатру. По трое-четверо стали подтягиваться к месту. Лудовико и Амбросио поглядывали на креслица качелей: вот, наверно, юбки-то парусят, а? Но в тот раз, дон, ничего бы не увидали, темновато было. Остальные покупали себе у ларьков и лотков всякие пирожки и сласти, а двое так и не расстались со своей бутылкой – пристроились у «американских горок» и потягивали из горлышка. Похоже, Лосано надули, сказал Лудовико. Они торчали на ярмарке полчаса – и ничего.
В трамвае они сели рядом, Амбросио купил билеты. Амалия была так зла, что даже не смотрела на него. Ну, чего ты такая злопамятная? – говорил Амбросио, а она, отвернувшись, глядела в окно на авениду Бразилии, летевшие мимо машины, на кинотеатр «Беверли». Говорят, женщины добросердечны, но злопамятны, сказал Амбросио, вот и ты тоже, ведь когда они случайно встретились на улице и он сказал ей, что в одном доме в Сан-Мигеле ищут прислугу, она же с ним разговаривала? За окном – полицейский госпиталь, старая церковь Святой Магдалины. А потом, у черного хода? Салезианский коллеж, площадь Болоньези. У тебя кто-нибудь есть, Амалия? Тут в вагон сели две женщины – похоже, легкого поведения, – заняли места напротив, начали поглядывать на Амбросио, бесстыдницы. Велика важность, если мы иногда прогуляемся с тобой, как давние друзья? А они похохатывали, вертелись, стреляли в него глазами, и тут вдруг, ни с того ни с сего, язык словно сам собой выговорил: ладно, так куда же мы пойдем? – и смотрела она при этом не на Амбросио, а на тех двух. Амбросио оторопело уставился на нее, заскреб в затылке, потом засмеялся: ну, ты даешь! Первым делом они отправились в Римак, Амбросио должен был встретиться со своим приятелем. Вошли в ресторанчик на улице Чиклайо, приятель сидел там и ел цыпленка с рисом.
– Знакомься, Лудовико, моя невеста, – сказал Амбросио.
– Не слушайте его, – сказала Амалия. – Просто старая знакомая.
– Садитесь, – сказал Лудовико. – Выпейте пива со мной за компанию.
– Мы с Лудовико работаем вместе, при доне Кайо состоим, – сказал Амбросио.
– Я за рулем, а он – так, на всякий случай. Жуткие у нас с тобой ночи, верно, Лудовико?
В ресторане были одни мужчины, многие уже сильно поддатые, и Амалии стало как-то не по себе. Что ты тут делаешь, подумала она, в кого ты такая дура уродилась? Мужчины с соседних столов пялили на нее глаза, но заговорить не решались: боялись, видно, ее спутников, потому что Лудовико был такой же рослый и здоровенный, как Амбросио. Только некрасивый очень: лицо все оспой побито и зубов во рту мало. Они переговаривались через ее голову, что-то рассказывали друг другу, о чем-то спрашивали, и Амалию уже стало злить, но тут Лудовико стукнул кулаком по столу: пойдем на корриду, я вас проведу. И правда провел, только не через главный вход, куда зрители идут, а через боковой, из переулочка, и полицейские в дверях откозыряли ему как дорогому гостю. Сели на теневой галерее, на самой верхотуре, но народу было мало, и, когда выгнали второго быка, перебрались поближе к арене, в четвертый ряд. Участвовало три матадора, а самой звездой был Санта-Крус – негр в сверкающем костюме. Хлопаешь, потому что вы с ним братья по крови, в шутку сказал Лудовико, а Амбросио не обиделся, а сказал: да, и еще потому что он храбрец. Тот и вправду не боялся быка: становился на колени, пропускал его за спиной. До тех пор Амалия видела корриду только в кино и сначала закрывала глаза, вскрикивала, когда бык чуть не пропорол бандерильеро, говорила «какой ужас», глядя на работу пикадоров, но потом, к концу, освоилась, и когда Санта-Крусу вывели последнего быка, замахала, как Амбросио, платочком, прося ухо. Ей понравилось на корриде, по крайней мере, хоть что-то новенькое. Все лучше, чем весь выходной развешивать белье с сеньорой Росарио, или слушать, как тетка жалуется на своих жильцов, или без толку бродить по улицам с Андувией и Марией. В ближайшей палатке выпили по рюмке, и Лудовико, распрощавшись, ушел. Они же с Амбросио медленно двинулись к Лассо-де-Агуас.