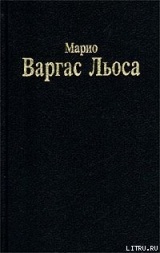
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Неужели это произошло тогда, в последние недели второго курса, в зияющие пустотой предэкзаменационные дни? Он остервенело занимался, готовясь к переводным экзаменам, он читал, он работал в кружке, он остервенело изучал марксизм, он худел. Я сварила яйца всмятку, как ты любишь, говорила сеньора Соила, вот твой любимый апельсиновый сок и твои любимые «корн-флейкс», ты же как скелет стал, тебя ветром качает. Ну, что, академик, говорил Чиспас, пожрать – это тоже вразрез с твоими принципами? А ты отвечал, что при одном взгляде на его рожу аппетит пропадает, схлопочешь за такие слова, говорил Чиспас, как бы сам не схлопотал. Они продолжали видеться, а червячок грыз и точил, и когда Сантьяго входил в аудиторию и садился рядом с ними, червячок прокладывал себе путь через мышцы и сухожилия, они втроем пили кофе в «Палермо», а червячок впивался в кровавые вены, в белые кости, они ели пирожные в кондитерской «Сироты» или свиные колбаски в кафе-бильярдной, а червячок был тут как тут, и следом за головкой показывалось и жгучее тельце. Они говорили о лекциях и о сессии, о предстоящих выборах в Федеративные центры, и о том, что обсуждают в кружках у них и у него, и про новые аресты, и про диктатуру Одрии, и про Боливию, и про Гватемалу. Но виделись они только потому, что учились в одном университете, а политика, думает он, нас еще немного связывала, но виделись уже скорей по случайности, по обязанности, по привычке. Неужели Аида и Хакобо вместе идут после занятий кружка, неужели они гуляют по улицам, ходят в музеи, в библиотеки, в кино – без него? Неужели они не скучают по нему, не думают, не говорят про него?
– Тебя к телефону, – сказала Тете. – Женский голос. До чего ж ты скрытный, показал бы. Кто она?
– Если снимешь вторую трубку, Тете, пеняй на себя, – сказал Сантьяго.
– Ты занят, я помешала? – сказала Аида. – Можешь зайти ко мне?
– Конечно, – сказал Сантьяго. – Через полчаса буду.
– Ах-ах-ах, – сказала Тете, – «конечно-конечно, через полчаса буду», и голосок стал прямо медовый. Беги, беги, не споткнись.
Он возник, когда Сантьяго стоял на остановке на углу Ларко и улицы Хосе Гонсалеса, он шевелился и рос, пока автобус поднимался по проспекту Арекипы, он стал огромным и липким, пока Сантьяго сидел, вжавшись в угол «шевроле», он обильно смочил ему спину холодным потом, и, хотя Сантьяго с каждой минутой становилось все холодней, все страшней, все сильней делалась и его надежда. Вечер уже сменялся ночью. Разве что-нибудь произошло или должно произойти? Он думал, что уже месяц, как они видятся только в Сан-Маркосе, думает он, что она никогда до этого не звонила ему – и вдруг, думал он, позвонила, думает он. Он заметил еще издали, с угла Пети-Туар, маленькую фигурку, размытую сумерками: Аида поджидала его возле дома и помахала ему, и вот он увидел это бледное лицо, синий костюмчик, серьезные глаза и синий свитер, неулыбчивый рот и эти ужасные черные башмаки, какие носят школьницы, и почувствовал, что рука, протянутая ему, дрожит.
– Ты прости, что я тебя сорвала с места, мне надо с тобой поговорить, – немыслимым, невероятным, думает он, показался ему этот пресекающийся от волнения голос. – Погуляем немножко?
– А Хакобо нет? – сказал Сантьяго. – Случилось что-нибудь?
– Ниньо, у вас денег-то расплатиться хватит? – говорит Амбросио.
– Случилось то, что должно было случиться, – говорит Сантьяго. – Я думал, это уже давно случилось, а оказалось, только в то утро.
Они провели все утро вместе, червячок превратился в змею, они не пошли на лекции, потому что Хакобо сказал, что ему надо с нею поговорить без посторонних, а змея впивалась в него жалом острым как нож, и они пошли по проспекту Республики, как десять ножей, и в парке на выставке сели на скамейку. По проспекту Арекипы неслись машины, и один клинок мягко вонзался в него, а другой выходил из раны и снова медленно возвращался, и они потом пошли по аллее, она была совсем пустая и темная, а третий нож словно состругивал кору, а стружки падали ему прямо в сердце, и голосок ее вдруг смолк.
– Ну, и о чем же он хотел поговорить без посторонних? – не глядя на нее, думает он, не разжимая намертво стиснутые зубы, спросил Сантьяго. – Обо мне? Верней, против меня?
– Нет, скорей уж обо мне. – Голос ее, думает он, был как писк котенка. – Я очень удивилась, не знала даже, что ответить.
– Ну, так что же он все-таки тебе сказал? – пробормотал Сантьяго.
– Он сказал, что любит меня. – Или как у Батуке, думает он, когда он был еще совсем маленький.
– Проспект Арекипы, дом десять, семь часов вечера, – говорит Сантьяго. – Там-то все и случилось, теперь я знаю.
Он вытащил руки из карманов, поднес ко рту, подышал на них, попытался улыбнуться. Он видел, как Аида разомкнула сложенные на груди руки, остановилась в нерешительности, помедлила, пошла к ближайшей скамейке, увидел, как она садится.
– И до сих пор не поняла? – сказал Сантьяго. – А зачем, по-твоему, он предложил разделить кружок по алфавиту?
– Потому что мы подавали другим дурной пример, мы были как фракция, и остальные могли тоже начать откалываться, и я поверила. – Голос у нее был неуверенный, думает он. – Он говорил, что это ничего не значит и что все останется по-прежнему, хоть мы и будем в разных кружках. Я ему поверила.
– Он хотел быть с тобою, – сказал Сантьяго, – как и любой на его месте.
– Но тебе же стало неприятно, ты начал нас избегать. – Голос был взволнованный и печальный, думает он. – Мы больше не виделись, и так, как раньше, никогда уже не было.
– Вовсе мне не стало неприятно, с чего ты это взяла, все как раньше, – сказал Сантьяго. – Просто я понял, что Хакобо хочет быть с тобой без меня. Третий – лишний. Все по-прежнему, мы же остаемся друзьями.
Это кто-то другой, думает он, говорил тогда за тебя. Ну, Савалита, теперь потверже и более естественно, Савалита: он не мог бы это сказать. Он все понимал, он все объяснял, он давал советы, словно стоял на недосягаемой вершине и думал: это не я говорю. Он, маленький и убогий, притаился, скорчившись, в этом уверенном голосе, он спасался, убегал, удирал куда глаза глядят. Нет, это была не гордость, не отчаяние, не смирение, думает он, и даже не ревность. Это робость, думает он. Аида слушала его, не перебивая, не двигаясь, глядя ему в лицо, и он не мог да и не хотел понять, что выражает этот взгляд, и потом они вдруг поднялись, и пошли, и прошли полквартала, а отточенные клинки упорно и немо продолжали делать свое кровавое дело.
– Не знаю, как быть, я в растерянности, – сказала наконец Аида. – Я затем тебя и позвала, думала, а вдруг ты мне поможешь.
– А я стал обсуждать с ней политику, – говорит Сантьяго. – Понимаешь?
– Разумеется, – сказал дон Фермин. – Бежать из дому, уехать из Лимы, исчезнуть. Я не о себе думаю, бедолага, а о тебе.
– В каком смысле? – Теперь, думает он, голос ее звучал удивленно и испуганно.
– В том смысле, что любовь превращает человека в крайнего индивидуалиста, – сказал Сантьяго. – Любовь становится самым главным делом, заслоняет все остальное – и революцию тоже.
– Но ведь раньше ты говорил: одно другому не мешает, – еле выговорила, думает он, почти по слогам произнесла она. – А теперь, выходит, мешает? А ты сам уверен, что никогда никого не полюбишь?
– Ни в чем я не был уверен, ни о чем я не думал, – говорит Сантьяго. – Бежать, спастись, исчезнуть.
– Да куда же мне бежать, дон? – сказал Амбросио. – Вы же мне не верите, вы меня гоните.
– Думаю, нисколько ты не растеряна и тоже любишь его, – сказал Сантьяго. – Может, у вас с Хакобо будет исключение из правил. И потом, он очень хороший парень.
– Что он хороший парень, я знаю, – сказала Аида. – Я не знаю, люблю ли я его.
– Зато я знаю, – сказал Сантьяго, – любишь. И не только я, все наши знают. Не отвергай его, Аида.
Ты настаивал, Савалита, ты говорил, что Хакобо – редкостный человек, ты был упорен, ты твердил, что Аида любит его, что все у них сложится замечательно, ты замолкал и начинал сначала, а она слушала тебя, скрестив руки на груди, молча стоя в дверях своего дома, – пыталась постичь меру твоей глупости? – склонив голову, – или меру твоей трусости? – не шевелясь. Что она, и вправду хотела получить от тебя добрый совет, думает он, ведь знала – ты ее любишь, и хотела знать, хватит ли у тебя отваги сказать ей об этом? А что бы она сказала, думает он, если б я, а я, если б она. Ах, Савалита, думает он.
Или это произошло потом, через день, через неделю или через месяц, когда после того, как он увидел, что Аида и Хакобо идут по Кольмене взявшись за руки, выяснилось, что Вашингтон – связной? В кружке никак не отреагировали насчет Аиды и Хакобо, только Вашингтон пошутил мимоходом, что в первом кружке двое товарищей свили свое любовное гнездышко, и все, главное, втихомолку, да Птичка бегло заметила: они просто созданы друг для друга. Было не до того: приближались университетские выборы, они собирались теперь ежедневно, горячо обсуждая, кого послать в Федеративные центры, собирая подписи в поддержку кандидатов, разбрасывая листовки, размалевывая стены, а однажды Вашингтон собрал в Римаке оба кружка и, улыбаясь, вошел к Птичке: я принес настоящую «бомбу». Комитет Перуанской коммунистической партии, думает он. Все кинулись к нему, табачный дым заволок отпечатанные на гектографе листки, которые передавали из рук в руки, ел глаза, жадно впивавшиеся в строчки – комитет – снова и снова перечитывавшие – Перуанской коммунистической партии – и рассматривавшие мужественного индейца в пончо и сандалиях, воинственно вскинувшего к плечу сжатый кулак, и серп и молот под заголовком. Они читали вслух, комментировали на все лады, спорили, терзали вопросами Вашингтона, которого проводили до самого дома. Он позабыл в тот день свою обиду, свое неверие, неудачу, робость, ревность. Компартия оказалась не выдумкой, компартию не уничтожила диктатура: она вправду существовала, наперекор Одрии, и в ней были мужчины и женщины, вопреки Кайо Бермудесу, и они тайно собирались и организовывали ячейки, несмотря на стукачей и высылки, и печатали воззвания, на тюрьмы и пытки, и готовили революцию. Вашингтон знал, кто эти люди, где они, как действуют: я вступлю в партию, думал он, думает он, в ту ночь, непременно вступлю, думал он, гася ночник и чувствуя обжигающее прикосновение чего-то благородного, опасного, томящего тревогой и вселявшего силы. Тогда это случилось?
VII
– Его взяли за то, что он кого-то ограбил или убил, а скорей всего, он отдувался за чужую вину, – сказал Амбросио. – Хоть бы подох за решеткой, говорила моя мамаша. Однако он вовсе даже не подох, его выпустили, тут-то я с ним и познакомился. А видел я его в первый и последний раз, дон.
– Сняли показания? – сказал Кайо Бермудес. – Все – апристы? Сколько человек уже привлекалось?
– Зуб даю, сюда летит, – сказал Трифульсио. – Спускается.
Стоял полдень, солнце готово было рухнуть прямо на головы; подрагивал от зноя воздух, и, перелетев через неподвижные дюны, распластав крылья, вытянув клюв, суживающимися кругами шел вниз кровавоглазый черноперый ястреб.
– Пятнадцать, – сказал префект. – Девять апристов, три коммуниста, еще трое – под вопросом. Остальные – в первый раз. Нет, дон Кайо, допросить еще не успели.
Ящерица? Затоптавшиеся в смятении лапки, крошечный песчаный смерч, струйка пыли, вспыхнувшая на солнце, и ястреб ожившей геральдической фигурой прянул вниз как стрела из лука. Он плавно пролетел над самой землей, подхватил в клюв ящерицу, мгновенно казнил ее, заглотал и, кругами набирая высоту, взмыл в чистое, знойное летнее небо, откуда били ему прямо в глаза желтые дротики солнечных лучей.
– Немедленно допросить, – сказал Кайо Бермудес. – Пострадавшие?
– Ей-богу, ниньо, мы с вами – все равно как двое незнакомых, которые ждут подвоха друг от друга, – говорит Амбросио. – Давным-давно было дело, в Чинче, один-единственный раз, и с тех пор я ничего про него не знаю.
– Двоих студентов пришлось положить в полицейский госпиталь, – сказал префект. – У наших только легкие ушибы, ничего серьезного.
Переваривая добычу, он продолжал неуклонно подниматься ввысь, ослепленный нестерпимым блеском, и, растворившись в нем, раскинул крылья, заложил крутой плавный вираж, стал точкой, пятнышком, повис над неподвижными желто-белыми волнистыми песками, над стенами и решетками, над четко очерченным пространством камня и железа, над полуголыми существами, которые копошились внизу – ползли куда-то или лежали в тени дрожащего в зное цинка, – повис над джипом, над пальмами, над полоской воды и над широкой лентой воды, над домиками, машинами, над обсаженными деревьями площадями.
– Одну роту оставили в Сан-Маркосе. Ворота, которые высадил танк, приводим в порядок, – сказал префект. – На медицинский тоже ввели взвод. Но никаких эксцессов не было, все тихо, дон Кайо.
– Дайте-ка мне их дела, я покажу министру, – сказал Кайо Бермудес.
Он взмахнул послушно-могучими, иссиня-черными крыльями, с величавой медлительностью развернулся и, перелетев деревья, реку, неподвижные пески, стал кружить над ослепительным цинком, зорко вглядываясь в него, снизился еще немного, не обращая внимания на зловеще-выжидательную тишину, сменившую алчный гомон и установившуюся в этом вычлененном железом и камнем треугольнике, – его привлекал только навес, полыхавший на солнце, – и спустился пониже, словно завороженный вакханалией света, буйством блеска.
– Ты отдал приказ штурмовать Сан-Маркос? – спросил полковник Эспина. – Ты? Самочинно?
– Седоватый такой, кожа очень темная, роста большого, походка как у обезьяны, – сказал Амбросио. – Он все выспрашивал, как в Чинче насчет баб. Мне не больно-то приятно его вспоминать, дон.
– О Сан-Маркосе – потом. Расскажи, как съездил, – сказал Бермудес. – Что там на севере?
Он осторожно вытянул серые лапы, словно пробуя – не слишком ли горяч? мягок ли? удобен ли цинк? – и сложил крылья, и сел, и глянул, и догадался – но было уже поздно: камни пронизали броню перьев, перешибли кости, сломали клюв и, отскочив с металлическим звоном от цинка, упали вниз, во двор.
– На севере-то все в порядке, – сказал полковник Эспина. – А с головой у тебя как? Мне со всех сторон докладывают: «Полковник, Сан-Маркос обложили, полковник, штурмовые группы ворвались в университет!» А я, министр, узнаю об этом в последнюю очередь! Вот я и спрашиваю тебя, Кайо: ты в своем уме?
Ястреб, дернувшись несколько раз в агонии, вытянулся, выпачкал алым серый цинк, скатился к самому краю и рухнул вниз, где жадные руки схватили его, разодрали на части, вырывая перья, под смех и брань, и у кирпичной стены уже затрещал, разбрасывая искры, костер.
– Ну, что я говорил? – сказал Трифульсио. – Зуб мой при мне останется. Я попусту болтать не люблю и за слова свои отвечаю.
– Мы вскрыли этот гнойник за каких-то два часа и никого не потеряли, – сказал Бермудес. – А ты вместо благодарности спрашиваешь, не рехнулся ли я. Это несправедливо.
– Мамаша моя тоже его после того раза не видела, – говорит Амбросио. – Она думала, он таким на свет уродился, ниньо.
– Ведь за границей во всех газетах поднимут вой, – сказал полковник Эспина, – а нам это сейчас совсем ни к чему. Разве ты не знаешь, президент хочет, чтоб все было тихо.
– Нам совсем ни к чему иметь в самом центре Лимы очаг мятежа, – сказал Бермудес. – Через несколько дней можно будет вывести оттуда войска, открыть Сан-Маркос, вот тогда все и будет тихо.
Он с трудом прожевывал кусок птичьего мяса, выхваченного из огня голыми руками, и руки его горели, и на смуглой коже лиловели царапины, и жаровня, где испекли его добычу, еще дымилась. Он сидел на корточках, в затененном цинковым навесом углу, полуприкрыв глаза – то ли от солнца, то ли чтобы полнее было блаженство, рождавшееся в челюстях, на языке, в глотке, которую сладостно царапало и обжигало полусырое мясо с не до конца выщипанными перьями.
– И наконец, никто не давал тебе разрешения на это, – сказал полковник Эспина. – Это компетенция министра. Нас еще многие не признали. Воображаю, в каком бешенстве президент.
– Зуб даю, гости будут, – сказал Трифульсио. – Зуб даю, они уже тут.
– Нас признали Соединенные Штаты, и это самое главное, – сказал Бермудес. – И насчет президента ты, Горец, можешь не беспокоиться. Перед тем как отдать приказ, я ввел его в курс дела.
Остальные бродили на лютом солнцепеке, – примирившиеся со своей участью, не затаившие зла, не помнившие обид, словно и не они только что оскорбляли друг друга, толкали, били, хватая самые лакомые куски, – или, присев под стеной, дремали – грязные, босые, ошалевшие от голода, жары и досады, – или лежали, хватая воздух распяленными ртами, прикрыв глаза от зноя и блеска.
– Интересно, по чью душу, – сказал Трифульсио.
– Он ведь мне ничего плохого не сделал, – говорит Амбросио. – До той ночи. Сердиться на него было не из-за чего да и любить не за что. А вот в ту ночь мне стало его жалко.
– Я обещал ему, что убитых не будет, – сказал Бермудес, – и обещание свое сдержал. Вот пятнадцать полицейских досье. Вычистим Сан-Маркос, и можно возобновить занятия. Чем ты недоволен, Горец?
– Не потому жалко, ниньо, что он отсидел, – говорит Амбросио, – а потому, что уже на человека мало был похож. Босой, ногтищи вот такие, весь в каких-то струпьях, в коросте, в грязи. Честно.
– Ты действовал так, словно меня и в помине нет, – сказал полковник Эспина. – Почему бы не спросить?
Дон Мелькиадес шел по коридору в сопровождении двух надзирателей, а следом за ним шагал высокий мужчина в соломенной шляпе – от порывов горячего ветра поля ее и тулья трепетали, словно сделаны были из шелковой бумаги – белый костюм, а сорочка, повязанная черным галстуком – еще белей. Потом они остановились, и дон Мелькиадес заговорил с ним, показывая на кого-то во дворе.
– Почему? – сказал Бермудес. – Потому что не хотел подставлять тебя под удар. У них могло быть оружие, они могли оказать сопротивление, и я не хотел, чтобы тебя обвиняли в кровопролитии.
Нет, это явно был не адвокат, ему отродясь не доводилось видеть, чтобы адвокат щеголял в такой белоснежной паре, но и не начальство – тогда им дали бы не обычную баланду, а, скажем, менестру и заставили бы подмести в камерах и в сортире, как всегда, когда приезжала инспекция. Нет, не адвокат и не начальство, но кто ж тогда?
– Если бы пришлось стрелять, твоя политическая карьера была бы непоправимо испорчена, – сказал Бермудес. – Я принял решение, и я нес бы за его последствия полную ответственность. В случае чего я ушел бы в отставку, а ты, Горец, остался бы без единого пятнышка.
Он перестал грызть уже дочиста обглоданную кость, но не выпустил ее из рук, весь напрягся, втянул голову в плечи, испуганно стрельнул глазами в коридор, но дон Мелькиадес продолжал показывать на него и подавать знаки ему.
– Но все прошло гладко, и все сочтут это твоей заслугой, – сказал полковник Эспина. – Президент наверняка решит, что у моего протеже отваги побольше, чем у меня.
– Эй, как тебя там! – закричал дон Мелькиадес. – Трифульсио! Не видишь, что ли, – я тебя, тебя зову! Чего разлегся?
– Президент знает, кому я обязан своей должностью, – сказал Бермудес. – Он знает, что стоит тебе бровью повести, как я откланяюсь и снова примусь продавать трактора.
– Эй! – подхватили, замахали руками надзиратели. – Эй, ты!
– Три ножа и несколько бутылок «молотовского коктейля»[40]40
«Молотовский коктейль» – горючая (зажигательная) смесь на основе селитры, использовалась советскими солдатами в годы Великой Отечественной войны, позже «принята на вооружение» организациями экстремистского толка.
[Закрыть], которые мы обнаружили, – явно недостаточно. Скажут: и этого вы так перепугались? Поэтому я приказал добавить специально для газетчиков еще немного револьверов, ломиков, тесаков.
Он вскочил, пробежал, поднимая пыль, через двор и остановился в метре от дона Мелькиадеса. Остальные тоже подняли головы, вытянули шеи, глядели и молчали. Те, кто бродил взад-вперед, остановились, те, кто дремал, встрепенулись: все уставились на него, а с неба лился теперь расплавленный металл.
– Ах, ты еще и журналистов оповестил? – сказал полковник Эспина. – Тебе, стало быть, неизвестно, что все заявления для печати подписывает министр и пресс-конференции проводит тоже только министр?
– Ну, Трифульсио, подними-ка этот бочонок, покажи дону Эмилио Аревало, на что ты способен, – сказал дон Мелькиадес. – Не подкачай, я за тебя поручился.
– Журналистам я сказал, что информацию они получат от тебя, – ответил Бермудес. – Вот подробный доклад, имена-фамилии, захваченное оружие – пусть пощелкают.
– Я ничего такого не сделал, дон! – заморгав, крикнул Трифульсио, потом подождал немного и снова крикнул: – Я ни в чем не виноват! Клянусь, дон Мелькиадес!
– Ладно, вопрос исчерпан, – сказал полковник Эспина. – Учти, я сам собирался ликвидировать Сан-Маркос сразу после того, как разберусь с профсоюзами.
Черная бочка цилиндрической формы стояла у перил, как раз под доном Мелькиадесом, надзирателями и неизвестным господином в белом. Заинтересованные, оживившиеся, равнодушные взгляды устремились на бочку и на Трифульсио.
– Учту, – сказал Бермудес. – Только Сан-Маркос далеко не ликвидирован, но момент для ликвидации самый подходящий. Двадцать шесть арестованных – это боевики, а большинство главарей пока гуляют на свободе. Сейчас их надо брать.
– Ну-ну-ну, не дури, – сказал Мелькиадес. – Подними бочоночек. Я знаю, знаю, ты ни в чем не виноват. Давай, покажи свою силу сеньору Аревало.
– Профсоюзы важнее Сан-Маркоса, – сказал полковник Эспина. – Их-то и надо чистить в первую голову. Пока они помалкивают, но АПРА сильна в рабочей среде, и достаточно одной искры, чтобы рвануло.
– А в камере я напачкал, потому что живот схватило, – сказал Трифульсио. – Никакого терпежу не было, дон Мелькиадес, верьте слову.
– Вычистим, – сказал Бермудес, – вычистим все, что надо будет, Горец.
Господин в белом засмеялся, и дон Мелькиадес засмеялся, и даже во дворе послышались смешки. Господин в белом придвинулся к перилам вплотную, сунул руку в карман и вытащил оттуда что-то блестящее.
– Ты читал эту нелегальную газетенку «Трибуна»? – спросил полковник Эспина. – Они поносят последними словами и вооруженные силы, и меня. Надо бы сделать так, чтобы этот вонючий листок больше не выходил.
– Целый соль за то, что подниму бочку, дон? – Трифульсио закрыл глаза, открыл глаза и тоже засмеялся. – Это пожалуйста, дон, с нашим удовольствием.
– Конечно, дон, в Чинче много о нем говорили, – сказал Амбросио. – Говорили, будто он изнасиловал малолетнюю, ограбил кого-то, а кого-то убил в драке. Многовато получалось, брехня, наверно. Но кое-что – правда, почему бы иначе сидеть ему столько лет?
– Вы, военные, уже двадцать лет ломаете себе голову над АПРА, – сказал Бермудес. – А ведь лидеры ее одряхлели и коррумпировались и не хотят класть голову на плаху. Ничего не рванет, ни взрыва, ни революции не произойдет. А газетенка будет прикрыта, это я тебе обещаю.
Он поднес ладони к самому лицу (под глазами и на шее были уже глубокие морщины, и в курчавых бакенбардах проглядывала седина), поплевал на них, крепко потер и шагнул к бочке. Взялся за нее, пошатал, словно проверяя, прочно ли стоит, потом приник к ее железному телу длинными ногами, выпуклым животом, широкой грудью, вцепился длинными руками и, словно в любовном неистовстве, рванул.
– Я никогда его больше не встречал, но слышал много, – говорит Амбросио. – Его видали то там, то тут, по всему департаменту, во время выборов пятидесятого года он агитировал за сенатора Аревало: плакаты клеил, листовки бросал. Да, за сенатора Эмилио Аревало, того самого, друга дона Фермина.
– Я составил списочек, дон Кайо, в отставку подали три префекта и восемь субпрефектов из числа назначенных Бустаманте, – сказал доктор Альсибиадес. – Двенадцать префектов и пятнадцать субпрефектов прислали телеграммы генералу, поздравляя его с приходом к власти. Остальные пока помалкивают: хотят, чтоб мы подтвердили их полномочия, а самим попросить об этом – робеют.
Он закрыл глаза, оторвал бочку от земли, и жилы вздулись у него на шее и на лбу, и мгновенно взмокло дряблое лицо, и черно-лиловыми стали толстые губы. Огромная ручища грубо ухватила бочку за ребристый бок, вздернула ее кверху, выгнувшись, он держал вес, сделал, шатаясь, как пьяный, два шага, победно взглянул на зрителей, резко поставил свою ношу на землю.
– Горец считал, что они пачками будут уходить в отставку: останется только назначать новых, – сказал Кайо Бермудес. – Вот, милый доктор, не знает полковник наших перуанцев.
– Да, Мелькиадес, вы были правы, это не человек, а бык, в его годы – просто невероятно. – Господин в белом швырнул монету, и Трифульсио поймал ее на лету. – Эй, сколько тебе лет?
– Да, он считает, что все разделяют его представления о чести, – сказал доктор Альсибиадес. – Но объясните мне, дон Кайо, чего ради они хранят верность бедному Бустаманте – ведь ему уже никогда не подняться?
– Да откуда ж мне знать? – переводя дух, утирая пот, загоготал Трифульсио. – Много. Больше, чем вам, дон.
– Подтвердите полномочия всех, кто поздравил генерала, и тех, кто молчит: их мы постепенно уберем, – сказал Бермудес. – Поблагодарите за безупречную службу подавших в отставку, а Лосано пусть внесет их в картотеку.
– Гляди-ка, Иполито, кого к нам доставили, – сказал Лудовико. – Ты ведь, кажется, таких любишь? Сеньор Лосано велел обратить на него особое внимание.
– Лима наводнена мерзкими пасквилями, – сказал полковник Эспина. – Почему ты бездействуешь, Кайо?
– Кто и где печатает «Трибуну»? – сказал Иполито. – Отвечай, не тяни из меня жилы! И помни, я таких люблю.
– Эти подрывные листки должны исчезнуть, – сказал Бермудес. – Немедленно. Вы поняли, Лосано?
– Ну что, негр, готов? – сказал дон Мелькиадес. – Уже, наверно, как на иголках сидишь?
– Готов? – невесело засмеялся Трифульсио. – К чему готов, дон?
– Поначалу я ей посылал деньги, навещал, наезжал из Лимы время от времени, – сказал Амбросио. – А потом – нет. Так она и померла, ничего про меня не зная. Тяжело мне от этого, дон.
– Ага, – сказал Иполито, – тебе сунули ее в карман, а ты и не заметил? Ну, еще чего-нибудь соври, глупышка ты моя, сколько ж ты брильянтину изводишь, чтобы волосы гладко лежали, и брючки какие хорошенькие надел. Значит, ты – не априст, кто и где печатает эту пакость не знаешь? Так?
– Забыл, что сегодня на свободу выходишь? – сказал дон Мелькиадес. – Или так прижился у нас, что и расставаться жалко?
– А потом узнал, что ее уж и на свете нет, – говорит Амбросио. – Я тогда еще дона Фермина, папу вашего, возил.
– Да ну что вы, дон, как же такое забыть? – затопал, захлопал Трифульсио. – Вы уж, право, скажете.
– Вот видишь, что получается, если Иполито сердится. Лучше вспомни, – сказал Лудовико. – Учти, ему такие, как ты, очень нравятся.
– Запираются, врут, сваливают друг на друга, – сказал Лосано. – Но мы не спим, дон Кайо, мы по целым ночам глаз не смыкаем. Клянусь вам, эту газетку мы выявим и накроем.
– Приложи палец вот сюда, а здесь – крестик поставь, – сказал дон Мелькиадес. – Все. Ну, Трифульсио, ты опять вольная птица. Не верится, должно быть?
– Помните, Лосано, мы с вами не в цивилизованный стране, наша отчизна – край невежества и варварства, – сказал Бермудес. – Нечего с ними миндальничать, выбейте, вытрясите из них то, что мне нужно.
– У-у, какой ты худенький, – сказал Иполито. – В пиджачке-то не так заметно, а теперь вижу – все ребра наружу.
– Ты помнишь сеньора Аревало, который дал тебе соль, чтобы ты поднял бочку? – сказал дон Мелькиадес. – Он важная персона, весьма состоятельный человек, землевладелец. Хочешь работать на него?
– Кто и где, я тебя спрашиваю, кто и где ее печатает? – сказал Лудовико. – Хочешь, чтоб мы с тобой всю ночь проваландались? А если Иполито опять рассердится?
– Ясное дело, дон Мелькиадес! – всплеснул руками, заморгал, закивал Трифульсио. – Могу хоть сейчас приступить или когда скажете.
– Ты меня выведешь из себя, я тебе красоту твою небесную подпорчу, а сам умру с печали, – сказал Иполито, – потому что ты мне нравишься все больше и больше.
– Ему люди нужны: он начинает предвыборную кампанию, потому что другу Одрии дорожка в сенаторы укатана, – сказал дон Мелькиадес. – За деньгами не постоит. Не пропусти свой шанс, Трифульсио.
– И что же, даже имя нам свое не скажешь, золотой ты мой? – сказал Лудовико. – Может, забыл или не знал никогда?
– Долбани на радостях как следует, навести семью, погуляй, к девкам сходи, – сказал дон Мелькиадес, – а в понедельник отправляйся в его поместье, это возле Ики. Спросишь там, тебе каждый покажет.
– А что это там у тебя, золотой мой, болтается, я не разгляжу никак? – сказал Иполито. – Ты всегда с таким огрызком ходишь или он от страха съежился?
– Конечно помню, дон Мелькиадес, как же не помнить?! – сказал Трифульсио. – Не знаю, как вас и благодарить за вашу доброту.
– Оставь его, Иполито, – сказал Лудовико, – обморок, не видишь, что ли? Пойдем в кабинет к сеньору Лосано. Оставь его, кому говорю?!
Дежурный надзиратель похлопал его по спине – счастливо, Трифульсио, – и запер за ним ворота, – до свиданьица, а лучше прощай – и он скорым шагом двинулся вперед, по пустырю, на который смотрел через решетку столько времени, что наизусть выучил каждую выбоину, и дошел до рощицы, которую тоже было видно из окна камеры на первом этаже, а потом свернул к домикам предместья, но не остановился, а, наоборот, прибавил шагу. Почти бегом миновал он лачуги, оставил позади неразличимые тени людей, смотревших на него удивленно, испуганно или безразлично.
– Я же не выродок какой-нибудь, не скотина неблагодарная, – сказал Амбросио, – я ж ее любил, царствие ей небесное, ни от кого я столько добра не видал, разве что от вас. Всю жизнь она хребет ломала, чтоб меня прокормить да вырастить. Да ведь вот жизнь какая: некогда и о матери родной вспомянуть.
– Мы, сеньор Лосано, прекратили, потому что Иполито немного погорячился, не сдержался, а тот понес какую-то чушь, а потом и вовсе вырубился, – сказал Лудовико. – Я так полагаю, что этот Тринидад Лопес – никакой не априст и на самом деле не знает, где типография. Как прикажете: можно его привести в чувство и продолжить.
Он шагал все быстрее и быстрее, двигаясь почти наугад, не зная, куда выведут его эти мощенные булыжником окраинные улочки, попираемые его босыми ногами, углубляясь в этот город – разросшийся вдаль и вширь, такой непохожий на то, что осело в памяти. Потом замедлил шаги и почти упал на скамейку, стоявшую в тени пальм на площади. В лавчонку на углу входили женщины с детьми, мальчишки пуляли камнями в уличный фонарь, лаяли собаки. Медленно, почти беззвучно он заплакал и сам не заметил, что плачет.








