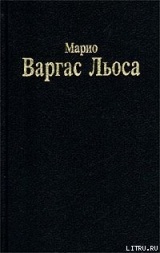
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Ну и как там, в Пукальпе? – говорит Сантьяго.
– Да ну, паршивый городишко, – говорит Амбросио. – Не приходилось бывать?
– Всю жизнь мечтал путешествовать, а сам только раз доехал до восьмидесятого километра, – говорит Сантьяго. – Ты, по крайней мере, хоть мир повидал.
– В недобрый час я туда отправился, – говорит Амбросио. – Одни несчастья мне Пукальпа принесла.
– Ну, значит, фортуна тебе не улыбнулась, – сказал полковник Эспина. – Пожалуй, преуспел меньше всех из нашего выпуска: денег не скопил, закис в провинции.
– Я как-то не сравнивал себя со всем выпуском, – спокойно ответил Бермудес; он глядел на полковника без вызова, без подобострастия. – Времени не хватило. Но ты-то, конечно, достиг большего, чем мы все, вместе взятые.
– Ты же был первым учеником: светлая голова, могучий интеллект, – сказал Эспина. – Помнишь, Дрозд всегда говорил: «Бермудес будет президентом, а Эспина – его министром». Помнишь?
– Да, ты уже тогда мечтал стать министром, – с неприятным смешком сказал Бермудес. – Ну, вот и добился своего. Доволен?
– Видит Бог, я ничего не просил и не добивался. – Полковник Эспина развел руками, как бы покорствуя судьбе. – Меня назначили на этот пост, и я выполняю свой долг.
– В Чинче говорили, ты горой стоял за апристов, ходил на коктейли к Айе де ла Торре[16]16
Айа де ла Торре Виктор Рауль (1895-1979) – основатель и лидер АПРА; сформулировал основные пункты программы партии; впоследствии сам же изменил антиимпериалистический курс АПРА, перейдя на реакционные позиции.
[Закрыть], – улыбаясь и словно размышляя вслух, продолжал Бермудес. – А теперь отлавливаешь своих единомышленников, как крыс. Так мне сказал лейтенантик, которого ты за мной отправил. Да, кстати, позволь уж мне узнать, почему я удостоился такой чести?
Дверь кабинета отворилась, вошел человек с бумагами под мышкой, сдержанно поклонился – разрешите, господин министр? – но полковник остановил его – потом, доктор Альсибиадес, проследите, чтобы нам не мешали. Тот снова поклонился и исчез.
– Господин министр! – усмехнулся Бермудес, отчужденно оглядываясь по сторонам. – Не верится. Не верится, что мы с тобой тут сидим и что нам обоим уже под пятьдесят.
Полковник Эспина ласково улыбнулся ему. Он уже довольно сильно облысел, но ни на висках, ни на затылке, где волосы еще оставались, седина не проглядывала, и медная кожа была свежей и гладкой; он медленно обвел взглядом морщинистое, словно выдубленное временем, с застывшим выражением безразличия лицо Бермудеса, его щуплую, старчески сгорбленную фигуру, вжавшуюся в красный бархат просторного кресла.
– Погубил ты себя этой женитьбой нелепой, – сказал он с покровительственной, нежной укоризной. – Это была величайшая ошибка в твоей жизни. А ведь я тебя предостерегал, помнишь?
– Ты меня вытребовал в Лиму, чтоб поговорить о моей женитьбе? – спросил Бермудес, ничуть не сердясь, не повышая голос, звучавший как всегда – монотонно и обыденно. – Еще слово, и я уйду.
– Ты все такой же, чуть что – и обиделся, – засмеялся Эспина. – Как Роса-то поживает? Детей, я знаю, вы не завели.
– Перейдем к делу, если не возражаешь, – проговорил Бермудес. Дымка усталости заволокла его глаза, угол рта нетерпеливо дернулся. В окне за спиной полковника плыли низкие грузные тучи, превращаясь то в островерхие купола, то в плоские крыши с узорчатыми карнизами, то в кучи мусора.
– Мы с тобою редко видимся, но ты по-прежнему – мой лучший друг, – чуть погрустнел полковник. – Как я тобой восхищался в детстве, Кайо. Я тебе чуть ли не завидовал. Не то что ты – мне.
Бермудес невозмутимо глядел на него. Сигарета, зажатая между пальцев, догорела, столбик пепла обломился и упал на ковер, клубы дыма наплывали на его лицо, словно волны – на бурый утес.
– Когда я стал министром в правительстве Бустаманте, у меня перебывали все наши одноклассники. Все – кроме тебя. Почему? Ведь мы с тобою были как братья. Дела твои шли неважно, я бы мог тебе помочь.
– Прибежали, как собачки, лизать тебе руки, просить, чтобы замолвил слово, устроил выгодный заказ, – сказал Бермудес. – А про меня ты, должно быть, подумал: ну, или разбогател, или уже на том свете.
– Нет, я знал, что ты жив и бедствуешь, – сказал Эспина. – Пожалуйста, не перебивай меня, дай договорить.
– Ты все такой же тугодум, – сказал Бермудес, – цедишь в час по чайной ложке, в точности как в школе.
– Я хочу чем-нибудь быть тебе полезным, – пробормотал полковник. – Скажи, как я могу тебе помочь?
– Отправь меня поскорее в Чинчу, – со вздохом ответил Бермудес. – Дай машину или прикажи купить билет на автобус – все равно. Твой вызов в Лиму может мне дорого обойтись: лопнет очень интересная сделка.
– Значит, ты доволен своей судьбой и не горюешь от того, что стал старым грибом из захолустья и что денег у тебя нет, – сказал Эспина. – Совсем у тебя честолюбия не осталось.
– Зато гордость осталась, – сухо ответил Бермудес. – Я не люблю покровительства и одалживаться тоже не люблю. Все?
Полковник глядел на него изучающе, словно пытался отгадать таившуюся в его собеседнике загадку, и радушная улыбка, все время скользившая по его губам, вдруг погасла. Он стиснул ладони, переплел пальцы с отполированными ногтями, вытянул шею.
– Ну, что, поговорим начистоту? – с внезапно проснувшейся энергией произнес он.
– Давно пора. – Бермудес раздавил в пепельнице окурок. – Я устал от изъявлений любви и дружбы.
– Одрии нужны надежные люди, – раздельно произнес полковник, так, словно его самоуверенная вальяжность вдруг оказалась под угрозой. – Все нас поддерживают, но ни на кого нельзя положиться. «Ла Пренса» и Аграрное общество[17]17
Аграрное общество – объединение крупных промышленников и землевладельцев в Перу.
[Закрыть] хотят только, чтобы мы отменили контроль за котировкой и охраняли свободу торговли.
– Вы же действуете к полному их удовольствию, – сказал Бермудес. – В чем же дело?
– «Комерсио» называет Одрию спасителем отчизны лишь потому, что ненавидит апристов. Им от нас нужно, чтобы мы оттеснили АПРА, и больше ничего.
– Сделано, – сказал Бермудес. – Опять же не вижу проблемы.
– «Интернешнл», «Серро» и прочие компании мечтают о твердой руке, которая взяла бы за глотку профсоюзы, – не слушая его, продолжал полковник. – Каждый тянет одеяло на себя.
– Экспортеры, антиапристы, американцы и армия, – сказал Бермудес. – Деньги и сила. Одрии жаловаться не приходится. Чего ему еще? Большего и желать нельзя.
– Президент превосходно чувствует умонастроение этих сволочей, – сказал полковник Эспина. – Сегодня они за тебя, а завтра вонзят нож в спину.
– В точности как вы это проделали с Бустаманте, – улыбнулся Бермудес, но полковник на улыбку не ответил. – Будут поддерживать режим, пока он их устраивает. Потом найдут другого генерала, а вас – коленом под зад. У нас в Перу спокон века так.
– На этот раз будет по-другому, – сказал Эспина. – На этот раз мы им спину не подставим.
– Очень правильно поступите, – подавив зевок, сказал Бермудес. – Я только все никак не пойму, зачем ты мне это все рассказываешь.
– Я говорил о тебе с президентом, – предвкушая впечатление, которое произведут его слова, сказал полковник, но Бермудес даже бровью не повел: сидел, как сидел, опершись на подлокотник и обхватив щеку ладонью, слушал молча. – Мы прикидывали, кому доверить Государственную канцелярию, тасовали колоду, и тут у меня с языка сорвалось твое имя. Глупо?
Он замолк, рот его скривился, глаза сузились – от усталости? досады? сомнения? сожаления? Несколько мгновений он где-то витал, а потом уперся глазами в лицо Бермудеса, но оно сохраняло прежнюю безразлично-выжидательную мину.
– Должность не очень видная, но крайне важная для нашей безопасности, – добавил полковник. – Ну, что, большого дурака я свалял? Меня предупредили: там нужен человек, которому бы ты доверял как самому себе, «второе я», правая рука. Я и подумать не успел, как твое имя само у меня выговорилось. Видишь, я с тобой как на духу. Очень глупо?
Бермудес вытащил новую сигарету и закурил, жадно всосал в себя дым, потом закусил губу. Он глядел на тлеющий кончик сигареты, на струйку дыма, в окно, на мусорную кучу крыш перуанской столицы.
– Я знаю, ты, если захочешь, будешь моим человеком, – сказал полковник Эспина.
– Вижу, ты питаешь доверие к былому однокашнику, – сказал наконец Бермудес так тихо, что полковник подался вперед. – Большая честь для жалкого провинциала, не преуспевшего в жизни и к тому же без всякого опыта, стать твоей правой рукой, Горец.
– Не юродствуй! – полковник пристукнул по столу. – Отвечай, согласен ты или нет.
– Такие вещи с маху не решают, – сказал Бермудес. – Дай мне дня два на размышление.
– И получаса не дам, отвечай немедленно, – сказал Эспина. – В шесть часов я должен быть у президента. Согласишься – поедешь со мной во дворец, я тебя представлю. Нет – катись в свою Чинчу.
– Обязанности свои я, в общем виде, представляю, – сказал Бермудес. – А жалованье какое положите?
– Жалованье довольно приличное, да еще представительские, – сказал Эспина. – Тысяч пять-шесть. По моим понятиям, не очень много.
– Если не роскошествовать, протянуть можно, – скупо улыбнулся Бермудес. – А поскольку запросы у меня скромные, мне хватит.
– Тогда – все! – сказал полковник. – Но ты ведь мне так и не ответил. Глупо я поступил, назвав твое имя?
– Время покажет, – снова полуулыбнулся Бермудес.
Вы спрашиваете, дон, правда ли, что Горец так и не узнал Амбросио? Когда Амбросио был шофером дона Кайо, он тысячу раз открывал перед Эспиной дверцу, тысячу раз возил его домой. Так, надо думать, он его превосходно узнал, но так этого и не показал. Эспина ведь в ту пору был министром и стеснялся, что тот знал его раньше, когда он пребывал в ничтожестве, ну, и, конечно, ему не нравилось, что Амбросио помнит про его участие в той давней истории с Росой. Понимаете, он его выбросил из головы, просто смыл из памяти, чтобы это черное лицо не наводило на печальные воспоминания. Он обходился с Амбросио так, словно в первый раз этого шофера видит. Здравствуй – до свиданья, вот и весь разговор. Теперь вот что я вам скажу, дон. Да, конечно, Роса очень сильно подурнела, пятнами вся покрылась, но мне ее все-таки жалко. Как-никак она его законная жена, верно? А он ее оставил в Чинче, когда стал важной персоной, и ни крошечки ей не перепало. Как она жила все эти годы? Ну, как жила: жила в своем желтеньком домике и сейчас еще, наверно, живет, скрипит помаленьку. Дон Кайо с нею поступил по-порядочному, не как с сеньорой Ортенсией, – назначил ей содержание, а ведь ту совсем без средств оставил. Он часто говорил Амбросио: напомни мне послать Росе денег. Чем она занималась? Кто ж ее знает, дон. Она и раньше-то жила замкнуто – ни подруг у нее не было, ни родных. Как вышла замуж, так больше никого и не видела из своего поселка, даже с Тумулой, с мамашей своей, не виделась. Я-то уверен, это дон Кайо ей запрещал. И Тумула на всех углах проклинала дочку, что та ее в дом не впускает. Да дело даже не в том: ее, Росу то есть, не принимали в порядочном обществе, да и смешно было бы на это надеяться – кто ж станет водить дружбу с дочкой молочницы, даже если она и вышла замуж за дона Кайо, и носит теперь башмаки, и мыться научилась. Все ведь помнили, как она тянула своего ослика за узду, как развозила молоко по городу. И Коршун вдобавок не признал ее невесткой. Что тут будешь делать? Одно и остается – затвориться в четырех стенах, в той квартирке за больницей Святого Иосифа, которую дон Кайо нанимал, и жить монашкой. Она носу оттуда не высовывала, потому что на улицах в нее пальцем тыкали, стыдно было, да и Коршуна она побаивалась. А потом уж привыкла. Амбросио иногда встречал ее на рынке или видел, как она, бывало, вытащит корыто на улицу и стирает, на колени вставши. Не помогли ей ни сметка ее, ни упорство – захомутала белого, ну и чего добилась? Получила фамилию, перешла в другое сословие, зато потеряла всех подруг и при живой матери жила сиротой. Дон Кайо? Ну, дон Кайо сохранил всех своих приятелей, пил с ними по субботам пиво в «Седьмом небе», играл на бильярде в «Раю» или в заведении с девочками, и говорили, что берет он в номера всегда двух сразу. Нет, с Росой он нигде не показывался, даже в кино ходил один. Что он делал? Служил в бакалее Крузов, в банке, в нотариальной конторе, потом стал продавать трактора окрестным помещикам. Годик они прокантовались в той квартирке за больницей, потом, когда дела получше пошли, наняли другую, в квартале Сур, а Амбросио к тому времени работал уже шофером на междугородных перевозках, в Чинче бывал редко и вот в один из своих приездов узнал, что Коршун помер, а дон Кайо с Росой перебрались в отчий дом, к донье Каталине. Она скончалась одновременно с правительством Бустаманте. Когда же у дона Кайо все так круто переменилось и он при Одрии пошел в гору, все стали говорить, что вот, мол, теперь Роса выстроит собственный дом, заведет прислугу. Ничего подобного, дон. В местной газетке появились фотографии дона Кайо с подписями «наш прославленный земляк», и вот тут-то мало кто не пошел к Росе на поклон – подыщите местечко для моего мужа, выбейте стипендию для сына, моего брата пусть назначат учителем сюда, а моего – префектом туда. Приходили родственники апристов и сочувствующих, плакались: пусть дон Кайо прикажет выпустить моего племянника, пусть дядюшке разрешат вернуться в страну. Вот тогда-то Роса сполна отыгралась на них за все, тут-то она с ними расквиталась, да еще с процентами. Рассказывали, она всех встречала на пороге, дальше дверей не пускала, выслушивала с самым идиотским видом: вашего сыночка забрали? Ах, какая жалость! Местечко для вашего пасынка? Что ж, пусть прокатится в Лиму, поговорит с мужем, а засим до свиданьица. Но все это Амбросио знал понаслышке, он тогда тоже уже обосновался в Лиме, разве вы не знали? Кто его уговорил разыскать там дона Кайо? Мамаша его, негритянка, Амбросио-то не хотел, говорил, что, по слухам, он всех своих земляков, о чем бы те ни просили, посылает подальше. Его, однако же, не послал, ему-то он помог, и Амбросио ему обязан по гроб жизни. Да, не любил он свою Чинчу и земляков ненавидел, бог его знает за что, ничего для города не сделал, паршивенькой школы не выстроил. Время шло, и когда люди стали бранить Одрию, а высланные апристы – возвращаться, субпрефект распорядился даже поставить у желтого домика полицейского, чтоб кто не вздумал свести с Росой счеты, так что, сами видите, дон Кайо любовью земляков не пользовался. Глупость, конечно, беспримерная: все знали, что он, как вошел в правительство, с ней не живет и не видится и если ее убьют, он только спасибо скажет. Потому что он ее мало сказать не любил – он ее ненавидел за то, что стала такой страхолюдиной. А вам как кажется?
– Видишь, как он тебя принял? – сказал полковник Эспина. – Видишь теперь, что это за человек, наш генерал?!
– Мне надо прийти в себя, – пробормотал Бермудес. – Голова кругом.
– Отдыхай, – сказал Эспина. – Завтра я тебя представлю министерским, введу в курс дела. Ну, скажи хоть: доволен ты?
– Не знаю, – отвечал Бермудес. – Я как пьяный.
– Ну ладно, – сказал Эспина, – я уже привык к твоей манере благодарить.
– Я приехал в Лиму вот с этим чемоданчиком, – сказал Бермудес, – ничего с собой не взял, думал, это на несколько часов.
– Деньги нужны? – спросил Эспина. – Кое-что я тебе сейчас одолжу, а завтра устроим так, что ты получишь часть жалованья вперед.
– Какое же несчастье стряслось с тобой в Пукальпе? – говорит Сантьяго.
– Пойду в какую-нибудь гостиницу поблизости, – сказал Бермудес. – Завтра, с утра пораньше, явлюсь.
– Для меня, для меня? – сказал дон Фремин. – Или для себя ты это сделал, для того чтоб держать меня в руках? Ах ты, бедолага!
– Да один малый, которого я считал другом, послал меня туда, посулил золотые горы, – говорит Амбросио. – Поезжай, говорит, негр, там заживешь. Надул он меня, все брехня оказалась.
Эспина проводил его до дверей, и там они попрощались. Бермудес, держа в одной руке свой чемоданчик, в другой – шляпу, вышел. Вид у него был сосредоточенный и важный, взгляд – невидящий. Он не ответил на приветствие дежурного офицера. Что, уже кончается рабочий день? Улицы заполнились людьми, стали оживленными и шумными. Он вошел в толпу, как зачарованный, и ее течение завертело и понесло его по узким тротуарам, и он покорно двигался вперед, только время от времени останавливаясь на углу, на пороге, у фонаря, чтобы прикурить. В кафе он попросил чаю с лимоном, очень медленно, маленькими глотками выпил его и оставил официанту в полтора раза больше, чем полагалось. В книжном магазинчике, спрятавшемся в глубине проулка, он пролистал несколько книжек в ярких обложках, проглядел, не видя, замусоленные страницы, набранные мелким мерзким шрифтом, пока наконец не наткнулся на «Тайны Лесбоса», и тогда глаза его на мгновенье вспыхнули. Он купил ее и вышел. Непрерывно куря, зажав свой чемоданчик под мышкой, неся измятую шляпу в руке, он еще побродил немного по центру. Уже смеркалось и опустели улицы, когда он толкнул дверь гостиницы «Маури» и спросил, есть ли свободные номера. Ему дали заполнить бланк, и он помедлил, прежде чем в графе «профессия» написать – «государственный служащий». Номер был на третьем этаже, окна выходили во двор. Он умылся, разделся и лег. Полистал «Тайны Лесбоса», скользя незрячими глазами по переплетенным фигуркам. Потом погасил свет. Но сон еще много часов не шел к нему. Он неподвижно лежал на спине, трудно дыша, устремив взгляд в черную тень, нависавшую над ним, и сигарета тлела в его пальцах.
IV
– Значит, ты пострадал в Пукальпе по милости этого Иларио Моралеса, – говорит Сантьяго. – Стало быть, можешь сказать, когда, где и из-за кого погорел. Я бы дорого дал, чтобы узнать, когда же именно со мной это случилось.
Вспомнит она, принесет книжку? Лето кончается, еще двух нет, а кажется, что уже пять, и Сантьяго думает: вспомнила, принесла. Он как на крыльях влетел тогда в пыльный, выложенный выщербленной плиткой вестибюль, сам не свой от нетерпения: хоть бы меня приняли, хоть бы ее приняли, и был уверен, что примут. Тебя приняли, думает он, и ее приняли, ах, Савалита, ты был по-настоящему счастлив в тот день.
– Молодой, здоровый, работа у вас есть, женились вот, – говорит Амбросио. – Отчего вы говорите, что погорели?
Кучками и поодиночке, уткнувшись в учебники и конспекты, – интересно, кто поступит? интересно, где Аида? – абитуриенты вереницей бродили по университетскому дворику, присаживались на шершавые скамьи, приваливались к грязным стенам, вполголоса переговаривались. Одни метисы, только чоло. Мама, кажется, была права, приличные люди туда не поступают, думает он.
– Когда я поступил в Сан-Маркос, еще перед тем как уйти из дому, я был, что называется, чист.
Он узнал кое-кого из тех, с кем сдавал письменный экзамен, мелькнули улыбки, «привет-привет», но Аиды все не было, и он отошел, пристроился у самого входа. Он слышал, как рядом вслух и хором подзубривали географию, а какой-то паренек, зажмурившись, нараспев, как молитву, перечислял вице-королей Перу[18]18
С 1542 по 1821 г. территория Перу входила в состав вице-королсвства Новая Кастилия, колонии испанской короны.
[Закрыть].
– Это тех, что ли, что богачи курят[19]19
Имеется в виду «Вице-король» – марка дорогих сигарет.
[Закрыть]? – смеется Амбросио.
Но вот она вошла: в том же темно-красном платье, туфлях без каблуков, что и в день письменного экзамена. Она шла по заполненному поступающими дворику, похожая на примерную и усердную школьницу, на крупную девочку, в которой не было ни блеска, ни изящества, как на ресницах не было туши, а на губах – помады, и вертела головой, что-то ища, кого-то отыскивая глазами – тяжелыми, взрослыми глазами. Губы ее дрогнули, мужской рот приоткрылся в улыбке, и лицо сразу осветилось, смягчилось. Она подошла к нему. Привет, Аида.
– Я тогда плевал на деньги и чувствовал, что создан для великих дел, – говорит Сантьяго. – Вот в каком смысле чист.
– В Гросио-Прадо жила блаженная, Мельчоритой звали, – говорит Амбросио. – Все свое добро раздает, за всех молится. Вы что, вроде нее хотели тогда быть?
– Я тебе принес «Ночь миновала», – сказал Сантьяго. – Надеюсь, понравится.
– Ты столько про нее рассказывал, что мне до смерти захотелось прочесть, – сказала Аида. – А я тебе принесла французский роман – там про революции в Китае[20]20
Речь идет о романс «Завоеватели» (1928) французского писателя Андре Мальро (1901 – 1976).
[Закрыть].
– Мы там сдавали вступительные экзамены в университет Сан-Маркос, – говорит Сантьяго. – До этого у меня были, конечно, увлечения – девицы из Мирафлореса, – но там, на улице Падре Херонимо, в первый раз по-настоящему.
– Да это какой-то учебник по истории, – сказал Аида.
– А-а, – говорит Амбросио. – А она-то тоже в вас влюбилась?
– Это его автобиография, но читается как роман, – сказал Сантьяго. – Там есть глава, называется «Ночь длинных ножей», это о революции в Германии. Прочти, не пожалеешь.
– О революции? – Аида пролистала книгу, в голосе ее и в глазах было недоверие. – А этот Вальтен, он коммунист или нет?
– Не знаю. Не знаю, любила ли она меня и знала ли, что я ее люблю, – говорит Сантьяго. – Иногда думаю – да, иногда – нет.
– Вы не знали, она не знала, что за путаница такая? Как такое можно не знать? – говорит Амбросио. – А кто она была?
– Только сразу предупреждаю, если это против коммунистов, я читать не стану, – в мягком, застенчивом голосе зазвучал вызов. – Я сама коммунистка.
– Ты? – Сантьяго ошеломленно уставился на нее. – Правда?
Да нет, думает он, ты только хотела стать коммунисткой. А тогда сердце у него заколотилось, он был просто ошарашен: в Сан-Маркосе ничему не учат, сынок, и никто не учится, все заняты только политикой, там окопались все апристы и коммунисты, все смутьяны и крамольники свили там свое гнездо. Бедный папа, думает он. Смотри-ка, Савалита, еще не успел поступить, и вон что оказывается.
– По правде говоря, и коммунистка и нет, – созналась Аида. – Не знаю, куда они пойдут.
Да как можно быть коммунисткой, не зная, существует ли еще в Перу такая партия? Скорей всего, Одрия ее уже разогнал, всех пересажал, выслал, убил. Но если она выдержит устный экзамен и ее все-таки примут в университет, Аида, конечно, наладит связи с теми, кто уцелел, и будет изучать марксизм, и вступит в партию. Она смотрела на меня с вызовом, думает он, она думала, я буду с нею спорить, голос был нежный, говорит, что все они – безбожники, а глаза дерзко сверкали, горели умом и отвагой, а ты, Савалита, слушал ее удивленно и восхищенно. Тогда ты и полюбил ее, думает он.
– Мы с ней поступали в Сан-Маркос, – говорит Сантьяго. – Очень увлекалась политикой, верила в революцию.
– Неужто вас угораздило в апристку влюбиться? – говорит Амбросио.
– Апристы в то время в революцию уже не верили, – говорит Сантьяго, – она была коммунистка.
– Охренеть можно, – говорит Амбросио.
Новые и новые абитуриенты стекались на улицу Падре Херонимо, заполняли патио и вестибюль, бежали к вывешенным спискам, потом снова принимались лихорадочно рыться в своих конспектах. Беспокойный гул висел над Сан-Маркосом.
– Ну, что ты уставился на меня, как будто я тебя сейчас проглочу? – сказала Аида.
– Понимаешь ли, какое дело, – запинаясь, замолкая в самый неподходящий момент, подыскивая слова, сказал Сантьяго, – я с уважением отношусь к любым убеждениям, ну, и, кроме того, я сам как бы придерживаюсь передовых взглядов.
– Забавно, – сказала Аида. – Как ты думаешь, сдадим устный? Столько еще ждать, у меня в голове все перемешалось, учила-учила, а что учила – не помню.
– Хочешь, погоняю тебя? – сказал Сантьяго. – Ты чего больше всего боишься?
– Всеобщей истории, – сказала Аида. – Давай. Только не здесь, давай погуляем, я на ходу лучше соображаю.
Они прошли по винно-красным плитам вестибюля – где, интересно, она живет? – и оказались еще в одном маленьком дворике, где народу было меньше. Он закрыл глаза и увидел домик, тесный и чистый, обставленный строго и скромно, увидел окрестные улицы, увидел лица – угрюмые? серьезные? суровые? – людей в комбинезонах и блузах, услышал их речи – немногословные? непонятные для непосвященных? проникнутые духом пролетарской солидарности? – и подумал: это рабочие, и подумал: это коммунисты, и решил: я не бустамантист и не априст, я – коммунист. А чем коммунисты отличаются от всех прочих? Ее спросить неловко, она меня сочтет полным идиотом, надо как-то выведать это не впрямую. Наверно, она целое лето прошагала по этой крошечной комнате взад-вперед, уставившись своими дерзкими глазами в программы и учебники. Наверно, там было темновато, и, чтобы записать что-нибудь, она присаживалась на столик, где тускло горела лампочка без абажура или свеча, медленно шевелила губами, зажмуривалась, снова вставала, истовая и бессонная, и прохаживалась взад-вперед, твердя имена и даты. Наверно, ее отец – рабочий, а мать – в прислугах. Ах, Савалита, думает он. Они шли очень медленно, спрашивая друг друга о династиях фараонов, о Вавилоне и Ниневии[21]21
Ниневия – древний город, в VIII-VII ее. до н.э. – столица Ассирии; разрушена войсками вавилонян в 612 до н.э.
[Закрыть], а неужели она у себя в доме узнала про коммунистов? – и о причинах Первой мировой – а что она скажет, когда узнает, что мой старик – за Одрию? – и о сражении под Марной[22]22
Имеется в виду сражение между германскими и англо-французскими войсками, состоявшееся 5-12 сентября 1914 г. на р. Марна (Северная Франция), в ходе которого было остановлено немецкое наступление на Париж.
[Закрыть] – наверно, вообще знать меня не захочет – я ненавижу тебя, папа. Мы гоняли друг друга по курсу всеобщей истории, но дело было не в том. Мы становились друзьями, думает он. Ты где училась? В Национальном коллеже? Да, а ты? Я – в гимназии Святой Марии. А-а, в гимназии для пай-мальчиков. Ужасно там было, но он же не виноват, что родители туда его засунули, он бы, конечно, предпочел Гваделупскую, и Аида рассмеялась: не красней, у меня нет предрассудков, а скажи-ка, что было под Верденом[23]23
Верден – город-крепость на северо-востоке Франции, на реке Мёз. Здесь имеется в виду т. н. Верденская операция (21 января – 21 декабря 1916 г.), в ходе которой и германские и французские войска в ожесточенных боях понесли огромные потери.
[Закрыть]? Мы ожидали от университета всего самого замечательного, думал он. Они вступят в партию вместе и вместе будут устраивать типографию, и их вместе посадят и вместе вышлют, дуралей, никакого договора там не подписывали, там сражение было, конечно, дуралей, а теперь скажи, кем был Кромвель[24]24
Кромвель Оливер (1599-1658) – крупнейший деятель Английской буржуазной революции, с 1653 г. – фактический диктатор Англии.
[Закрыть]. Мы ждали всего самого замечательного от университета и от самих себя, думает он.
– Когда вы поступили в Сан-Маркос и вас остригли наголо, барышня Тете и братец ваш Чиспас дразнили вас, кричали: «Тыквочка! Тыквочка»! – говорит Амбросио. – А как отец ваш обрадовался, когда вы поступили!
Она носила юбку и рассуждала о политике, она все на свете читала и была девушкой, и Цыпочка, Белка, Макета и прочие очаровательные идиотки с Мирафлореса стали блекнуть, выцветать, отступать, растворяться в воздухе. Ты, Савалита, обнаружил тогда, что девушка годится не только для этих дел, думает он. Не только для того, чтобы за ней ухаживать, не только для того, чтобы крутить с нею любовь, не только чтобы с нею спать. Для чего-то еще, думает он. Право и педагогику, а ты? Право и словесность.
– Чего ты так намазалась? – спросил Сантьяго. – Ты кто – женщина-вамп или клоун?
– А чем именно? – спросила Аида. – Философией?
– Не твое дело, – сказала Тете. – Мне так нравится. Не имеешь никакого права мне указывать.
– Нет, скорей всего, литературой, – сказал Сантьяго. – Впрочем, пока еще не решил.
– Все, кто изучает литературу, хотят стать поэтами. И ты тоже? – сказала Аида.
– Да перестаньте вы цепляться друг к другу, – сказала сеньора Соила. – Целый день как кошка с собакой.
– Знаешь, я тайком ото всех писал стихи, целая тетрадка была, – говорит Сантьяго. – Никому не показывал. Это и называется – «чист».
– Ну, что ты так покраснел? – засмеялась Аида. – Я спросила только, хочешь ли ты быть поэтом? Нельзя быть таким буржуазным.
– И еще они вас просто-таки изводили, называли академиком, – говорит Амбросио. – Ух, как вы ссорились в ту пору, клочья летели.
– А я говорю, ты никуда не пойдешь, – сказал Сантьяго, – пока не переоденешься и не смоешь всю эту гадость.
– Что тут такого? – сказала сеньора Соила. – Что-то ты больно суров стал к своей сестричке. Ты же у нас за свободу личности? Пусть сходит в кино.
– Она не в кино отправляется, а на танцы в «Сансет», а в кавалеры взяла этого громилу Пеле Яньеса, – сказал Сантьяго. – Утром я их засек – они сговаривались по телефону.
– В «Сансет», с Яньесом? – переспросил Чиспас. – Этот малый совсем не нашего круга.
– Да нет, просто я люблю литературу, поэтом вовсе не собираюсь быть, – сказал Сантьяго.
– Это правда, Тете? – сказал дон Фермин. – Ты что, с ума сошла?
– Он врет, врет, он все врет! – засверкала глазами, задрожала Тете. – Проклятый кретин, я тебя ненавижу, чтоб тебя черти взяли!
– Я тоже, – сказала Аида. – На педагогическом буду заниматься литературой и испанским.
– Как тебе не стыдно обманывать родителей, гадкая девчонка?! – сказала сеньора Соила. – Как ты смеешь так разговаривать с родным братом? Совсем уж!
– Рановато тебе в такие места шляться, – сказал дон Фермин. – Сегодня, и завтра, и в воскресенье изволь сидеть дома.
– А из Пене твоего я душу вытряхну, – сказал Чиспас. – Ему не жить, папа.
Ну, тут уж Тете зарыдала в голос – будь ты проклят! – опрокинула свою чашку – лучше бы мне умереть! – а сеньора Соила ей: ну-ну-ну, – ябеда поганая! – а сеньора Соила: смотри, ты вся облилась чаем, – чем сплетничать, как старая баба, писал бы лучше свои слюнявые стишки! Выскочила из-за стола и еще раз крикнула про поганые, про слюнявые стишки и что лучше бы ей умереть, чем так жить. Простучала каблучками по ступенькам, шарахнула дверью. Сантьяго помешивал ложечкой в чашке, хотя сахар давно растаял.
– Что я слышу? – улыбнулся дон Фермин. – Ты сочиняешь стихи?
– Он за энциклопедией эту тетрадку прячет, мы с Тете ее всю прочли, – сказал Чиспас. – Стишки про любовь, попадаются и про инков. Чего ты застеснялся, академик? Смотри, папа, что с ним делается?
– Сомневаюсь, что ты их прочел, – сказал Сантьяго. – Ты ведь у нас и букв не знаешь.
– Смотрите, какой грамотей выискался, – сказала сеньора Соила. – Нельзя быть таким чванным, Сантьяго.
– Иди, иди, пиши свои слюнявые стишки, – сказал Чиспас.
– Господи, а ведь мы их отдали в самый лучший коллеж в Лиме. Вот чему их там выучили, – вздохнула сеньора Соила. – Сидят перед нами и ругаются, как ломовики какие-то.
– Почему же ты мне никогда об этом не говорил, сынок? – сказал дон Фермин. – Покажи.
– Не слушай их, папа, – еле выговорил Сантьяго. – Нет у меня никаких стихов, они все врут.
Появилась экзаменационная комиссия, наступила леденящая кровь тишина. Абитуриенты обоего пола смотрели, как три человека, предшествуемые педелем, прошли через вестибюль и скрылись в одной из аудиторий. Господи, сделай так чтобы я поступил, чтобы она поступила. Снова зажужжали голоса, и теперь – гуще и громче, чем раньше. Аида и Сантьяго вернулись в патио.
– Все будет в порядке, – сказал Сантьяго. – Все знаешь назубок.
– Да нет, я кое в чем плаваю, – сказала Аида. – Но ты-то точно поступишь.
– Все лето ухлопал, – сказал Сантьяго. – Если провалят – застрелюсь.
– Я не признаю самоубийства, – сказала Аида. – Это – слабодушие.
– Поповская брехня, – сказал Сантьяго. – Наоборот, это признак мужества.
– Попы меня мало волнуют, – сказала Аида, а глаза ее сказали: ну, ну, решайся, отважься. – Я не верю в Бога, я атеистка.








