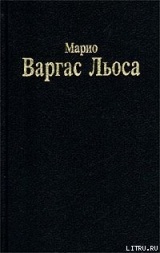
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Алло, алло! – бился в трубке голос генерала Эспины. – Алло, Альсибиадес!
– Слушаю, – мягко сказал он. – Это ты, Горец?
– Кайо? Ну, наконец-то! – Голос Эспины обрел бодрую суровость. – С позавчерашнего дня не могу тебя поймать. В министерстве тебя нет, дома – нет. Не вздумай отпираться, Кайо, ты от меня бегаешь.
– Ты мне звонил? – Карандаш в его правой руке вывел на бумаге кружок. – Впервые слышу.
– Десять раз, Кайо! Какие там десять! Раз пятнадцать я тебе звонил!
– Я проверю и выясню, почему мне не докладывали. – Рядом с первым появился второй кружок, побольше. – Слушаю тебя, Горец, я к твоим услугам.
В трубке помолчали, беспокойно прокашлялись, часто задышали:
– Зачем понадобился пост у моего дома, Кайо. – Он говорил медленно, чтобы скрыть тревогу, но от этого она становилась только более явной. – Это что – охрана? Или слежка? Какого дьявола?..
– Ты, как бывший министр, заслужил, чтобы жалованье твоему швейцару шло из казны. – Он нарисовал третий кружок, помолчал и сказал совсем другим тоном: – Ей-богу, старина, я не в курсе дела. Наверно, позабыли, что ты уже не нуждаешься в охране. Если агент мозолит тебе глаза, можно будет его убрать.
– Нет, он не мозолит мне глаза, он мне их открыл, – сухо произнес Эспина. – Все понятно, Кайо. Пост у дверей означает, что правительство мне больше не доверяет?
– Ну, что за глупости, Горец? Кому же доверять, как не тебе?
– Вот именно, вот именно, – Эспина говорил медленно, потом опять зачастил. – Ты меня врасплох не захватишь, Кайо. Не думай, пожалуйста, что я выжил из ума настолько, что не узнаю филера.
– Зачем кипятиться из-за таких пустяков? – Пятый кружок вышел меньше других и неправильной формы. – Сам посуди, зачем нам следить за тобой? Может быть, он просто завел шашни с твоей горничной?
– Пусть проваливает подобру-поздорову, я шутить не люблю, ты знаешь. – Эспина был разъярен всерьез, он задыхался от негодования. – Подвернется под горячую руку, я его застрелю! Имей это в виду на всякий случай.
– Вот уж действительно: из пушки по воробьям. – Он исправил линию, обвел пожирнее, и кружок был теперь не хуже прочих. – Я выясню, в чем дело. Скорей всего, Лосано по старой памяти поставил филера, чтобы присматривал за домом. Я распоряжусь его убрать.
– Ну, насчет того, чтобы застрелить его, я пошутил. – Эспина, как видно, совладал с собой, старался говорить спокойно. – Но ведь ты понимаешь, Кайо, как меня это возмутило.
– Ты все тот же недоверчивый и неблагодарный Горец, – сказал он. – Столько уголовной швали в городе, а твой дом под охраной. Ладно, забудем это. Как ты поживаешь? Как семейство? Надо бы нам с тобой как-нибудь пообедать вместе.
– Когда захочешь, я-то теперь совершенно свободен. – Голос его дрогнул, словно Эспина сам застеснялся прорвавшейся обиды. – А вот ты, наверно, очень занят, а? С тех пор, как я ушел из министерства, не позвонил мне ни разу. Ни разу – за три месяца.
– Ты прав, прав, Горец, но ведь не мне тебе рассказывать, что у меня за работа. – Восемь кружков: пять в ряд, а под ними – еще три, он начал аккуратно выводить девятый. – Я несколько раз собирался позвонить тебе, но все руки не доходили. Ну, на следующей неделе непременно повидаемся. Обнимаю тебя.
Он дал отбой прежде, чем Эспина успел попрощаться, некоторое время смотрел на девять кружков, потом изорвал бумагу и сложил клочки в мусорную корзину.
– Эти две страницы я выстукивал целый час, – сказал Сантьяго. – Раза четыре переделывал, запятые потом расставил от руки, когда принес заметку Вальехо. Сеньор Вальехо читал очень внимательно, держа карандаш на весу, потом кивнул, поставил крестик, пошевелил губами и поставил еще один, славно, славно, пишете чистым выразительным языком и успокоил его сочувствующим, жалеющим взглядом, видно, ему часто приходилось говорить это. Вот только…
– Если б ты не выдержал испытание, пришлось бы возвращаться в отчий загончик, и сейчас ты был бы образцовый обитатель Мирафлореса, – засмеялся Карлитос. – Не ты бы писал, а про тебя – в светской хронике, как про твоего братца.
– Я волновался, – сказал Сантьяго. – Может быть, еще раз переделать?
– А меня проверял и принимал Бесеррита, – сказал Карлитос, – была вакансия в уголовной хронике. Никогда не забуду.
– Не надо, это вовсе не плохо. – Вальехо качнул белой головой, посмотрел на него дружелюбными, выцветшими глазами. – Вот только кое-чему все-таки придется поучиться, если уж решились с нами работать.
– Сексуальный маньяк, допившийся до белой горячки, ворвался в бордель, зарезал четырех девок, бандершу и двоих педерастов, – прорычал Бесеррита. – Одна от полученных ранений скончалась. Две страницы, пятнадцать минут.
– Спасибо, сеньор Вальехо, – сказал Сантьяго. – Поверьте, я вам очень благодарен.
– Как я тогда в штаны не напустил? – сказал Карлитос. – До сих пор удивляюсь. Ах, Бесеррита!
– Надо располагать факты по степени важности, по убывающей и стараться покороче, – Вальехо пронумеровал несколько фраз и протянул ему листки. – Начинать следует с погибших, молодой человек.
– Мы все презирали Бесерриту, все злословили о нем, – сказал Сантьяго. – А теперь нам только и осталось, что вспоминать его, и умиляться ему, и мечтать, чтобы он воскрес. Ну, не чепуха ли?
– Это сразу же привлекает читателя, сразу его завораживает, – добавил Вальехо, – задевает его за живое. Ибо все мы рано или поздно умрем.
– Он был наиболее совершенным воплощением нашей журналистики, – сказал Карлитос. – Пошлость, вознесенная на предельную высоту, ставшая символом, парадигмой. Как же без светлого чувства вспоминать о нем?
– А я, дурак, оставил их на финал, – сказал Сантьяго.
– Известно ли вам, что такое «три строки»? – с лукавым видом уставился на него Вальехо. – Это то, что американцы – а уж они, поверьте мне, самые бойкие журналисты в мире называют «lead»[51]51
«Шапка» (англ.).
[Закрыть].
– Видишь, какие церемонии он с тобой разводил, – сказал Карлитос. – А вот мне Бесеррита рявкнул: «Писать не умеете, беру вас потому только, что мне надоело пробовать новичков!»
– Все самое главное должно уместиться в первых трех строках, в этом самом «леде», – ласково говорил Вальехо. – Вот, к примеру: «Двое погибших и пять миллионов ущерба – таков предварительный итог пожара, уничтожившего вчера вечером большую часть универмага Визе, одного из самых крупных зданий в центре Лимы; лишь через восемь часов упорной борьбы пожарным удалось одолеть огненную стихию». Понятно?
– Вот и попробуй-ка, посочиняй стихи после того, как тебе вдолбили в башку эти формулы, – сказал Карлитос. – Если у человека – призвание к литературе, чистейшее безумие идти работать в газету.
– А потом уже можно расцветить, – сказал Вальехо. – Указать причину катастрофы, описать ужас продавцов, дать показания свидетелей и прочая и прочая.
– Нет у меня никакого призвания к литературе, пропало оно после того, как попало на зубок моей сестре, – сказал Сантьяго. – Так что я был очень рад поступить в «Кронику», Карлитос.
Хозяйка же, сеньора Ортенсия, была совсем другая, ну, полная ему противоположность. Он – урод, она – красавица, он – хмурый, серьезный, а она – такая веселая. Надменности в ней ни капельки не было, не то что в сеньоре Соиле, которая всегда будто с трона вещала. Эта же, если даже и покрикивала, все равно вела себя как ровня, как будто с сеньоритой Кетой разговаривает. Да уж, она с ними не церемонилась, общалась запросто и ничего не стеснялась. У меня две слабости, сказала она однажды, выпить люблю и сладкое, но Амалия-то считала, что единственная ее слабость – чистота. Заметит пылинку на ковре – сейчас же кричит: Амалия, неси метелку, пепельницу с окурками – завизжит, как будто мышь увидела: Карлота, что это за хлев! Мылась она утром и как спать ложиться, но хуже всего, что и их обоих заставляла, ее бы воля, они вовсе бы из воды не вылезали. Когда Амалия только поступила на место и принесла хозяйке завтрак в постель, та ее оглядела с ног до головы: душ принимала? Нет, сеньора, отвечала удивленная Амалия, а та ей: бегом в ванную, здесь надо мыться каждый день, и сделала такую детскую гримаску. А полчаса спустя, когда Амалия, стуча зубами, стояла под струей, дверь ванной открылась, и вошла хозяйка в халате, неся в руке кусок мыла. Амалию так в жар и бросило, она не решилась прикрыться платьем, только вся сжалась, понурилась, застыла. Ты что, стесняешься? – рассмеялась хозяйка. Нет, пролепетала Амалия, а та снова рассмеялась: я так и знала, что ты без мыла моешься, вот, возьми, намылься как следует. И покуда Амалия намыливалась – а мыло трижды выпрыгивало у ней из пальцев, – покуда она терлась мочалкой так усердно, что кожа стала гореть, хозяйка все стояла там, пристукивала каблучками, пошучивала над ее стыдливостью – и ушки, ушки не забудь, а теперь лапки, и все хохотала и смотрела на нее очень нахально. Вот и прекрасно, теперь каждое утро будешь мыться с мылом, – и уже открыла дверь, но перед тем, как уйти, окинула Амалию таким, таким взглядом и сказала: а стыдиться тебе совершенно нечего, хоть ты и худенькая, но ничего, очень даже ничего. Ушла наконец, и издалека снова донесся ее смех.
Разве сеньора Соила стала бы так себя вести? Лицо у Амалии пылало, голова шла кругом. Платье должно быть застегнуто сверху донизу, внушала ей сеньора Соила, юбку такую короткую носить нельзя. Потом, когда прибирались в гостиной, Амалия рассказала Карлоте про это мытье, а та завращала глазами: ага, ага, это за ней водится, к ней она тоже несколько раз заходила, смотрела, чисто ли моется. Мало того, требовала, чтоб они под мышки сыпали какую-то дрянь от пота. Каждое утро, чуть глаза продерет, еще потягивается, а уж вместо «доброе утро» спрашивает первым делом: душ принимала? присыпалась? Она с ними не церемонилась и сама их не стеснялась, показывалась им в любом виде. Однажды утром Амалия принесла ей завтрак, а кровать пуста, а из ванной доносится журчание и плеск. На стол поставить, сеньора? Нет, отвечает из-за двери, сюда неси. Амалия вошла, а хозяйка – в ванне, голову откинула на подушечку, глаза прикрыла. Вся ванная окутана влажным паром, и Амалия остановилась на пороге, с беспокойным любопытством глядя на белое тело под водой. Тут глаза хозяйкины открылись: есть хочу, умираю, давай сюда. Лениво приподнялась, села, протянула руки к подносу. Амалия видела, как показалась из воды белая грудь в капельках воды, темные соски. Она не знала, куда глаза девать, что делать, а хозяйка (она оживилась, потягивала сок, намазывала масло на поджаренный ломтик хлеба) увидела, что горничная как в столбняке застыла у края ванны. Чего ты вытаращилась? – а потом шутливо так: – Я тебе не нравлюсь? Амалия забормотала что-то, бочком выбираясь из ванной, а вслед ей грянул хозяйкин хохот: ладно, беги, за подносом потом придешь. Ну, разве сеньора Соила допустила когда-нибудь, чтоб видели, как она моется? А сеньора Ортенсия – совсем другая, совсем бесстыжая, хоть и симпатичная. В первое же воскресенье Амалия – хотелось ей понравиться хозяйке – спросила, можно ли ей к мессе пойти, ненадолго? А та прямо зашлась от смеха. Ну конечно, святоша ты этакая, беги, смотри только, как бы падре тебя не прижал в уголку! Она никогда к мессе не ходит, сказала ей потом Карлота, ну и мы тоже перестали. Потому, наверно, в доме не было ни одного Сердца Иисусова, ни одного образа святой Росы Лимской. Вскоре и Амалия про церковь забыла.
В дверь постучали, он ответил «войдите», и появился доктор Альсибиадес.
– Мне некогда, – сказал он, глянув на груду принесенных доктором вырезок. – Что-нибудь важное?
– Корреспонденция из Буэнос-Айреса. Перепечатана всеми газетами.
Он протянул руку, стал перебирать вырезки. Альсибиадес красными чернилами пометил заголовки: «Антиперуанский инцидент в Буэнос-Айресе» – «Пренса»; «Апристы забросали камнями посольство Перу в Аргентине» – «Кроника»; «Апристы надругались над государственным флагом Перу» – «Комерсио» – и стрелками показал, что к чему относится.
– Все перепечатали сообщение АНСА[52]52
АНСА – национальное информационное агентство Перу.
[Закрыть], – зевнул он.
– Юнайтед Пресс и Ассошиэйтед Пресс и другие агентства по нашей просьбе исключили эту информацию из своих бюллетеней, – сказал доктор Альсибиадес. – Теперь они будут протестовать, потому что АНСА их обскакала. Насчет АНСА вы никаких распоряжений не дава…
– Хорошо, – сказал он. – Найдите этого, из АНСА, как его? Тальио, да, Тальио. Немедленно ко мне.
– Слушаю, дон Кайо, – сказал доктор Альсибиадес. – Сеньор Лосано уже здесь.
– Пригласите и проследите, чтоб нам никто не мешал, – сказал он. – Когда приедет министр, скажите, я буду у него в три. Письма подпишу сейчас. Всё.
Альсибиадес вышел, а он выдвинул верхний ящик стола. Достал пузырек, некоторое время с отвращением смотрел на него. Потом вытряхнул на ладонь облатку, подержал ее во рту и проглотил.
– А вы давно в журналистике, сеньор Вальехо? – сказал Сантьяго.
– Да уж лет тридцать, представьте. – Взгляд его устремился в бездны и пропасти времени, рука задрожала. – Сначала бегал с рукописями из редакции в типографию. Нет, я не жалуюсь. Это, конечно, неблагодарное занятие, но все-таки дает какое-то удовлетворение.
– Наибольшее удовлетворение ему дали, когда погнали на пенсию, – сказал Карлитос. – Меня всегда поражало, что Вальехо работает в газете: он был такой мягкий, робкий, сдержанный. Такие тут не приживаются, добром это не могло кончиться.
– Ну, приступите к работе с первого, – Вальехо взглянул на календарь, – то есть, в следующий вторник. А если хотите поскорее освоиться, приходите сюда вечером – сегодня, завтра, когда хотите.
– Неужели для того, чтобы стать журналистом, необходимо только знать, что такое «lead»? – сказал Сантьяго.
– Для того, чтобы стать журналистом, надо быть сволочью или, по крайней мере, уметь сволочью прикидываться, – весело кивнул Карлитос. – У меня это уже выходит легко и просто. Тебе, Савалита, еще надо напрягаться.
– Пятьсот солей в месяц – конечно, негусто, – сказал Вальехо. – Но это на первое время. Потом прибавим.
Выходя из «Кроники», он столкнулся с каким-то мужчиной – крохотные усики, галстук, переливающийся всеми цветами радуги, – напомнившим ему Эрнанадеса, и на площади Сан-Мартин он уже позабыл о беседе с Вальехо: может быть, его ищут, оставили записку: ждут? Но сеньора Лусия только поздоровалась, когда он вошел в пансион. В темном вестибюле он набрал номер Клодомиро.
– Дядя, все прошло прекрасно, с первого приступаю. Вальехо был со мной очень любезен.
– Рад за тебя, мой мальчик, – сказал Клодомиро. – Слышу по голосу, ты доволен.
– Очень доволен, дядя. Скоро смогу вернуть тебе долг.
– Это не к спеху, – тут Клодомиро немного помолчал. – Как по-твоему, не надо ли тебе позвонить родителям, а? Они не будут тебя уговаривать вернуться: ушел так ушел. Но ведь нехорошо держать их в неведении, согласись. А?
– Я позвоню, позвоню. Только не сегодня. Ты ему скажи, что у меня все хорошо, пусть не беспокоятся.
– Ты всегда говоришь про дона Фермина, а про мать – никогда, – сказал Карлитос. – А ведь она, наверно, билась в истерике, когда ты ушел?
– Наверно, рыдала в голос, но ни разу не пришла ко мне, – сказал Сантьяго. – Зачем же? Лучше чувствовать себя мученицей.
– Ты все еще ее ненавидишь, – сказал Карлитос. – Я-то думал, все забылось.
– Я тоже так думал, – сказал Сантьяго. – Но, видишь: вдруг нахлынет, прорвет, и оказывается – ничего подобного.
II
Отродясь не видела Амалия, чтоб люди жили, как жила сеньора Ортенсия. Все кувырком, все шиворот-навыворот. Просыпалась поздно. В десять Амалия подавала ей завтрак вместе со всеми газетами и журналами, какие только продавались в киоске на углу, но хозяйка, выпив свой сок и кофе с тостиками, еще долго оставалась в постели, читала или просто нежилась, и выходила не раньше полудня. Симула представляла ей счета, а потом хозяйка с рюмочкой, бутылочкой, коробочкой конфет усаживалась в гостиной, крутила пластинки. Начинались телефонные разговоры. Ну, это еще было похоже, как перезванивалась с подружками сеньорита Тете: ты видела ту чилийку, которая теперь выступает в «Амбесси»? ты читала в «Ультима Ора», что Лулу прибавила десять кило, Кетита? но потом начиналось совсем другое. Чаще всего разговаривала с сеньоритой Кетой, делилась с нею новостями и сплетнями, крыла всех на чем свет стоит. Ох, как она ругалась! В первые дни Амалия ушам своим не верила, слыша: а правда, Кетита, что Курочка все-таки выходит за этого педераста? А засранка-то эта, Пакета, скоро совсем лысая будет, а то еще и похлеще, и самые уличные, черные слова выговаривались как ни в чем не бывало да еще и со смехом. Иногда матерщина долетала до кухни, и тогда Симула плотней закрывала дверь. Поначалу Амалия просто столбенела, а потом вошла во вкус и бежала в буфетную послушать, о чем судачит хозяйка с сеньоритой Кетой, или с сеньоритой Карминчой, или с сеньоритой Люси, или с сеньоритой Ивонной. До обеда хозяйка уже успевала пропустить две-три рюмочка, щеки у нее разгорались, глаза блестели, она сыпала добродушными шуточками – ну, Карлота, как твоя невинность? – от которых Карлота застывала с открытым ртом, не зная, что тут отвечать, – Амалия, какой у тебя любовник? – и Амалия терялась, и смущалась, и бормотала, что никакого любовника у нее нет, а та только хохотала: ничего, это сейчас никакой, зато потом сразу двоих заведешь.
Чем он так его раздражал? Лоснящейся физиономией, поросячьими глазками, льстивыми улыбочками? Или этим запахом – запахом стукача: смешанным ароматом доносов, публичного дома, потных подмышек, недолеченного триппера? Нет. Но чем же тогда? Лосано сидел в кресле и методично раскладывал на столике листки и тетради. Он взял карандаш, сигареты, сел напротив.
– Ну, как себя ведет Лудовико? – улыбнулся, подавшись всем телом вперед, Лосано. – Вы им довольны, дон Кайо?
– Мне очень некогда, – был ответ. – Постарайтесь покороче.
– Разумеется, разумеется, дон Кайо. – Голос старой потаскухи, голос отставного сводника. – Слушаю вас, дон Кайо.
– Профсоюз строительных рабочих. – Он прикурил, глядя, как короткопалые руки роются в стопке бумаг. – Результат выборов.
– Все прошло гладко, за список Эспиносы проголосовало подавляющее большинство, – сказал Лосано, улыбаясь от уха до уха. – Сенатор Парра предложил создать новый профсоюз, и предложение было встречено овацией.
– Сколько человек проголосовало за другой список?
– Двадцать четыре человека против двухсот с лишним. – Лосано пренебрежительно махнул рукой, скривился. – Капля в море.
– Я надеюсь, вы не всех противников Эспиносы пересажали?
– Нет, взяли только двенадцать человек – самых заядлых. Они призывали голосовать за список Браво. Опасности не представляют.
– Можете начать их выпускать мелкими партиями. Сначала апристов, потом остальных. Их соперничество нам на руку.
– Слушаюсь, дон Кайо, – сказал Лосано и, помолчав, с гордостью добавил: – Сами прочтете, что в газетах пишут: выборы прошли без всяких эксцессов, в обстановке торжества демократии.
Нет, дон, он-то никогда в кадрах не был, нигде не числился. Время от времени только, когда дон Кайо уезжал, поступал в распоряжение сеньора Лосано, работал с его людьми. Что за работа? Да разная работа, дон, всего понемножку. Первый раз надо было пошарить по кварталам. Знакомьтесь, сказал тогда сеньор Лосано, это вот – Лудовико, это Амбросио. Пожали друг другу руки, сеньор Лосано все им объяснил, а потом они решили посидеть немного в пивной на проспекте Боливии. Трудное ли предстояло дело? Нет, Лудовико говорил, раз плюнуть. А Амбросио у нас новенький? – Нет, он вообще-то шофер, его прикомандировали.
– Ты сеньора Бермудеса возишь? – так и расплылся Лудовико. – Дай я тебя поцелую.
Короче говоря, они быстро спелись. Лудовико рассказывал уморительные истории про своего напарника Иполито – полного выродка и кретина, а Амбросио смеялся от души. А теперь дона Кайо возит этот самый Лудовико, а Иполито ходит у него в помощниках. Ладно. Когда смеркалось, отправились они, Амбросио за рулем, но довольно скоро завязли в грязи. Вылезли, потопали на своих двоих, увязая чуть не по колено, отгоняя тучи москитов, и, поспрашивав прохожих, добрались до дома того, кого искали. Открыла им какая-то толстая бабища, похожая на китаянку, открыла и уставилась с подозрением. Нельзя ли видеть сеньора Каланчу? Тут он и сам вышел на свет – тоже толстенький, босиком, в исподней рубашке.
– Вы будете тут за главного? – спросил его тогда Лудовико.
– Ну, раз не вы и не ваш товарищ, то, наверно, я. Больше вроде некому, – отвечал он им, дон, и глядел так снисходительно.
– У нас к вам разговор неотложный, – сказал Амбросио. – Выйдем, если не против.
Тот смотрел на них, смотрел, потом говорит, заходите, мол, в дом, вот и поговорим. Нет, надо с глазу на глаз, тут дело такое. Ладно, говорит, как угодно, говорит. Вышли на пустырь, он впереди, Амбросио и Лудовико за ним.
– Хотим вас предостеречь, – сказал Лудовико. – Для вашей же пользы. Опасную штуку вы затеяли.
– Я вас не понимаю, – слабым таким голосом заговорил.
Лудовико тогда вытащил сигареты, угостил его и огоньку дал.
– Вы зачем это, дон, людям советуете, чтоб 27 октября не ходили на демонстрацию на Пласа-де-Армас? – сказал Амбросио.
– А еще неуважительно отзываетесь о личности генерала Одрии, – сказал Лудовико. – Что ж это вы, а?
– Да кто это меня оклеветал, – тот так и взвился, но тут же скис. – Вы из полиции, что ли? Очень приятно.
– Были б из полиции, по-другому бы с тобой разговаривали, – сказал Лудовико.
– Да когда же я ругал правительство и президента? – стал возмущаться Каланча. – Наш квартал и назван-то в честь революции 27 октября.
– А зачем все-таки подбивали людей не ходить на демонстрацию? – сказал Амбросио.
– Рано или поздно все становится известно, – сказал Лудовико. – Вот тебя в полиции взяли на заметку как подрывной элемент.
– Да это поклеп, клевета, да чтоб я когда-нибудь… – завопил он как в театре, дон, – дайте я все вам объясню.
– Ну, объясняй, – сказал Лудовико. – Смышленый человек всегда объясниться сумеет.
И он им рассказал душещипательную историю, дон. Здешние жители только недавно спустились с гор, из сьерры, многие и по-испански-то не говорят, стали жить на этом пустыре, вреда от них никому не было, а когда 27 октября произошла революция Одрии, назвали свой поселочек в честь этой даты, чтоб их всех не замели, и они очень, очень благодарны генералу, что не велел их сгонять с земли. Здешние – не в пример им – так он им вкручивал, дон, – и ему, – люди совсем бедные, образования никакого, а его выбрали председателем Ассоциации, потому что он родом с побережья и грамотный.
– Ну, и дальше что? – сказал тогда ему Лудовико. – На жалость бьешь? Не выйдет, Каланча.
– Если мы будем соваться в политику, а власть, не дай бог, переменится, нас всех пересажают, а потом погонят отсюда, – объяснял Каланча. – Понимаете?
– Вот насчет того, что «власть переменится», это и есть, по-моему, самый подрыв основ, – сказал Лудовико. – Как ты считаешь, Амбросио?
– Тот прямо подпрыгнул, выронил изо рта сигарету, стал ее подбирать, а Амбросио ему: да брось ее, возьми вот другую.
– Да неужели ж я хочу, чтоб генерал Одрия ушел, по мне пусть остается хоть до скончания века, – и перекрестился, поцеловав палец. – Но ведь все под богом ходим, умрет Одрия, придет его враг и скажет: «Ага, эти из квартала 27 октября ходили на демонстрации. Гнать их в шею!» Нас и погонят.
– Ты так далеко не загадывай, – сказал ему Лудовико. – Видно будет. Готовь лучше свой квартал к празднику.
И похлопал его по плечу, и под руку взял по-дружески: добром тебя прошу, Каланча. Да, сеньор, конечно, сеньор.
– В шесть за вами приедут автобусы, – сказал Лудовико. – Собери всех: и стариков, и женщин, и ребятишек. Вас и назад доставят. Потом можешь организовать гулянку. Выпить дадут бесплатно. Понял, Каланча? Договорились?
Все понял, обо всем договорились, закивал тот, а Лудовико еще сунул ему две кредитки по фунту: за беспокойство – прости, мол, что не дали тебе обед переварить – а тот стал кланяться и благодарить.
Сеньорита Кета являлась каждый божий день – обычно после обеда. Она была самая ближайшая, самая закадычная хозяйкина подруга, и тоже красивая, хоть и не такая, как сеньора Ортенсия, и совсем в другом роде: носила брюки, узкие блузочки с большим вырезом, разноцветные тюрбаны. Иногда они садились в ее белый автомобильчик и укатывали куда-то до ночи. А если дома сидели, то беспрерывно звонили по телефону – развлекались, и от их хохота весь дом ходуном ходил, а Амалия с Карлотой подбегали в буфетную послушать. Они накрывали микрофон платочком, скребли ноготком по трубке, меняли голос. Если подходил мужчина, они ему говорили: ты, мол, очень хорош собой, я от тебя без ума, а ты на меня и не взглянешь, приходи ко мне вечерком, я подруга твоей жены. А если трубку брала женщина, тогда так: муж тебе изменяет с твоей родной сестрой, а по мне с ума сходит, но ты не бойся, отбивать не стану, у него вся спина в прыщах, а сегодня в пять у него свиданьице в «Гвоздике», а с кем – сама знаешь. Поначалу Амалию мутило от таких шуточек и розыгрышей, а потом они ее стали забавлять, и смеялась она до упаду. У хозяйки все подружки – артистки, говорила Карлота, на радио выступают или в разных там кабаре. Все молоденькие – и сеньорита Люси, – бойкие, – и сеньорита Карминча, – все на высоченных каблуках, а ту, кого хозяйка называла Китаянкой, была из трио «Бим-Бам-Бом». А однажды Карлота, понизив голос, сказал ей по секрету, что хозяйка раньше тоже была артистка, она у нее в спальне нашла альбом, она там на фотографиях в платьях до полу, а вырез чуть не до пояса, все наружу. Амалия обшарила и шкаф, и гардероб, и подзеркальник, но альбома не нашла. Но, наверно, так оно и было – чем сеньора Ортенсия не артистка? все при ней, и даже голос есть. Они слышали, как она пела, когда в ванне мылась, а иногда, видя, что она в духе, просили ее, чтоб спела «Дорожку», или «Ночь любви», или «Красные розы» – одно удовольствие было ее слушать. А когда собирались гости, ее и просить не надо было: ставила пластинку, вылетала на середину комнаты, схватив стакан или какую-нибудь куколку – вместо микрофона, значит, – и начинала, а гости хлопали ей потом как сумасшедшие. Видишь, шептала Карлота Амалии, значит, правда артистка была.
– Текстильщики, – сказал он. – Вчера там весьма бурно обсуждали их жалобы. Сегодня предприниматели сообщили в министерство, что создалась угроза забастовки. Подоплека всего этого дела – политическая.
– Простите, дон Кайо, все не совсем так, – сказал Лосано. – Вы ведь знаете, профсоюз текстильщиков – осиное гнездо апристов. Поэтому мы его вычистили на совесть. Теперь там абсолютно надежные люди. Перейра, их генеральный секретарь, оказывает нам полное содействие.
– Сегодня же переговорите с ним, – прервал он. – Скажите, чтоб не вздумали привести угрозу в исполнение. Не те времена, чтоб устраивать забастовки. Пусть постараются уладить вопрос через министерство.
– Разрешите, дон Кайо? Вот тут все изложено. – Лосано, изогнувшись, проворно выхватил из стопки лист бумаги. – Это не более чем угроза. Политический жест, предназначенный не столько припугнуть хозяев, сколько укрепить свой авторитет в глазах рабочих. Нынешнее руководство профсоюза встречает сильное сопротивление, а эта акция поможет…
– Прибавка к жалованью, которую предложило министерство, своевременна и обоснованна, – сказал он. – Пусть Перейра воздействует на своих, эту тяжбу надо кончать. Она обостряет положение и облегчает агитацию.
– Перейра считает, что если министерство примет хотя бы один пункт их требований, он мог бы…
– Передайте Перейре, что ему платят деньги, чтобы он делал то, что ему говорят, – сказал он. – Его поставили туда, чтоб он сглаживал острые углы и облегчал, а не затруднял нам работу. Министерство склонило предпринимателей к некоторым уступкам, профсоюз должен их принять. Передайте Перейре, что в течение сорока восьми часов вопрос должен быть улажен.
– Хорошо, дон Кайо, – сказал Лосано, – будет исполнено, дон Кайо.
Однако через два дня, дон, Лосано просто-таки взбесился, потому что сукин сын Каланча не пришел на собрание руководителей, а до 27 оставалось три дня, и если его подопечные не явятся на митинг, площадь Армас будет полупустой, а это никуда не годится. Надо было сразу с ними договориться, он оказался не промах, посулите ему пятьсот солей. Он их обвел, дон, вокруг пальца, такой на вид смиренник, а вон как выступил. Ну, опять сели в свой грузовичок, поехали, приехали, вломились без стука. Каланча со своей китаянкой ужинали при свече, а вокруг хныкало человек десять ребятишек.
– Пойдем-ка с нами, дон, – сказал Амбросио, – надо потолковать.
Китаянка схватила было палку, а Лудовико рассмеялся. Каланча обозвал ее нехорошими словами, вырвал у нее палку – вы уж ее, дуру, извините, простите за это представление – ей-богу, дон. Вышел с ними. В тот день был он в одних брюках, и шибало от него перегаром. Чуть отошли, Лудовико развернулся и врезал ему по уху, а Амбросио – по другому, но не сильно, а так, чтобы задать тон разговору. А тот ведь что вытворил, дон: бряк наземь и кричит: не убивайте меня! Это недоразумение!
– Ах ты, паскуда! – сказал Лудовико. – Сейчас у тебя вместо рожи недоразумение будет.
– Почему, дон, не сделали, что обещали? – сказал Амбросио.
– Почему не пришел на собрание, когда Иполито утрясал вопрос с автобусами? – сказал Лудовико.
– Да вы посмотрите на меня, я ж вон желтый весь! – заплакал тот. – У меня ж такие приступы бывают, что я в лежку лежу, головы не поднять. Завтра пойду, завтра все и утрясем.
– Если здешние не явятся на манифестацию, пеняй на себя, – сказал Амбросио.
– Сядешь, – сказал Лудовико. – Сядешь как политический, а это, брат, не шутки.
Ну, он пообещал, поклялся памятью матери, а Лудовико снова врезал ему, и Амбросио тоже, но на этот раз – покрепче.
– Это тебе на пользу пойдет, – сказал Лудовико. – Для тебя же стараемся, не хотим, чтоб загремел.
– Последний шанс тебе даем, – сказал Амбросио.
Ну, он опять стал нам клясться, божиться, только не бейте меня, говорит.
– Если приведешь всех своих горцев на площадь и все пройдет хорошо, получишь триста солей, Каланча, – сказал Лудовико. – Вот и выбирай, что тебе больше по вкусу: триста солей – или в каталажку?
– Не нужно мне никаких денег! – До чего ж пакостный тип, скажу вам, дон, оказался. – Для генерала Одрии все сделаю!
Ну, ушли, а он вдогонку все клялся и обещал. Как ты думаешь, Амбросио, не подведет? И не подвел ведь, дон: назавтра Иполито привез им флажки, и Каланча встречал его вместе со всеми своими помощниками, и при нем же поговорил с жителями, и вообще вел себя как нельзя лучше.








