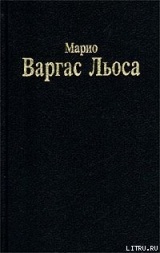
Текст книги "Разговор в «Соборе»"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
VI
Неужели, Савалита, ты тогда еще, на первом курсе, понял, что Сан-Маркос – это бардак, а не рай земной? Что ж вам не пришлось по вкусу, ниньо? Не в том было дело, что занятия начались в июне вместо апреля, и не в том, что профессора были такие же ветхие, как те скрипучие кафедры, на которые они всходили, – нет, его удивляло безразличие сокурсников к разговорам о книгах и вялое равнодушие – к разговорам о политике. Чоло до ужаса оказались похожи на мальчиков из приличного общества, Амбросио. Профессорам платят гроши, говорила Аида, что с них требовать – они все подрабатывают на стороне: кто в министерстве, кто в гимназии. Апатия нашего студенчества – вещь совершенно естественная, говорил Хакобо, такими они сформированы нашей системой, и потому необходимо их организовывать, просвещать, будоражить. Да где же коммунисты? Или хотя бы апристы? Неужели всех пересажали или выслали? Нет, Амбросио, это уже потом мне стало так тошно, а тогда ему нравилось в университете. Что стало с тем подававшим надежды юношей, который за год откомментировал «Логические исследования»[29]29
«Логические исследования» – фундаментальный труд крупнейшего немецкого философа, основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859-1938).
[Закрыть] – целых две главы, напечатанные в «Ревиста де Оссиденте»? Удалось ли ему исследовать феноменологию бешенства бродячих собак, сумел ли он взять в скобки, по словам Гуссерля, сложную ситуацию с бездомными животными в Лиме? Интересно поглядеть, как вытянулось бы лицо у ректора, и того, кто проверял их знание орфографии, и у того, кто выспрашивал на экзамене, в чем же все-таки состояла ошибка Фрейда?
– Нет-нет, ты не прав, лжеученых тоже надо читать, – сказал Сантьяго.
– Хорошо бы в оригинале, – сказала Аида. – Как я хотела бы знать английский, французский, да и немецкий тоже.
– Да читай, пожалуйста, только относись к ним критически, – сказал Хакобо. – Прогрессивные писатели тебе не нравятся, а вот декаденты, по-твоему, замечательны. Эту твою тенденцию я одобрить не могу.
– Я сказал всего лишь, что «Как закалялась сталь» мне было скучно читать, а «Замок» – нет, – возразил Сантьяго. – Что тут такого? Я же не обобщаю.
– Ну что вы спорите, – сказала Аида, – просто, наверно, Островского плохо перевели, а Кафку – хорошо.
Как вытянулось бы лицо у того пузатенького голубоглазого гномика с седой взлохмаченной гривой, который читал им курс источниковедения. Такой чудный старик, что я даже хотела плюнуть на психологию и заняться историей, говорила Аида, а Хакобо соглашался: да, жалко только, что он испанист, а не индеанист. Аудитории, сначала заполненные до отказа, постепенно пустели, к сентябрю на лекции ходило не больше половины студентов, и легко было отыскать свободное место. Не в том было дело, что они разочаровались, и не в том, что профессора не хотели или не способны были учить, думает он, – студенты не хотели учиться. Это все потому, говорила Аида, что они бедны и должны работать, это потому, говорил Хакобо, что они уже заражены буржуазностью и, кроме диплома, им ничего не нужно, а чтобы получить диплом, не надо ни стараться, ни даже отсиживать положенные часы – только жди. Ну, ты доволен, сынок, правда, что там собрались самые светлые головы, что ты такой неразговорчивый, сынок? Очень доволен, папа, правда, папа, вовсе нет, папа. Тебя не видно и не слышно, Савалита, сидишь в своей комнате, посмотри, на кого ты стал похож – кожа да кости, почему ты нас избегаешь, говорила сеньора Соила. Смотри, говорил Чиспас, будешь столько читать – окончательно сбрендишь. Почему, академик, говорила Тете, ты никогда теперь не видишься с Попейе? Потому что мне было достаточно Хакобо и Аиды, дружба с ними все возмещала, все заменяла и делала все прочее излишним. Неужели вот тогда я и погорел? – думает он.
Они слушали одни и те же лекции, сидели на одной скамье, вместе ходили в университетскую библиотеку или в Национальную и разлучались только на ночь, да и то с трудом. Читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы, возмущались одними и теми же газетами. В перерыве между занятиями и после них они часами разговаривали в «Палермо», часами спорили в кондитерской «Сироты», часами обсуждали политические новости в кафе-бильярдной на задах Дворца Правосудия. Иногда их заносило в кино, иногда они шарили по лавкам букинистов, иногда, как некое приключение, затевали долгую прогулку по городу. Они не видели в Аиде женщину, это была братская дружба, и казалась она нерушимой во веки веков.
– Мы одним интересовались, одно ненавидели – и все-таки ни разу ни в чем не пришли к соглашению, – говорит Сантьяго. – И это тоже было замечательно.
– Чего ж вы горевали? – говорит Амбросио. – Из-за девушки?
– Мы с ней никогда не встречались с глазу на глаз, – говорит Сантьяго. – Да я не горевал: так просто, иногда какой-то червячок меня точил.
– Вы хотели с ней любовь закрутить, – говорит Амбросио, – а тот все время с вами ошивался. Я знаю, что это такое, когда ты рядом с женщиной, которая тебе нравится, а сделать ничего не можешь.
– Это у тебя с Амалией так было? – говорит Сантьяго.
– В кино видел, – говорит Амбросио.
Университет, говорил Хакобо, – это зеркало страны: двадцать лет назад все эти профессора были передовыми личностями, читали книги, а потом, из-за того что надо подрабатывать на стороне и из-за разлагающей атмосферы, опустились, обуржуазились, и вот ни с того ни с сего вдруг зашевелится этот червячок. Значит, и студенты виноваты, говорила Аида, если их это все устраивает, ну, раз все виноваты, может быть, единственное спасение – принять все как есть? – говорил Сантьяго, а Хакобо отвечал: единственное спасение – в реформе университетского образования. Он чувствовал крошечное жгучее тельце этого червячка в разгар самых острых разговоров, самых жарких споров – он вмешивался, уводил в сторону, отвлекал, вселял в душу какую-то смутную тоску, печаль по чему-то. Параллельные кафедры, говорил Хакобо, самоуправление, народные университеты: принимать всех, кто желает и способен учиться, право изгонять бездарных профессоров, а поскольку народ не может прийти в университет, пусть университет пойдет к народу. Тосковал ли он по разговорам с нею наедине, по прогулкам вдвоем? Ну, если университет – зеркало страны, – пока не поправится Перу, хиреть будет и Сан-Маркос, говорил Сантьяго, а Аида подхватывала: если мы хотим радикального обновления, думать надо не о реформе образования, а о революции. Но мы – студенты, возражал Хакобо, наше поле битвы – университет, проводя реформу, мы готовим революцию: надо идти поэтапно и не быть пессимистами.
– Да вы просто ревновали к нему, – говорит Амбросио. – А злее ревности нет на свете отравы.
– Хакобо наверняка чувствовал то же, что и я, – говорит Сантьяго. – Мы оба притворялись.
– Он тоже небось мечтал, чтобы вы провалились куда-нибудь и он остался с нею, – смеется Амбросио.
– Он был мой лучший друг, – говорит Сантьяго. – Я его ненавидел и одновременно любил и восхищался им.
– Нельзя быть таким скептиком, – сказал Хакобо, – это твое «все или ничего» – типично буржуазная черта.
– Я вовсе не скептик, – сказал Сантьяго, – просто мы все говорим, говорим, а дело – ни с места.
– Это верно, – сказала Аида, – мы все еще теоретизируем. Мы должны что-нибудь еще сделать, кроме разговоров.
– Одни мы ничего не сумеем, – сказал Хакобо. – Нам надо войти в контакт со всеми прогрессивно настроенными студентами.
– Мы всего два месяца назад поступили и еще никого не встретили, – сказал Сантьяго. – Боюсь, их вообще не существует в природе.
– Они осторожны – как же иначе? – сказал Хакобо. – Рано или поздно объявятся.
И правда: они стали появляться – таинственные, настороженные, смутные и зыбкие как тени: сначала на филологическом, да? В перерыве между лекциями они присаживались на скамейку в факультетском дворике, собирали пожертвования, или прохаживались у фонтанчика на юридическом, пожертвования в пользу арестованных студентов, и перебрасывались несколькими словами со студентами с других курсов и факультетов – они сидят в предвариловке, спят на голом полу, надо им хоть тюфяки купить – и этими беглыми быстрыми диалогами, преодолевая недоверие, продираясь сквозь подозрения – а вам никто еще не говорил о нашей складчине? – они мягко выведывали образ мыслей своего собеседника – никакой политики! – осторожно зондировали почву – из чистой человечности! – и в этом были неопределенные признаки того, что они готовятся к чему-то, что грядет, – в конце концов, есть же понятие христианского милосердия – или сообщали о чем-то тайном, никому пока не ведомом, словно хотели иносказаниями дать понять, что заслуживают доверия – ну, хотя бы один соль! Их смутные и зыбкие фигуры маячили в факультетских патио, эти люди подходили к студентам, сначала заводили или поддерживали ничего не значащую беседу, потом надолго исчезали и неожиданно появлялись вновь – уклончиво приветливые, настороженно-улыбчивые – индейцы, чоло, негры, китайцы, и выражения лиц у них были одинаковые, и слова, которые можно было толковать как угодно или не толковать вовсе, они произносили одни и те же и с общим для всех провинциальным выговором, и носили они одинаковые, потертые и выцветшие костюмы, стоптанные башмаки, и под мышкой кто-то из них держал какую-то газету, журнал, книгу. Где они учились, на каком факультете числились, где жили? И вдруг, словно вспышка молнии на затянутом тучами небе, – этот парень с юридического был одним из тех, кто забаррикадировался в университете во время революции Одрии – неожиданная откровенность распарывала серую хмарь обыденных разговоров, – его посадили, и в тюрьме он объявил голодовку, – освещала и накаляла их, – его только месяц назад выпустили, – и открытия и откровения следовали одно за другим: а этот, когда еще действовали Федеративные центры и Университетская федерация, был делегатом от экономистов, – будоражили души тревогой – еще до того, как политика расчленила студенческое движение и загнала в тюремные камеры его вожаков, – тревогой и каким-то жестоким любопытством.
– Ты специально приходишь поздно, чтобы не обедать с нами, а уж если удостаиваешь нас такой чести, рта не раскрываешь, – сказала сеньора Соила. – Тебе что, язык отрезали в твоем Сан-Маркосе?
– Он высказывался против Одрии и против коммунистов, – сказал Хакобо. – Он – априст, не верите?
– Интересничает, оттого и молчит как рыба, – сказал Чиспас. – Гении не тратят свое драгоценное время на беседы с невеждами. Верно, академик?
– Скорей троцкист, он ведь так превозносит Ленина, – сказала Аида. – А Ленин – троцкист, правда?
– И сколько же детишек у барышни Тете? – говорит Амбросио. – А у вас?
– У Тете – двое, у меня – ни одного, – говорит Сантьяго. – Не хочется становиться папашей, но все-таки, наверно, скоро решусь. Что еще в этой жизни остается?
– А заметили: он – как во сне и глаза – бараньи, – сказала Тете. – Ну, в точности как у дохлого барана! Ты что, влюбился в какую-нибудь университетскую красотку?
– Когда б я ни вернулся, у тебя в комнате свет, – сказал дон Фермин. – Очень отрадно, что ты много читаешь, сынок, но в твои годы надо быть пообщительней.
– Влюбился, влюбился, – сказал Сантьяго. – Она носит косички, ходит босиком и говорит только на кечуа[30]30
Кечуа – язык индейского народа кечуа, второй официальный язык Перу.
[Закрыть]. Тебе-то что?
– Негритянка говорила: Бог даст его, даст и на него, – говорит Амбросио. – Я бы завел целую кучу детишек. Негритянка – это мамаша моя, земля ей пухом.
– Я устаю, папа, и потому сижу у себя, – сказал Сантьяго. – Почему они решили, что я не хочу с ними общаться? Что я, ненормальный?
– Даже скорей не дохлый баран, а дикий мул, – сказала Тете.
– Нет, нормальный, но немного странный, – сказал дон Фермин. – Мы с тобой одни, сынок, давай начистоту. У тебя что-нибудь не в порядке?
– Он может быть и коммунистом, – сказал Хакобо, – события в Боливии[31]31
Имеется в виду боливийская буржуазно-демократическая революция 1952 г.
[Закрыть] трактует вполне в марксистском духе.
– Нет, папа, все у меня в порядке, – сказал Сантьяго, – честное слово, все в порядке.
– Вот, возьмите Панкраса, моего напарника, – говорит Амбросио. – От него жена ушла черт знает сколько лет назад и сына забрала. Дело было в Гуячо. Так он до сих пор его разыскивает. Не хочет на тот свет отправляться, не узнавши: такой же, как он, дурень уродился или чуть поумней.
– Когда тебя нет, Аида, он к нам и близко не подходит, – сказал Сантьяго. – И говорит только с тобой, и улыбочки такие. Ты сразила его наповал, Аида, поздравляю.
– Какие у тебя все-таки буржуазные представления, – сказала Аида.
– И я его отлично понимаю, я и сам целыми днями вспоминал Амалиту-Ортенсию, – говорит Амбросио. – Все думал, какая она стала, на кого похожа.
– Ты что же, – сказал Сантьяго, – считаешь, что революционеры о женщинах не думают?
– Ну, вот ты уже и обиделся, – сказала Аида. – Нельзя быть таким чувствительным, не будь буржуа. Ой, прости, опять вырвалось.
– Пойдемте выпьем кофе с молоком, – сказал Хакобо, – надо же потратить кремлевское золото.
Были ли это мятежники-одиночки, или члены какой-то подпольной организации, или провокаторы-стукачи? Они никогда не ходили вместе, редко появлялись по несколько человек в одном и том же месте, не были знакомы друг с другом или делали вид, что незнакомы. Иногда казалось, что они вот-вот откроют какую-то важную тайну, но каждый раз останавливались на самом пороге, а их намеки и иносказания, их обтрепанные пиджаки, четкие действия и рассчитанные паузы порождали беспокойство, сомнение, восхищение, умеряемое страхом. Словно бы случайно они начали мелькать в кафе, куда друзья приходили после лекций – что, проводили рекогносцировку? – они скромно подсаживались за их столики – ну, так давайте покажем им, что нам нечего скрывать и незачем притворяться и здесь, за университетскими стенами; на нашем курсе два явных стукача, говорила Аида, – разговоры становились предметнее – мы их разоблачили, они не сумеют отпереться, говорил Хакобо, – а они скажут, что у них зачет по стукачеству, сказал Сантьяго – и на какие-то мгновения впрямую и опасно затрагивали политику – вот дураки, даже маскироваться не умеют, говорила Аида. Начиналось с какого-нибудь анекдота – опасны не те, кого можно распознать, говорил Вашингтон, – с шутки или сплетни, – а те, кто в полиции не состоит, кому платят особо, – и опасная тема сейчас же увядала и скукоживалась и сменялась вопросом, вроде такого: «Ну, как у вас настроение на первом курсе?», или «Вас вообще-то не тревожат проблемы молодежи?», или «Интересно, много ли народу захотело бы воссоздать Федеративные центры?» – и вопросы потом начинали посвистывать по-змеиному: «А что вы думаете насчет боливийской революции?» – и разговор тотчас соскальзывал на международные проблемы – или «А про Гватемалу что скажете?»[32]32
Имеются в виду последовательные демократические преобразования в Гватемале: антиимпериалистическая революция 1944-1954 гг., создание и легализация коммунистической партии (1949), аграрная реформа (1952) и т.д.
[Закрыть]. Воодушевившись, разгорячившись, они говорили в полный голос, – да пусть подслушивают, пусть сажают! – и Аида все сильней накручивала себя, думает Сантьяго, она была самая энтузиастка, давая волю своим чувствам, и самая рисковая, думает Сантьяго, и она первой отважно переходила с Боливии и Гватемалы на Перу: мы живем в тисках военной диктатуры, и полуночные ее глаза блистали, и хотя боливийская революция носит либеральный характер, и даже носик ее заострялся, а Гватемала так и не доросла до буржуазно-демократической, и в висках у него начинало стучать, все равно там лучше, чем у нас в Перу, и пряди волос танцевали, стонущей под игом бездарного генералишки, и лоб словно таранил невидимую преграду, спевшегося с шайкой казнокрадов, и маленькие кулачки пристукивали по столу. Смутные и зыбкие тени терялись, тревожились, прерывали Аиду, пытались сменить тему или просто поднимались и уходили.
– Папа ваш говорил, что все беды пошли из Сан-Маркоса, – говорит Амбросио. – Что вы из-за этого университета его и перестали любить.
– Ты ставишь Вашингтона в неловкое положение, – сказал Хакобо. – Если он член партии, то должен соблюдать осторожность. Не надо при нем крыть Одрию, ты же можешь его подставить под удар.
– Отец тебе говорил, что я разлюбил его? – говорит Сантьяго.
– Ты думаешь, он потому и ушел? – сказала Аида.
– Больше всего на свете его тревожило это, – говорит Амбросио. – Он хотел понять, почему вы перестали его любить.
Этот светлокожий белокурый горец учился на третьем курсе юридического, был весел, ребячлив и говорил с ними – не в пример всем прочим – просто, не изрекая доступную лишь посвященным истину, не священнодействуя, и был первым, чье имя – Вашингтон – они узнали. Он всегда ходил в светло-сером костюме, всегда весело и широко улыбался, и шутки его вносили в их обычную трепотню в «Палермо», в кафе-бильярдной или во дворике экономического факультета какое-то особое звучание – то, чего никогда не было в заумных, всегда катящихся по проторенной колее разговорах с остальными. Но и он при всей своей общительности оставался совершенно непроницаемым. Он первым превратился из смутной и зыбкой тени в существо из мяса и костей. Он стал нашим приятелем, думает Сантьяго, почти другом.
– Почему он так думал? – спрашивает Сантьяго. – Что еще он говорил тебе?
– Почему бы нам не создать кружок? – беспечно спросил Вашингтон.
Они вмиг перестали не только думать, но и дышать и уставились на него.
– Кружок? И что мы в этом кружке будем делать? – медленно-медленно проговорила Аида.
– Не мне. Он жаловался сеньоре Соиле, и Чиспасу, и барышне, и своим друзьям, а я сидел за рулем, ну, и все слышал, – говорит Амбросио.
– Изучать марксизм, – с полнейшей непринужденностью ответил Вашингтон. – Его ведь не преподают у нас, а он может пригодиться для общего развития. Разве нет?
– Ты знал отца лучше, чем я, – говорит Сантьяго. – Расскажи, что еще говорил он про меня.
– Это было бы в высшей степени интересно, – сказал Хакобо. – Итак, организуем кружок.
– Ну, что вы такое говорите? Как такое может быть, ниньо?
– А где книги достать? – спросила Аида. – У букинистов можно раздобыть только «Советскую культуру», да и то несколько разрозненных номеров.
– Я знаю: он говорил тебе про меня, – говорит Сантьяго. – Но ты ведь такой: не захочешь – не скажешь.
– Достать-то можно, – сказал Вашингтон, – только надо быть поосторожней. Тех, кто изучает марксизм, тут же берут на заметку как коммунистов, досье заводят. Ну, вы это и сами знаете.
Тогда ли, на втором году, заметил ты, Савалита, что тебе не хватает не только теоретической подкованности, но и веры? Да, скорей всего, Савалита, ты на этом и погорел, веры у тебя не оказалось. Веры в Бога, ниньо? Во что-нибудь, Амбросио. Идея Бога, «чистого духа», творца Вселенной – бессмысленна, утверждал Политцер, высшее существо вне времени и пространства – абсурд. Ты изменился, Сантьяго. Нужно разделять воззрения мистиков-идеалистов, утверждал Политцер, и, следовательно, отказаться от всякого научного контроля, чтобы утверждать, что Бог существует вне времени, то есть не существует никогда, и вне пространства, то есть не существует нигде. Самое гнусное, Амбросио, это – сомневаться, а самое замечательное – зажмуриться и крикнуть «Бога нет!» или «Бог есть!» и поверить этому. Он говорил Аиде, что кружок оказался для него западней: он соглашался и кивал, а сам в глубине души продолжал сомневаться. Материалисты, опираясь на выводы науки, утверждал Политцер, доказали, что материя существует в пространстве и в данный момент, то есть во времени. Сжать кулаки, стиснуть зубы, Амбросио, и кричать: единственный выход – АПРА! – единственное спасение – религия! – единственный путь – коммунизм! – и верить тому, что кричишь. Тогда жизнь выстроится, тогда вот здесь не будешь ощущать пустоты. Он не больно-то слушает падре и в церкви с детства не был, но в Бога все-таки верит, надо же, ниньо, во что-то верить? Следовательно, вселенная не могла быть сотворена, подводил итог Политцер, поскольку для этого Богу было бы необходимо сделать это в тот момент, когда никакого момента не существовало (если мы примем тезис, что для Бога время не существует), а также необходимо, чтобы мир возник из ничего, – и это так тебя волнует? – спрашивала Аида. А Хакобо говорил: если так или иначе нужно верить во что-то, предпочтительней верить, что Бога нет. Для Сантьяго это тоже предпочтительней, Аида, он бы очень хотел убедить себя, что рассуждения Политцера безупречны, Хакобо, его томят сомнения, понимаешь, ли, Аида, его мучает неуверенность Хакобо. Это, Савалита, мелкобуржуазный агностицизм, это, Савалита, завуалированный идеализм. Неужели Аида ни в чем не сомневается, неужели Хакобо верит каждой политцеровской запятой? Колебания играют роковую роль, говорила Аида, неужели лучше всю жизнь копаться в своей душе – а неужели лучше? – мучиться – или хуже? – чем действовать, говорил Хакобо. Мир, Савалита, пребудет неизменным, говорила Аида, для того, чтобы действовать, надо верить. Верить, но только не в Бога, говорил Хакобо, вера в Бога ничего не поможет изменить, втолковывал Хакобо: предпочтительней верить в марксизм, только он может преобразовать действительность. Неужели вдалбливать рабочим сомнение как метод познания? – говорил Вашингтон; неужели заставлять крестьян извлекать корень квадратный из принципа разума, спрашивал Эктор. И ты, Савалита, отвечал: нет, думает он. Надо закрыть глаза, марксизм стоит на научном фундаменте, стиснуть кулаки, а религия – на невежестве, надо чувствовать почву под ногами, Бога нет, надо стиснуть зубы до хруста, классовая борьба есть двигатель истории, напрячь мышцы, пролетариат, освобождаясь от буржуазной эксплуатации, дышать через нос, принесет освобождение и всему человечеству, и упереться рогами, и тогда воцарится бесклассовое общество. Ты не смог этого сделать, Савалита, думает он. Ты был, есть, и будешь, и в гроб сойдешь мелким буржуа, думает он. Неужели то, чем ты был выкормлен и на чем взлелеян – гимназия, семья, квартал – оказались сильнее, думает он. Ты ходил к мессе, в первую среду каждого месяца исповедовался и причащался, и уже тогда все это было ложью, ты в это не верил. Ты приходил в пансион глухой старухи, и тебе говорили, что количественные изменения, накапливаясь, приводят к изменению качественному, а ты кивал и соглашался, и что до Маркса величайшим мыслителем-материалистом был Дидро, и ты отвечал: да-да, а потом вдруг возникал этот червячок: вранье, не верю.
– Никто ничего не должен был замечать, вот что самое главное, – говорит Сантьяго. – Я не пишу стихи, я верю в Бога, я не верю в Бога. Я все время врал.
– Не надо бы вам больше, ниньо, – говорит Амбросио.
– В гимназии, дома, в гостях, в кружке, в ячейке, в редакции, – говорит Сантьяго. – Всю жизнь притворяться, всю жизнь делать то, во что не веришь.
– Как хорошо, что папочка взял и выкинул на помойку твою коммунистическую книжонку, – сказала Тете.
– И всю жизнь я хотел во что-то верить, – говорит Сантьяго. – И всю жизнь повторялось одно и то же: вранье, не верю! А может быть, тут дело не в том, что ты не верил, а просто был робок? В гараже, в ящик для старых газет, рядом с новым экземпляром Политцера стали ложиться – «Что делать?» – думает он, – плохо переплетенные, скверно напечатанные, – «Происхождение семьи, частной собственности и государства»[35]35
«Происхождсние семьи, частной собственности и государства» (1884) – философская работа Ф. Энгельса.
[Закрыть], – думает он, – захватанные руками, – «Классовая борьба во Франции»[36]36
«Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850» (1850) – социологический труд К. Маркса.
[Закрыть] – думает он, – книги, которые они читали и обсуждали в кружке. Приглядывались, зондировали почву, голосовали и наконец приняли в кружок индейца Мартинеса, изучавшего этнографию, потом Солорсано с медицинского, потом белесую девицу, которую прозвали Птичкой. В комнате Эктора стало тесно, в глазах глухой хозяйки читалась тревога – что еще за постоянные нашествия? – и они решили сменить место. Аида предложила собираться у нее, Птичка – у нее, и они попеременно приходили то в квартал Хесус-Мария, то в краснокирпичный домик в Римаке, то в обклеенную бурбонскими лилиями квартиру в Пети-Туар. У Аиды их встретил приветливый седоватый великан – мой папа, представила она его, – пожал им руки, поглядел печально на каждого. Он был наборщиком и руководителем профсоюза печатников, при Санчесе Серро[37]37
Санчес Серро Луис Мигель (1894-1933) – президент Перу с 1930 по 1933 г.; установил в стране военно-фашистский режим.
[Закрыть] угодил в тюрьму, чуть не умер там от сердечного приступа. Теперь днем работает в каком-то издательстве, а вечером – корректором в газете «Комерсио», политику бросил. А он знает, зачем они сюда ходят? – знает – ну и как он к этому относится? – хорошо относится.
– Как замечательно, когда можно с отцом как с товарищем, – сказал Сантьяго.
– Он мне и товарищ, и отец, и мать, – сказала Аида, – с тех пор как мама умерла.
– Чтобы ладить с моим стариком, я должен скрывать от него то, чем я живу, – сказал Сантьяго. – Он никогда меня не поймет.
– Ну как он может тебя понять? – сказала Аида. – Такой буржуазный господин.
По свойству количественных изменений переходить в качественные кружок, обрастая новыми членами, превращался в политический дискуссионный клуб: там пересказывали статьи Мариатеги[38]38
Мариатеги Хосе Карлос (1895-1930) – основатель Перуанской компартии, философ и публицист.
[Закрыть] и опровергали передовицы «Пренсы», изучали исторический материализм и последние бесчинства Кайо Бермудеса, давали отпор апристам, скатившимся на позиции оппортунизма, и ядовито вышучивали троцкистов. Троих выявили и установили, посвятив дни, недели, месяцы разоблачению, слежке, проверке и проклятьям: эти интеллигенты, вносившие в общее дело смуту, инакомыслие и раскол, всегда готовые привести уместную цитату и устроить провокацию, тоже бродили по Сан-Маркосу. А много ли их? Мало, но они очень опасны, отвечал Вашингтон. Они связаны с полицией? – спрашивал Солорсано, – считай, что связаны, отвечал Эктор, а Хакобо добавлял: разделять, путать, сбивать с толку, отравлять умы хуже, чем доносить. Чтобы обмануть троцкистов, чтобы избежать стукачей, было решено членам кружка вместе в университете не показываться, друг с другом не разговаривать. Да, в нашем кружке было единство целей, была общность взглядов, была, пожалуй, даже солидарность, думает он. Но дружили только мы трое, думает он. Раздражал ли остальных этот неколебимый утес, этот нерушимый триумвират? Они продолжали ходить на лекции, в библиотеки, в кафе только втроем, и втроем прогуливались в патио в перерыве, и втроем оставались после занятий кружка. Они говорили, спорили, покупали билеты в кино, и «Чудо в Милане»[39]39
«Чудо в Милане» (1951) – фильм выдающегося кинорежиссера, основателя неореализма Витторио де Сики (1901-1974).
[Закрыть] восхитило всех троих – эта белая голубка в финале – голубь мира – и звуки «Интернационала», Витторио де Сика, наверно, коммунист, и если где-то на окраине шел русский фильм, они бежали туда, полные надежд и предвкушений, хоть и знали наверняка, что покажут им какое-нибудь старье – бесконечный балет.
– Холодок такой, да? – говорит Амбросио. – Под ложечкой засосет?
– Да, как в детстве, ночью, – говорит Сантьяго. – Я просыпался в темноте, и мне казалось: я умираю. Я не мог пошевелиться, зажечь свет, крикнуть и лежал скорчившись, дрожа, весь в поту.
– Есть один парень с экономического, – сказал Вашингтон, – которого следовало бы принять. Беда в том, что нас и так уж слишком много.
– Да откуда же такая напасть, ниньо? – говорит Амбросио. Что-то крохотное, скользкое, студенистое появлялось и оставалось, осторожно шевелилось где-то в желудке, покрывало потом ладони, заставляло сердце колотиться и исчезало, оставив озноб.
– Да, это было бы неосторожно, – сказал Эктор. – Надо нашу ораву разделить надвое.
– Да, мы разделились, я громче всех кричал, что это необходимо, – говорит Сантьяго. – Мне и в голову подобное не могло прийти. Еще много дней спустя я просыпался среди ночи и повторял, как дурак: этого не может быть, этого не может быть.
– Как же мы будем делиться? – спросил индеец Мартинес. – Ну, шевелите мозгами, не теряйте времени.
– Ему не терпится, – засмеялся Вашингтон, – прочесть свой реферат о прибавочной стоимости. Хочет блеснуть.
– Надо бросить жребий, – сказал Эктор.
– Нет, в этом есть что-то иррациональное, – сказал Хакобо. – Предлагаю просто по алфавиту.
– Конечно, это самое разумное и простое, – сказала Птичка. – Первые четверо – одна группа, остальные – другая.
Нет, сердце не забилось чаще, червячок не проснулся. Я удивился или растерялся, думает он, мне вдруг стало дурно. И одна мысль: это ошибка, этого не может быть. Этого не может быть, это ошибка, думает он.
– Кто за предложение Хакобо, поднимите руку, – сказал Вашингтон.
Дурнота нарастала, мозг точно одеревенел, головокружительная застенчивость заставила его онеметь, и руку он поднял на мгновение позже других.
– Единогласно, – сказал Вашингтон. – Хакобо, Аида, Эктор, Мартинес – в одну группу, мы четверо – в другую.
Он не повернул головы, не взглянул ни на Хакобо, ни на Аиду, он долго прикуривал, он листал Энгельса, он улыбнулся в ответ на улыбку Солорсано.
– Ну, Мартинес, блесни, – сказал Вашингтон, – поведай нам, что же такое прибавочная стоимость.
Нет, дело не только в революции, думает он. Холодная, закрытая душа, маленький, настороженный, расчетливый ум. Неужели Хакобо все спланировал и бесстрастно обдумал заранее? Революция, дружба, ревность, зависть, – все перемешалось, все слилось в Хакобо в ком грязной глины.
– Чистых в мире не оказалось, – говорит Сантьяго. – Да, тогда это и выяснилось.
– И что же, вы с нею больше не виделись? – говорит Амбросио.
– Гораздо реже, а он – дважды в неделю, – говорит Сантьяго. – И потом, я не мог на такое пойти. Не по моральным соображениям, а из зависти. Я был робок и не решился бы на такой ход.
– Да, ваш дружок оказался проворней, – говорит Амбросио. – Вижу, вы ему до сих пор не простили.
У индейца Мартинеса были манеры и интонации школьного учителя – итак, прибавочная стоимость есть не оплачиваемый капиталистом труд, – он долбил в одну точку и переливал из пустого в порожнее, – который присваивается капиталистом и служит его обогащению, – и Сантьяго все никак не мог отвести глаз от его круглого медного лица и все слушал его поучающий, наставительный голос, а вокруг при каждой затяжке ярче разгорались тлеющие огоньки сигарет, и, несмотря на то что столько тел скучилось в этом скудном пространстве, он испытывал знакомое чувство одиночества и пустоты. Червячок ожил и взялся за дело, мягко и кругообразно стал ввинчиваться в нутро.
– Я – как те зверьки, которые при виде опасности замирают и покорно ждут, когда их раздавят или обезглавят, – говорит Сантьяго. – Знаешь, жить без веры и быть еще робким – это все равно что гнить одновременно от сифилиса и от проказы.
– Ну зачем же так себя поносить, ниньо? – говорит Амбросио. – Вы ведь от другого человека не стали бы, наверно, такое слушать?
Оттого ли, что порвалось казавшееся вечным, думает он, так мучился я из-за нее, из-за себя, из-за него? Ты, как обычно, притворялся, Савалита, и даже больше, чем обычно, и выйдя потом вместе с Хакобо и Аидой, ты говорил больше, чем обычно, пока вы шагали к центру, – Энгельс и прибавочная стоимость, – спрашивал, не давая им ответить, – Политцер, и Птичка, и Маркс, – не закрывал рта, прерывая их, стоило им только начать, исчерпывая и вновь поднимая темы, перескакивая с пятого на десятое, говорил, говорил, говорил и все никак не мог остановиться, надеясь, что монолог его никогда не кончится, притворяясь перед самим собой, что Хакобо ничего не предлагал, что со следующей субботы им не идти в Пети-Туар, а ему – в Римак, и впервые чувствуя, что он – уже не вместе с Аидой и Хакобо, хотя они еще рядом, что они уже дышат и думают по-разному и что-то непоправимо разладилось в их единстве, и пока они пересекали площадь, он явственно ощутил: именно здесь и сейчас произошло непреложное отторжение и что-то лживое и искусственное разделило их, – так у тебя бывало с отцом, думает он – и он пытался скрыть это от них и впервые испытал к ним враждебность. Они шли втроем вниз по спуску Уньон, он говорил, они слушали – неужели Аиде не жалко? неужели они сговорились заранее? – и, дойдя до Сан-Мартина, он взглянул на часы, спохватился, уже очень поздно, надо бежать сломя голову, чтобы успеть на «экспресс», и пожал им поочередно руки, и бросился прочь, – и не условились, где и когда завтра встречаемся, думает он. Впервые, думает он.








