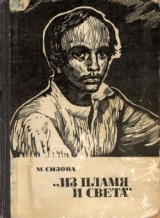
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 11
До начала спектакля еще остается добрых полчаса, а у входа толкотня, суета и спешка. Театральная карета уже давно подвезла к служебному подъезду последних актеров, но в зрительный зал публику еще не пускают, и свет в нем еще не зажгли. Нетерпеливые зрители толпятся в коридоре и перед дверьми, ведущими в ложи. Вбегают прямо с мороза, торопясь раздеться, немногие счастливцы, которым удалось перекупить на улице галерочные места за тройную цену. Еще бы! Сегодня идет «Игрок» Реньяра с участием Мочалова!
Два ученика Университетского благородного пансиона – Лермонтов и Сабуров – нетерпеливо всматриваются в подъезжающие сани и закрытые кареты. Наконец Миша Лермонтов отвертывается в полном отчаянии.
– Они опоздают! – говорит он, укоризненно посмотрев на своего товарища.
– Нет, – отвечает тот уверенно, – мой отец никогда не опаздывает, но всегда приезжает в последнюю минуту. Что нам волноваться? Ведь у нас ложа, войдем хоть после начала.
– Что ты, как можно после начала?! Пропустить последние минуты перед поднятием занавеса?! Кто любит театр по-настоящему, никогда их не пропустит! У меня в эту минуту всегда сердце замирает.
– Удивительно, с каких это пор ты успел так по-настоящему полюбить театр?
– С тех пор как в свой первый приезд в Москву увидел оперу «Невидимка». Мне тогда пять лет было…
– Вот и они! – перебил его товарищ, быстро идя навстречу подъехавшим широким саням с медвежьей полостью. – И папенька и маменька! Я говорил…
Из саней неторопливо вышел осанистый господин с небольшой бородкой. Он помог выйти закутанной даме и, сказав несколько слов кучеру, обратился к сыну:
– А ты, я вижу, на подъезде ждешь? Не терпится! Эх вы, молодежь! Ну, где же твой товарищ?
– Вот он, папенька! Вот это и есть Миша Лермонтов!
– Очень рад, очень рад! И жена моя будет рада. Однако пройдемте скорее на места. Здесь холодно. В ложе удобнее знакомиться. А где же ваш гувернер? – обратился он к Мише.
– Мистер Виндсон проводил нас до театра и поехал домой. Он заедет за мной.
Сняв в ложе шубу, осанистый господин еще раз пожал Мише руку и подвел его к высокой даме, снимавшей свои меха.
– Вот, друг мой, тот самый Миша Лермонтов, о котором мы с тобой столько слышали от сына.
– Я очень рада дружбе моего сына с вами, – рассматривая Мишу, сказала дама.
Со стареющего лица дамы приветливо смотрели на Мишу очень добрые глаза.
– Бабушка ваша урожденная Столыпина? – спросил у Миши осанистый господин и, получив утвердительный ответ, добавил: – Ну, кажется, мы с вами немножко сродни. Сабуровы и Столыпины когда-то имели какие-то родственные связи, если не ошибаюсь.
– Я очень рад, – пробормотал Миша.
– Вы очень любите театр? – спросила дама с добрыми глазами. И голос у нее был добрый.
– Очень!.. – ответил Миша. – Особенно этот театр! Но театр вообще такая замечательная вещь! В нем можно в один вечер показать всю жизнь, и весь мир, и все человеческие страдания и радости, не правда ли?
– Правда, – ответила госпожа Сабурова и, еще раз посмотрев на него, добавила: – Да, я очень рада, что именно вы подружились с моим сыном. А если рада я – значит рад и супруг мой. У нас в семье всегда согласие.
Она улыбнулась, отчего лицо ее стало еще добрее.
Миша крепко сжал дрогнувшие губы.
– Сейчас поднимется занавес, – проговорил он. – Начинают!
И с этой минуты все, кроме сцены, перестало для него существовать.
Но мать его друга все-таки успела задать ему еще один вопрос:
– Вы в первый раз сегодня смотрите Мочалова?
– Нет, как можно! Но я мог бы смотреть на него сотню раз, потому что он самый прекрасный актер не только у нас, но, я думаю, в целом мире!
С первой минуты появления на сцене Мочалова Миша вместе со всем зрительным залом следил за каждым движением и за каждым словом великого актера.
И если бы Мишу спросили: «Что такое вдохновение?», он ответил бы: «Это – Мочалов».
Когда опустился в последний раз занавес и затихли последние аплодисменты на галерке, Миша встал и увидел, что Сабуровы уже оделись. Его друг стоял между отцом и матерью, держа под руку и того и другого, и все трое, улыбаясь, смотрели на Мишу. Такая дружная, такая неразделимая семья!
– Вы, наверно, хотели бы стать актером? – спросила Мишу мать Сабурова.
– Нет, – ответил он, помолчав. – Раньше хотел, а теперь мне больше хочется сочинить пьесу для Мочалова.
– Почему же?
– Я думаю, что сочинитель переживает большое счастье, когда в произведении, созданном его воображением, играет такой великий артист! И потом артист живет только своей ролью, а сочинитель – всеми!
– Да, – сказал отец Мишиного друга, – вы ведь уже сами сочиняете что-то, кажется, стихи?
Миша, торопливо одеваясь, смущенно посмотрел на него.
– Иногда пишу, – ответил он. – Редко. Я больше их сжигаю. Но, право, это неважно.
Прощаясь с Мишей, мать Сабурова попросила мистера Виндсона, приехавшего за своим воспитанником, засвидетельствовать госпоже Арсеньевой почтение и просить ее отпустить к ним внука в следующий праздничный день.
Мистер Виндсон величаво раскланялся.
Дома их встретила глубокая тишина. Бабушка уже спала. В пустых, слабо освещенных комнатах разными голосами отстукивали время часы.
Когда Миша уже лежал в постели, вспоминая театр и Мочалова, мистер Виндсон сказал:
– Я уверен, что в ближайшее воскресенье, Мишель, ваша бабушка отпустит вас в это очаровательное семейство.
– Нет, – ответил он глухо, отвертываясь и закрывая глаза. – Я не пойду к ним.
– Не пойдете? – с величайшим изумлением повторил гувернер. – По какой причине?
– Так… – ответил Миша, продолжая лежать с закрытыми глазами. – Не спрашивайте. Я не скажу.
Мистер Виндсон пожал плечами и, погасив свечу, отправился к себе. За небольшими темными окнами падали и падали холодные снежинки, покрывая землю, а в безмолвных комнатах мерно отстукивали время часы.
ГЛАВА 12
В мезонине тихого дома на Малой Молчановке сидит у окна смугловато-бледный подросток с живыми горящими глазами на полудетском лице и в упорном раздумье кусает карандаш, перечитывая строчки:
Не привлекай меня красой!
Мой дух погас и состарелся.
Он останавливается, перебирает страницы тетради и, найдя то, что искал, читает вполголоса:
Все изменило мне, везде отравы,
Лишь лиры звук мне неизменен был!..
– Стучал, стучал – не отзываешься! Ты занят?
Приоткрыв дверь, в комнату вошел среднего роста юноша, кареглазый, белокурый, с легким румянцем на веселом лице.
– Алексей? – быстро закрывая тетрадь, обернулся Миша. – Входи, входи!
Алексей Лопухин, его близкий друг, хитро прищурил один глаз и усмехнулся:
– А тетрадь от меня поскорей закрыл! Что ты тут писал? Новое? Веселые стихи или нет? Показывай!
– Нет, перечитывал старые. – Миша открыл ящик стола и убрал в него тетрадь. – И совсем не веселые, – добавил он.
– И зачем ты так много печального пишешь? О чем тебе печалиться? У тебя, мой друг, английский сплин. От Байрона заразился!
Миша, вспыхнув, сердито посмотрел на Лопухина.
– Да ведь ты его даже не читал! – сказал он зазвеневшим голосом. – Да и те, кто читал, не понимают его! Не понимает ни мистер Виндсон, ни даже Алексей Зиновьевич! Какой же у Байрона сплин? Где? Все образы его героичны, все! Ты читал «Каина»?
– Ну, не читал, – ответил невозмутимый Лопухин.
– Я так и знал! Ты даже не знаешь, как прекрасна была его жизнь! И смерть его тоже прекрасна! И героична! Потому что он умер, сражаясь за свободу Греции. И я хотел бы умереть, как он!
– Не горячись, Мишель, я только потому так сказал, что ты пишешь все о чем-то трагическом, героическом, меланхолическом. И все читаешь Байрона. Ну, я и подумал, что все это у тебя…
– Все это у меня мое! – перебил его Миша. – Нет, я не хочу быть тенью Байрона. И повторить Байрона нельзя.
Лермонтов отошел к окну и смотрел на быстро темнеющее небо и чуть освещенные месяцем облака, которые прозрачной грядой повисли над городом.
– Нет. Я не Байрон. Я русский, у нас свое, – закончил он твердо.
* * *
В ночь с субботы на воскресенье можно посидеть подольше, не боясь опоздать утром на занятия. Накануне он тоже просидел над стихами до позднего часа, приняв все меры к тому, чтобы об этом никто не узнал. Сегодня, как и вчера, он запер свою дверь на маленький, приделанный им самим крючок и уселся перед камином.
Какая глубокая тишина в доме сегодня! Только время от времени стукнет об оконную раму ветка тополя.
В такой тишине хорошо прислушиваться каким-то особым, внутренним слухом к музыке строк, к гармонии слова.
Глядя то на тяжелый янтарно-красный огонь в камине, то на легко голубеющий туманный свет за окошком, он с напряженным вниманием и трепетным волнением прислушивался к своим мыслям.
Печальный демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним…
Этот образ точно родился в нем из его собственных живых чувств и мыслей, не имевших выхода: из жажды борьбы со всем тем, что мешает жить людям, из жажды правды и великой, всеочищающей любви.
За окном стояла луна, и высокие облака тихо проплывали между ней и землей.
Не странно ли, что безмятежность природы вызывала в нем часто, точно по закону противоположности, образ мятежного духа, отверженного и полного величественной красоты?
Он встал и долго смотрел в окно на ясное звездное небо, до тех пор пока луна не скрылась за темными крышами.
Потом взял карандаш и бумагу и, устроившись на полу, на медвежьей шкуре, волнуясь и точно боясь забыть, быстро стал писать:
Я полюбил мои мученья,
И не могу их разлюбить.
Он остановился и, бросив перо, посмотрел на ярко вспыхнувшее пламя в камине. Сколько раз в Тарханах сидели они по вечерам у такого же огня с мсье Капэ, вспоминавшим свою далекую Францию!
Когда это было? Два-три года тому назад? Какой огромный срок – три года жизни! Тогда еще папенька часто приезжал к ним и брал его к себе в Кропотово, и сердце его еще не разрывалось так, как теперь, от нестерпимой острой жалости к отцу и от обиды за него. И… на него – за мать.
И оттого был он тогда, вероятно, добрее, и не было еще в нем раздражения против людей. Да, он был добрее в те дни.
…Камин давно прогорел и потух. Луну закрыли волнистые облака, и, сгибаясь под набежавшим ветром, чаще постукивали об оконную раму ветки тополя.
На медвежьей шкуре, на полу, положив голову на медвежью морду, крепко спал юный творец «Демона».
ГЛАВА 13
В шестом классе московского Университетского пансиона постепенно затихает оживление, обычное в каждом перерыве между уроками. Только что окончил свои занятия профессор Перевощиков, уважаемый всеми учениками крупный математик и астроном.
– Господа! – ломающимся голосом кричит рыженький, всегда живой Дурнов, войдя в класс и пробираясь к своему месту. – Я считаю, что у Димитрия Матвеевича неправильная система занятий!
– Может быть, ты его поучишь? – раздается насмешливый голос из последнего ряда.
– Ничего нет смешного, – обидчиво отвечает Дурнов. – Я хочу сказать, что он занимается с небольшой, отобранной им группой, а мы все только слушаем. Сегодня опять он Милютина и Лермонтова к доске вызывал, а нас и не спросил.
– Ну и хорошо, что не спросил, – вмешивается в разговор третий ученик. – Последних задач никто из нас, кроме Милютина да Лермонтова, хорошенько не понимает.
– Подумаешь, Лермонтов! Что он, гений, что ли? И у Мерзлякова он первый, и у Дубенского – первый, и даже…
– Неправда! Дубенской ему в позапрошлом году тройки ставил!
– Ну что же, а у Мерзлякова он всегда высший балл – четверки – имеет. А тройки у Дубенского получал за латынь!
– Да вот Лермонтов идет, спросим у него!
В класс торопливо вошел Миша Лермонтов и остановился у кафедры.
– Внимание, господа! – громко сказал он. – Сейчас в коридоре я встретил Павлова. Он просил всем передать, чтобы после уроков никто не уходил: он хочет с нами побеседовать.
– Ого!.. – раздались голоса. – Что-нибудь, наверно, случилось!
– Обязательно кто-нибудь провинился!
– Совсем это не обязательно! Павлов не только инспектор, но и ученый: он физик и философ и может говорить с нами о вопросах науки, – сказал Лермонтов.
– Посмотрим! – отзывается Сабуров.
– Посмотрим! – повторяет Милютин и торопливо подходит к Лермонтову. – Миша, дай на недельку математическую энциклопедию Перевощикова, у тебя, наверно, есть.
– Пожалуйста, бери хоть совсем! У меня два экземпляра.
– Спасибо. Ты захвати ее завтра, очень прошу.
Лермонтов молча кивнул.
– Алексей Федорович идет!
Коренастый, с крупной головой, покрытой густыми, стриженными в скобку волосами, с энергичным лицом и живыми глазами, пятидесятилетний, рано отяжелевший человек быстрыми, решительными шагами поднялся на кафедру.
– Мои юные слушатели и друзья! Сегодня я хочу вновь обратиться к той теме, которой я касался на последнем уроке, и говорить с вами о наследии классической словесности.
Ученики переглянулись. Все хорошо знали, что Алексей Федорович Мерзляков мог говорить без конца о теории и законах классики, иллюстрируя свои уроки чтением то Корнеля и Расина, то величественных од.
Он говорил всегда с горячим увлечением, не замечая времени и часто не обращая внимания на звонок.
В этот раз он был особенно возбужден и, сойдя с кафедры, быстро ходил по классу взад и вперед с маленькой книгой в руке.
Наконец он раскрыл небольшую книжку, на которую с любопытством поглядывали ученики.
– Теперь, друзья мои, оставим истинно высокий стиль. – Он положил перед собой книгу. – Сейчас мы перейдем к современному нам поэту и постараемся в произведениях его необыкновенно легкого пера отметить не только те достоинства, которые все мы знаем и любим, но и те недостатки, познание коих и есть лучшая школа для всех юных поэтов. Вы, конечно, все уже догадались, что я говорю о Пушкине.
Легкое движение прошло по рядам учеников, а смуглое лицо Миши Лермонтова вспыхнуло.
Его волнение не укрылось от Мерзлякова.
– Да, Лермонтов, – повторил он, – для тебя, уже сделавшего первые шаги на поэтическом поприще, и вообще для тех из вас, кто участвует в литературном кружке Семена Егоровича Раича – а таких среди вас немало, – особенно полезно, не поддаваясь первому впечатлению, проанализировать поэтическое произведение.
Лицо Лермонтова стало сердитым.
– Я беру для разбора, – продолжал Мерзляков, – пиесу поэта «Зимний вечер».
– Она прекрасна! – вырвалось у Лермонтова.
– Не спорю. В ней есть прекрасное. – Мерзляков строго посмотрел на своего ученика. – Но обратимся к разбору. Перечтем внимательно первый куплет: в третьей и четвертой строке его мы видим два сравнения: буря то воет, как зверь, то плачет, как дитя. Во втором куплете она, прошуршав соломой по кровле, уже стучит в окно, как запоздалый путник. При таком обилии сравнений образ как бы находит на образ, один образ вытесняется другим – прежде чем мы всмотримся в них и услышим их голоса. Но пропустим среднюю часть и перейдем к концу этой короткой пиесы. Здесь перед нами опять встают два образа. Взяты они из народных песен, но здесь как-то перебивают друг друга и соединены, по моему мнению, только для рифмы: тихо живет за морем синица! Ну, хорошо, допустим. И сейчас же новый образ: девица за водой идет. Перечтем все сначала:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя…
Мерзляков остановился.
– Этот четырехстопный хорей, – проговорил он, задумавшись, – весьма певуч, он точно просится в песню. Этого нельзя не заметить.
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
Два уподобления одно за другим. Ну зачем же, зачем?.. – Он не кончил и продолжал читать дальше, уже не останавливаясь:
Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
– Да, это просится в песню. И здесь – прекрасная рифма: утомлена – веретена. Это сочетание глагола с существительным… да и жужжанье – завыванье… И какая-то в этих строчках грустная нежность, точно… точно… Ну, пойдем дальше:
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
В этом призыве к веселью какая-то грусть. Все в целом – это сама песня, сама песня… – повторил он тихо, как-то с трудом, словно борясь сам с собой. – А какую песню из наших любите вы, друзья мои? – помолчав, неожиданно спросил он и, вздрогнув, остановился: там, в глубине класса, два голоса запели тихо-тихо – запели его песню!
Среди долины ровныя, —
начал мягкий тенорок.
На гладкой высоте, —
вступил другой, еще ломающийся голос.
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте, —
подхватил хор.
– Спасибо, милые! Спасибо, друзья мои… – проговорил Мерзляков растроганно, посмотрев на ребят глазами, полными слез. И вдруг, взяв книгу с кафедры, поднял ее в высоко протянутой руке.
– Лермонтов! На, возьми книжку и прочти нам всю пиесу.
– Я знаю ее, – ответил Миша.
Буря мглою небо кроет…
– начал он негромко.
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
Класс, затихнув, слушал пушкинские строфы, следя за едва уловимой сменой выражения на лице Лермонтова.
Смотрел на него и Алексей Федорович и, слушая, слегка покачивал в такт головой.
За дверьми класса прозвенел звонок. Никто не двинулся с места.
– Прекрасно!.. – проговорил Алексей Федорович тихо. – Ах, как все-таки прекрасно!..
Сойдя с кафедры, Алексей Федорович скрылся за дверью. И вдруг ему вслед раздались аплодисменты, сначала робкие, но потом все более и более громкие.
Чему аплодировали ученики его, они и сами не отдавали себе отчета: то ли стихам Пушкина, то ли признанию Мерзлякова. Скорее всего всему сразу: и красоте стихов и тому, что красота и сила поэзии одержали победу над всеми законами строгого классического стиля.
ГЛАВА 14
После уроков старшие ученики, не расходясь, ждали появления инспектора. Павлов вошел и осмотрел всех внимательным, озабоченным взглядом.
– Господа! – сказал он. – Я обращаюсь к вам сегодня, как к взрослым молодым людям. Вы – старшие ученики вверенного моему наблюдению Благородного нашего пансиона. Я полагаю, что вы понимаете, друзья мои, сколь велика ответственность моя за поведение ваше – всех вместе и в отдельности каждого.
Он помолчал и неторопливо вынул из бокового кармана своего форменного сюртука потрепанную маленькую тетрадь.
– Вот тебе и научная тема! – шепнул Лермонтову сидевший с ним рядом Дурнов. – Я говорил: провинился кто-то!
– Я не имею причин, – продолжал инспектор, – быть недовольным вами. Напротив, я всегда чувствовал наше взаимное доверие друг к другу и знал, что как мои научные занятия с вами, так и мои беседы по какому-либо вопросу вашего воспитания встречали живой отклик в ваших молодых умах и сердцах. А потому и сегодня хочу я говорить с вами, как со взрослыми, и призываю вас серьезно отнестись к моим словам, которые касаются… которые соприкасаются, так сказать, с различными явлениями.
Павлов вытер платком выступивший на лбу пот и продолжал:
– Теперь подумайте, как взрослые люди, и скажите мне со всей честностью, присущей молодости: что смогу я сказать в ваше и свое оправдание, ежели мне скажут, что ученики Университетского пансиона усиленно интересуются запрещенными стихами, и покажут в виде доказательства вот эту тетрадь, оброненную и найденную в вашем классе? Ее истертый вид показывает, что содержание ее хорошо вам всем известно: здесь переписаны запрещенные стихи Пушкина, Рылеева и Полежаева.
Класс молчал.
– Друзья мои! Я не могу запретить вам читать дома произведения, близкие вашему сердцу и уму. Но вы должны понимать, что, принося запрещенные произведения в стены нашего пансиона, вы подвергаете опасности весь пансион.
Павлов положил тетрадь на кафедру.
– Я не буду спрашивать у вас имя того, кто ее сюда принес. Ее читали и, я думаю, переписывали очень многие, если не все. Я оставляю эту тетрадь у вас в классе и ухожу. Тот, кто ее принес, пусть возьмет ее и даст себе слово беречь репутацию нашего пансиона, которая дорога нам всем. Хорошо, что нашел эту тетрадь наш надзиратель, который передал ее лично мне. Могло бы выйти и хуже. Вот то, о чем я должен был вам сказать, – закончил он, но, уходя, еще обернулся в дверях. – Завтра, господа, я буду читать вам лекцию по физике…
– Михаил Григорьевич, можно вам задать один вопрос?
– Конечно, можно, Лермонтов.
– Не так давно в торжественной речи на собрании наш лучший ученик высшего класса Строев говорил об истине. И его речь была высоко оценена и вами, Михаил Григорьевич, и всем нашим советом. Он говорил, что истина должна быть единственным предметом наших изысканий и нашей честью и славой.
– Да, он говорил это, – ответил Павлов.
– И он привел имена многих великих друзей истины. Он называл Ньютона, Канта, Платона, Галилея, Сократа и… Карамзина и некоторых еще поэтов. Он сказал, что тот, кто избрал целью своей жизни поэзию и служение музам, должен быть особенно верен истине. И, кроме того… – Лермонтов заметно волновался, – вы сами написали, что к знанию и к истине стремится дух человека постоянно во всех веках… Мне кажется, я не перепутал? – спросил он, остановившись.
– Нет, ты точно привел мои слова… Где ты прочел их?
– В вашей статье «О способах исследования природы». И вот я хотел вас спросить: не должно ли к великим именам друзей истины прибавить и эти имена: и Рылеева, и Полежаева, и Пушкина?
– Друг мой, – сказал Павлов, с ласковой улыбкой посмотрев на своего ученика, – я отвечу тебе на этот вопрос, но не в стенах пансиона.








