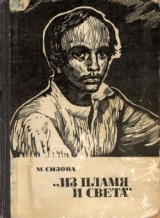
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 17
Приехав из Царского Села в Зимний дворец, император слушал доклад военного министра графа Чернышева о последних событиях на Кавказе.
– Тут перечисляются, ваше величество, имена проявивших в боях распорядительность и мужество полковых офицеров и далее… сию минуту, ваше величество. Ага, вот оно: «Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов, который переносил приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, что заслуживает особого внимания, ибо каждый куст и каждое дерево грозили всякому внезапной смертью».
– Это все? – спросил император.
– Никак нет, ваше величество… За сим следует краткое перечисление его подвигов: то, пользуясь плоскостью местоположения, он бросается с горстью людей на врага, то отбивает нападение его на цепь наших стрелков, далее – он первым со своей командой проходит лес, привлекая на себя всю ярость врага, дабы отвлечь его от нашей переправы. Теперь все. Ну, что вы скажете, ваше величество? Заметьте еще и то, что испрашиваемые у вас награды снижены. А бабушка его, ваше величество, не перестает хлопотать об его отставке.
– Что такое?! – Николай высоко поднял брови. – Этот дуэлянт просит об отставке? Но просить об отставке ссыльному не полагается! Ему в Петербург хочется! А я нахожу, что на Кавказском фронте есть дела поважнее его стихов, какие бы ему дифирамбы ни пели.
– Да, ваше величество! Изволите правильно говорить! Высоко вами ценимый Александр Семенович Траскин, начальник штаба у Граббе, в приватных письмах ко мне много сообщает о своем начальнике…
– Я ценю Александра Семеновича еще со дня четырнадцатого декабря 1825 года, когда он примерно, усердно и точно исполнял мои повеления. Я ему тогда объявил высочайшую благодарность.
– И он хорошо помнит об этом, ваше величество!
– Этот – из верных моих слуг.
– Ваше величество, я питаю искреннее расположение к Александру Семеновичу. И он мне платит приязнью. В тех письмах, о которых я уже имел счастье упомянуть, он много, много полезного сообщает…
Граф Чернышев стоял, слегка склонив голову, в ожидании дальнейших приказаний.
– Садитесь, граф, – решительно произнес император. – Пишите.
Чернышев поспешно взял бумагу и приготовился писать.
Император прошелся по кабинету, потом остановился около своего министра и, слегка пристукивая каблуком на паузах, продиктовал, отчеканивая каждое слово:
– «…Велеть непременно быть налицо во фронте и отнюдь не сметь под каким бы то ни было предлогом удалять от фронтовой службы при своем полку».
Давайте, граф, я подпишу. – И, подписав твердо, с росчерком: «Николай», император протянул листок министру. – Передайте это для дальнейшего следования.
Чернышев с глубоким поклоном взял приказ и вышел.
ГЛАВА 18
Монго Столыпин часто удивлялся: проснешься утром, а Михаила Юрьевича уже нет. Оказывается, велел Ване оседлать Черкеса, которого купил тотчас по приезде в Пятигорск, и умчался в степь, благо за Пятигореком есть где поноситься на коне и поупражняться в джигитовке.
– Просто непонятно, Мишель, – ворчал потом за завтраком Столыпин, – что это у тебя за страсть? Все мы любим лошадей и хорошую езду, но ведь ты, mon cher, невесть что на своем Черкесе вытворяешь! И через рвы летаешь и на полном скаку с земли что-то хватаешь, ставишь коня на дыбы – просто понять не могу, зачем так некомфортабельно заниматься верховой ездой?!
Лермонтов только захохотал в ответ и сообщил, что пятигорские дамы, и сестры Верзилины, и даже матушка их, почтенная Мария Ивановна, нарочно встают рано, чтобы видеть, как он промчится мимо их окон и заставит Черкеса проделать какие-нибудь штуки.
– Дамы дамами, им-то что? – сказал Монго. – А вот с бабушкой что будет, если ты руку или ногу сломаешь?
– С бабушкой? – повторил Лермонтов, задумавшись. – Я думаю, Монго, что если бы я переломал поочередно все члены моего тела, то и это было бы легче для нее, нежели то, что ее ожидает.
– А что ее ожидает?
– Разлука со мной, быть может, до конца ее дней.
Столыпин положил вилку и с тревогой посмотрел на Лермонтова.
– А ты не можешь, Мишель, изложить свои соображения более обстоятельно?
– Очень могу. Из Петербурга пишут, что никакие письма и хлопоты больной бабушки не оказывают ни малейшего действия.
На все ее просьбы вернуть меня хотя бы на некоторое время последовал полный отказ. Мое начальство получило предписание отпуска мне больше не давать и послать в дело, понимаешь? В новые схватки, на фронт – и тотчас по моем приезде. И в полку меня под стеклом хранить не будут, можешь быть уверен. Только рана, Алексей Аркадьевич, и рана серьезная, может меня хоть на время освободить и дать право просить об отставке или хотя бы о лечении в Москве или Петербурге… А меня пуля не берет!
– Неужели это так?
– Так, Монго, поверь. А потому надо обо всем забыть И хорошенько здесь провести время. На днях едем все пикником в немецкую колонию, а завтра у Верзилиных вечер. В воскресенье будет бал перед гротом, на площадке, и это будет великолепно! Ваня! – крикнул Лермонтов. – И ты с нами поедешь на прогулку в немецкую колонию, в горы!
– Слушаю, Михал Юрьич.
– Там площадка есть у подножия Машука. Что за место, Монго!.. Уходить не хочется, так там хорошо. Так вот, Ваня, значит, вместе поедем.
– Это уж лучше чего нет, Михал Юрьич!
Столыпин, улыбаясь близорукими глазами, посмотрел на лермонтовского денщика.
– Я уверен, Ваня, что если Михаил Юрьич скажет тебе, что ты отправишься с ним пешком на Северный полюс, ты и тут скажешь, что лучше этого ничего нет.
– Так точно, Алексей Аркадьич!
* * *
В тот день, когда кавалькада отправилась в горы, к немецкой колонии, Лермонтов был особенно весел.
Накануне он просидел весь вечер у врача Дядьковского, с которым очень подружился «за ученой беседой», как он сказал потом Столыпину.
Юстин Яковлевич Дядьковский был разносторонне образованным человеком и чрезвычайно близко принимал к сердцу все новости и события литературы русской: Пушкина оплакивал как родного и Лермонтова полюбил сразу еще за стихотворение «Смерть поэта» и за то, что Лермонтов за него пострадал.
Узнав его ближе, он не переставал восхищаться его «даром высокой поэзии» и умом.
– Экая умница! – повторял он, простившись с Лермонтовым после долгой беседы, во время которой они говорили и о его будущих творениях, и о последних операх и научных открытиях, и о шекспировских трагедиях, и о немецкой философии.
Когда все остановились, наконец, на лужайке у подножия Машука, был уже вечер.
Косые, последние лучи низко стоящего солнца позолотили склоны гор, и в этом прозрачном и ярком свете была отчетливо видна каждая травинка.
Пока разводили костер, начался закат.
Далекие снежные вершины покрывались воздушным золотом и, потухая в одном месте, вспыхивали в другом, точно набрасывали на них золотую парчу. Орел, поднявшись в ясный воздух, медленно описал круг и исчез.
Лермонтов смотрел и вспоминал такой же ясный лучистый вечер в горах и прелестное лицо девочки, глядевшей на него. Ни у кого больше за всю жизнь не видел он таких лучистых синих глаз.
Только глаза Вареньки бывали такими же сверкающими и ясными. Увидит ли он ее когда-нибудь?..
И вдруг он почувствовал с неумолимой ясностью, что уже не может больше, как свободный человек, распоряжаться своей судьбой. У него отнята свобода!..
– Вы что-то задумчивы стали, Мишель!
– Что с вами?
– Он мечтает о будущих орденах и о славе!
– Нет, Мартышка, ты не угадал, – невесело ответил он. – Мне уже не дождаться ни того, ни другого.
– Я попрошу тебя воздержаться от глупых кличек. То, что было возможно в юнкерском училище, теперь неуместно.
– Э, перестань. – Лермонтов улегся на траву у ног Надин. – Посмотри лучше, какая здесь удивительная красота!
– Я не живописец, – резко ответил Мартынов.
Тягостное чувство не оставляло Лермонтова, и на обратном пути он был рассеян и часто задумывался.
Его раздражали и чем-то смутно тревожили настойчивые взгляды генеральши Мерлини.
Рыжеволосая мадам Мерлини, отличная наездница, гарцевала в мужском седле. Она несколько раз оборачивалась к Лермонтову, и зеленоватые сердитые глаза ее подолгу останавливались на нем. Но он делал вид, что не замечает ее взглядов, и обгонял то Эмилию, то Надин, заставляя их догонять его Черкеса.
. . . . . . . . . .
ГЛАВА 19
Утром прохладного и серенького дня, какие редко бывают в Пятигорске летом, к Елизаветинскому источнику медленно шли два еще совсем молодых человека. Один из них сильно хромал и опирался на костыль, а другой шел с ним рядом и, держа в руках небольшую книжку, горячо говорил:
– Нет, он всегда был самобытен! И… не забудь, что сейчас ему всего двадцать шесть лет, а какая зрелость мысли и какая отточенность формы!
– В этом с ним никого сравнить нельзя, – согласился его товарищ, отыскивая глазами, где бы лучше сесть.
– Сейчас я тебя приведу на чудную скамейку, оттуда Эльбрус в ясные дни виден.
Они сели на скамейку и, задумавшись, смотрели вдаль.
– Ну, читай мне еще раз всю «Бэлу» сначала, – сказал, наконец, хромой юноша. – Такая прелесть ее язык!
– Я тебе сейчас почитаю «Тамань». Только скажу нашим, чтоб меня не ждали. Стихи тебе оставлю, а «Тамань» без меня не читай.
Он положил на скамейку небольшую книжку и исчез, быстро сбегая вниз по аллее.
Юноша взял оставленную ему книгу и начал было читать, но скоро закрыл ее и задумался, потом взял свой костыль и, не выпуская книги из рук, медленно добрел до источника. Наполняя кружку, он уронил книгу на землю и с трудом стал нагибаться, чтобы поднять ее: костыль ему мешал.
В ту же минуту кто-то поднял книгу, и молодой человек увидал перед собой смуглого, темноглазого поручика, который стоял, удивленно и даже несколько растерянно глядя на книгу.
– Благодарю вас. Зачем вы это?.. Я бы сам…
– Пустяки, пустяки!.. А вы не разрешите мне взглянуть на эту книгу? Одну минуту! – почти умоляющим голосом спросил он, протягивая руку.
– Пожалуйста, прошу вас. Вы еще не знаете этого сборника? Это лермонтовские стихи. Их уже давно нигде нельзя достать!
Молодой поручик с какой-то поспешностью перелистывал страницы и, просмотрев, сказал в раздумье:
– Издано неплохо, могло бы быть и хуже… А вот стихи еще нужно бы многие исправить. А иные строчки выбросить совершенно без всякой жалости.
Глаза юноши вспыхнули:
– Что такое вы говорите? Кто вы такой, что считаете себя вправе так судить о стихах Лермонтова?
– Да Лермонтов я, оттого так и сужу, – просто ответил поручик, весело улыбнулся юноше и пошел к своим спутникам.
– Он – Лермонтов, это – Лермонтов! Как же я не узнал? Конечно, это Лермонтов!
Когда вечером Лермонтов проходил со своими друзьями по широкой аллее бульвара, они увидали приближавшегося к ним молодого человека, который остановился и, посмотрев на всех по очереди, волнуясь и смущаясь, спросил:
– Не могу ли я увидать поэта Михаила Юрьевича Лермонтова? Мне очень нужно его видеть!
– Отчего же, – ответил Лермонтов, – пожалуйста, смотрите.
Юноша покраснел.
– Благодарю вас, – сказал он, наконец, пожимая протянутую ему руку. – Если бы вы знали, как я счастлив, что вижу моего любимого поэта!..
– Да неужели я в самом деле ваш любимый поэт?
– Самый любимый! И мы узнали, что у вас здесь нет вашей собственной книги…
Он очень волновался и, вытерев капли пота, выступавшие на лбу, протянул Лермонтову сборник стихов.
– Я вас прошу, возьмите вашу книгу! Я и мои друзья все равно уж знаем ее наизусть. Вот видите, – облегченно вздохнул он, – тут, на пустой странице, наши фамилии… Большое вам спасибо, что вы приняли наш подарок!
Он оглянулся, на широкую аллею выбежали несколько человек. Они радостно смотрели на него, стесняясь подойти ближе.
Лермонтов взглянул на них и почувствовал, что тепло их любви согревает его сердце. Он высоко поднял свою простреленную фуражку и, взмахнув ею, крикнул:
– Спасибо! Спасибо всем!!
Вскоре на широкой аллее не осталось никого. Только две фигуры неопределенного вида и звания прошли мимо Лермонтова и его друзей, разглядывая их с откровенной бесцеремонностью, да сидевшая в глубине аллеи толстая рыжая женщина в ярком туалете сказала, обращаясь к своему собеседнику:
– Не понимаю, как это власти допускают такое выражение восторгов опальному поэту, да еще в общественном месте!
ГЛАВА 20
Вечером у генеральши Мерлини играли в винт. Партнеры – приехавший из Ставрополя на лечение водами флигель-адъютант Траскин, Мартынов и Николай Егорыч. Фамилия его обыкновенно забывалась и была какая-то мудреная, да к тому же двойная: не то Зандюлевич-Зандюловский, не то Кержаневич-Кержановский – никто хорошенько не знал, и все старались произнести ее так же неясно, как это делал он сам. Он уже лет пять как появился в Пятигорске и был весьма частым гостем генеральши Мерлини.
Вечер был совершенно безветренный, и потому карточный стол вынесли на балкон. Две свечи горели, не колеблясь, на его концах.
– Господин Мартынов выиграл во второй раз! – объявляет Траскин, отдуваясь и проводя мелком черту на зеленом сукне стола.
– Это плохая примета, – говорит мадам Мерлини, – вам, Николай Соломонович, грозит неудача в любви!
– В любви, Екатерина Ивановна, как на войне, нужны смелость и упорство, а я, мне кажется, в достаточной степени обладаю этими качествами и потому надеюсь избежать неудачи.
– Даже невзирая на Лермонтова? – усмехается Траскин.
Мартынов мгновенно вспыхивает.
– Разумеется! К тому же у нас совершенно разные дороги, и мы окончательно разошлись.
– Ведь вы, кажется, были близкими товарищами? – небрежно спрашивает Николай Егорыч, беря взятку.
– Товарищами – да, по школе. Но близкими – никогда. Разве мог я быть близким с человеком, открыто называющим себя вольнодумцем?
– Вольнодумцем? – повторяет точно машинально Траскин. – А у меня опять трефы! Никудышные нынче у меня карты. Это он сам назвал себя так? Или другие так называли его?
– И сам и другие. Но не будем об этом говорить. Объявляю бубны.
Игра продолжалась.
– Как все-таки милостив государь к этому офицеру! – вздохнула мадам Мерлини.
– Не правда ли, мадам? – обратился к ней Траскин, тасуя карты. – Недавно он ездил в Петербург с разрешения государя. А ведь этот разжалованный гусар призывал в своих стихах к уничтожению всей знати, к устройству на Сенатской площади гильотины, а после этого хотел убить невинного сына французского посла!
– Ну, это было не совсем так… – нерешительно начал было Мартынов.
– Неважно, мсье Мартынов, каковы были в точности его поступки, но, очевидно, они были такими, которые не делают чести подданному русского императора. В Петербурге хорошо известно…
Но Траскин не договорил, что именно известно в Петербурге: вошедший лакей доложил, что его спрашивают.
– Прошу прощения, – сказал он своим партнерам, с трудом поднимаясь с кресла. – Ко мне пришли по делу, но я сейчас вернусь.
Он действительно скоро вернулся.
– Но вы что-то начали говорить о Петербурге, – обратились к нему Мерлини, внимательно рассматривая свои карты.
– Ничего особенного, мадам. Я хотел только сказать, что в Петербурге прекрасно понимают, чего можно ждать от такого человека, и считают, что кавказская война поможет охладить его пыл. Я имею совершенно точные сведения об этом. Государь император распорядился, чтобы начальство ни под каким предлогом не осмеливалось удалять его от фронта. Я даже узнал, что это распоряжение было сделано тридцатого июня.
– От кого? – быстро спросил Мартынов.
– От наших общих друзей, – ответила за Траскина генеральша. – И кроме того, по мнению государя, надо…
– Виноват! – Николай Егорыч неосторожно смахнул со стола лорнет генеральши.
Подняв его, он шутливо сказал генеральше, что пора ей заняться картами и взять реванш.
После ухода Мартынова Николай Егорыч сказал хозяйке дома:
– Сегодня приходил Кувшинников жаловаться на здешних молодцов. Ничего толком не делают, не то что столичные – необразованный народ. Так что, если бы не ваша помощь, с такими помощниками он бы немногого достиг. Надеясь на ваше разрешение, я сказал, чтобы он остался ужинать.
– Ну разумеется! – ответила мадам Мерлини.
Было очень поздно, когда Траскин, наконец, встал из-за стола и, облобызав руку генеральши, удалился вместе с полковником Кувшинниковым.
Лермонтов и Столыпин медленно ехали верхом, возвращаясь с прогулки.
Проезжая мимо дома генеральши Мерлини, они увидели, как два человека сошли с крыльца. Пересекая улицу, они поравнялись с обоими всадниками. Столыпин с удивлением сказал:
– Что за подозрительные личности вхожи в дом этой генеральши? Впрочем, она сама внушает подозрения.
– А не говорил я тебе, Монго, что вскоре после нашего приезда получил от этой генеральши письмо?
– В первый раз слышу! Что она могла тебе написать?
– Это было объяснение, Монго, самое обыкновенное объяснение в самых обыкновенных пламенных чувствах, – засмеялся Лермонтов.
– Неужели? Что же ты ей ответил?
– Да ничего, конечно. Я даже забыл, куда дел это письмо. Погоди, она еще и тебе напишет! Она помешана на романах.
– Помилуй бог! – ответил Столыпин. – Но очень жаль, что она обратила на тебя свое внимание, потому что теперь она вдвойне твой враг. А о ней ходят весьма темные слухи.
– Ах, Монго, какие враги могут здесь мне повредить?! Еще несколько дней – и меня опять отправят рубить шашкой. А чеченцы относятся ко мне не лучше генеральши Мерлини. В этом ты можешь не сомневаться. Но на этот раз я должен, непременно должен получить ранение: иначе, Монго, я пропал!..
ГЛАВА 21
Около Елизаветинского источника, в ресторации и на дорожках бульвара в часы прогулок и даже в ранние утренние часы можно было видеть теперь Николая Егорыча в обществе князя Васильчикова и Мартынова, а иногда и полковника Кувшинникова. Они так подружились, что всюду бывали вместе. И если к пустому столику ресторации подсаживался один из них, это значило, что остальные очень скоро присоединятся к нему.
Однажды они сидели втроем.
– Выпей, Николай Соломонович, еще кахетинского: оно веселит, – сказал Васильчиков, убедившись в том, что никакие шутки не могут рассеять мрачность Мартынова. – Вино излечивает все, кроме нечистой совести и, пожалуй, любви.
– Вот именно, – угрюмо подтвердил Мартынов.
– Так что же составляет причину ваших страданий, дорогой мой, – спросил Николай Егорыч, – первое или второе? Впрочем, нечего и спрашивать: на совести у вас злодейств никаких не имеется и быть не может. Значит, любовь всему виной. А это дело поправимое.
– Вы думаете? Но уязвленная гордость и раны самолюбия заживают не скоро.
– Виноват! – Николай Егорыч поднял указательный палец и некоторое время, сощурив и без того узкие глаза, смотрел на Мартынова. – Но ведь за уязвленную гордость и за раны самолюбия можно вступиться и даже отомстить!
– Смотря кому… – значительно произнес Васильчиков.
– Что значит смотря кому? – возразил Николай Егорыч. – Тому, кто это сделал, – без различия.
– Я держусь того же мнения, – согласился Мартынов.
– Тут и спора быть не может! – разгорячился Николай Егорыч. – Хоть любого спроси! А вот, кстати, офицер Лисаневич! Он жертва насмешек одного известного всем нам поэта. Спросим-ка его. Лисаневич! – обратился он к проходившему мимо их столика совсем молоденькому офицеру, – А ну-ка, господин офицер, разрешите наш спор: следует ли всегда мстить за обиду?
– Смотря какая обида и какая месть.
– Я разумею самую обыкновенную дуэль! – Николай Егорыч посмотрел на Мартынова.
– Дуэль? – повторил Лисаневич. – Конечно, если бы меня оскорбили, я бы вызвал на дуэль.
– Благодарю вас! – весело ответил Николай Егорыч. – Я спросил вас с исключительною целью возразить князю Васильчикову.
– Вот вы сказали, что вызвали бы того, кто вас оскорбит, на дуэль? – вмешался Васильчиков.
– Вызвал бы.
– Значит, всякого?
– Думаю, что всякого.
– В таком случае почему же вы не вызываете Лермонтова, который над вами смеется?
– Лермонтова? Нет, на него рука бы не поднялась.
За маленьким столиком воцарилась тишина.
– Виноват, – проговорил офицер Лисаневич, – меня ждут. – И ушел.
ГЛАВА 22
Был тот предвечерний час, когда публика, которая ежевечерне веселилась в парке, еще не собралась.
В ресторации в этот час почти не бывает народа, и в общем зале было занято только два столика.
За одним уже давно трудились над шашлыком, запивая его красным вином, два господина неопределенного вида.
И старший, прикрываясь газетой, которую он не читал, бросал время от времени взгляды на столик, стоявший у самого окна, откуда можно было любоваться панорамой гор, ясно видных в этот день.
За вторым столиком сидели Лермонтов, Столыпин, Трубецкой и Глебов.
– Что касается твоих печальных мыслей, Мишель, – говорил Трубецкой, – то я уверен, что они скоро рассеются. Долго тебя здесь не продержат, и будешь ты опять в Петербурге, хотя бы потому, что о тебе там не перестают хлопотать и Смирнова и Жуковский.
– Предчувствия мои имеют очень серьезные основания, – ответил Лермонтов, – и они уже оправдались. Не видать мне больше ни Московского Кремля, ни невских просторов, если, разумеется, не будет никаких перемен там, где решаются наши судьбы. Меня здесь держат как в мышеловке. Такова воля его величества, он совсем не жаждет меня видеть.
– Тише, Мишель, – остановил его Столыпин.
– Мы здесь одни, Монго, и ничего страшного я не сказал.
– Нет, мы не совсем одни. – Трубецкой указал взглядом на стоявший в глубине столик.
– Это те самые, кого мы встретили ночью у дома генеральши Мерлини, – тихо сказал Столыпин. Лермонтов взглянул и, блеснув глазами, в которых загорелся огонь озорства, громко сказал:
– Ты знаешь, Алексей Аркадьевич, приехавший недавно из Франции Шувалов рассказывал много интересного! Между прочим, говорит, что если в каком-нибудь парижском ресторане обнаруживают сыщиков, их непременно бьют.
– Мишель! – остановил его Столыпин.
Но Лермонтов уже весело наблюдал за тем, как оба господина, быстро допив вино и расплатившись, направились к выходу.
– Ну, скажите мне теперь все трое – только ты, Монго, не говори ничего для моего утешения, – верите ли вы, что настанет такое время, когда все мы опять сойдемся вместе? И те, которых я узнал здесь, на Кавказе, и те, кто остался на севере? И неужели мы сможем хоть чем-нибудь помочь созданию иной, лучшей жизни?
– Мне кажется, что если б я не верил в это, я не мог бы жить, – сказал Трубецкой.
– И я, – сказал Глебов.
– К сожалению, Мишель, я должен тебе напомнить, – сказал Столыпин, вставая, – что нам пора идти к коменданту, он обещал нынче продлить срок нашего отпуска.
– Пойди, Монго, один, прошу тебя! – сказал Лермонтов. – А я пока тут посижу в тишине и запишу кое-что. А то непременно забуду!








