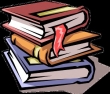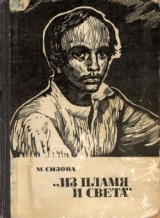
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 9
Среди ночи дробное, мерное постукивание дождевых капель стало затихать и постепенно смолкло. Порыв ветра далеко откинул край парусины и свежим дыханием пронесся по всей палатке, отчего Вонлярлярский с Мартыновым плотнее укрылись шинелями, а Лермонтов проснулся.
Он приподнял голову и прислушался: да, несомненно, дождь прекратился. Быстро всунув ноги в высокие сапоги и набросив шинель на плечи, он осторожно двинулся к выходу, стараясь не задеть чего-нибудь в темноте и не разбудить товарищей.
Был тот глубокий час ночи, когда уже приближается первый отблеск рассвета и какая-то особая тишина покрывает землю. Последние капли изредка падали с намокшей листвы.
Наверху быстро неслись последние остатки тяжелых облаков; ясно голубело предрассветное небо, и прямо перед глазами на чистом, нежно-зеленоватом востоке, чуть тронутом внизу, над самым горизонтом лимонно-желтой полоской зари блестела, переливаясь, казавшаяся огромной утренняя звезда.
Тишина…
Он стоял и, слушая эту прозрачную тишину, смотрел на переливчато-дрожащий свет звезды до тех пор, пока предутренний холод не дал о себе знать. Но в палатку идти не хотелось. Этот нежный и тихий рассвет напомнил ему утреннюю зарю над московским зеленым двориком, окно его маленькой мансарды и то волнение и восторг первой встречи с Наташей, после которой он просидел всю ночь, дожидаясь солнечного восхода.
Он опять увидел перед собой нежное лицо Натали, которая с такой жестокостью и так равнодушно попрала его самоотверженную любовь.
С тех пор прошел целый год… Нет, два года; боже, какой огромный срок! И как еще свежа боль. Только образ Вареньки уменьшает ее остроту.
Он встает все отчетливей в его памяти – тот последний вечер в лопухинском саду, и рука Вареньки, в которой она бережно держала выпавшего из гнезда воробья.
Ах, Варенька, Варенька, полная любви и жалости ко всему живому! Как бы хотел он вложить в твою узенькую полудетскую ладонь свое сердце, уже успевшее устать и извериться, свое горячее сердце, готовое любить и верить!..
Но Варенька еще почти дитя, строгие правила ее воспитания не разрешают ей даже писать ему… и даже… получать его письма! Только у Мари, милого и верного друга, может он иногда спросить о ее младшей сестре: не прямо, но вскользь, намеком – и получить в ответ несколько строчек, в которых упоминается ее милое сердцу имя.
Он давно не получал этих дружеских писем от Мари Лопухиной. И сам не писал ей тоже давно. Трудно здесь, в лагерях, писать…
Когда же кончится еще один год казенщины, мертвящей муштровки, убивающей личность, добровольного отказа от всего, что составляло свет и смысл его жизни?!
Он провел рукой по волосам, влажным от ночной сырости, почувствовал, что озяб, и вернулся в палатку.
Но сон не приходил больше, и он с завистью посмотрел на Монго Столыпина, который поздно вернулся после игры в карты и теперь спал как убитый. Чуть откинув край палатки, Лермонтов наблюдал, как медленно светлело уже совсем чистое небо, как торжественно и тихо разгорался ясный день – первый погожий день чуть ли не за целый месяц!
Заря уже бросила первый луч в узкую щель палатки и осветила военную амуницию и оружие, лежащее около него на походном стуле.
Его амуниция! Не странно ли это, не сон ли, привидевшийся вдруг в невеселую ночь? Он, Лермонтов, через год лейб-гусар!
А где же пламенная жажда совершенства – в людях, в жизни, в себе самом? Где высокие мечты о свободе и человеческой справедливости? Ему было одиннадцать лет, когда они зажглись в нем впервые!
Где высокий идеал поэта, который свое огненное сердце несет всему миру, как похищенный с неба огонь Прометея?
Неужели все это стало уже прошлым? И к этому не вернется душа? И прав Монго, который считает все это детскими мечтаниями?
Нет, нет! И под курткой юнкера и под блестящим мундиром лейб-гусара в нем будет биться то же сердце, полное надежды, горечи и любви и той же жажды совершенства!
ГЛАВА 10
Экое счастье! Вернулись, наконец, из лагерей в училище! Елизавета Алексеевна немедленно оставила петергофскую дачу и возвратилась в Петербург.
Здесь все-таки поспокойнее, потому что Мишенька близко: вон она, видна в окно Мишенькина школа! Конечно, и в городе может опять случиться такое. Не приведи боже! Вспомнить страшно тот день, вскоре после поступления Миши в училище, когда привезли его домой без сознания. Бабушка так и обмерла. Как только ума не лишилась?! Кинулась к тому, другому – ничего толком не говорят, а Мишенька и слова вымолвить не может. Наконец Коля Юрьев все рассказал: в манеже, во время верховой езды, Мишеньку, еще новичка, принялись старшие юнкера поддразнивать, что он, мол, студент и лошадей боится. Он тогда сел с досады на самую молодую лошадь, она и начала беситься, а за ней – другие. Одна из них и ударила его по ноге, да так сильно – до самой кости прошибла! Упал он, сознание потерял. Доктора уложили в постель. Перелом оказался в кости! Вот тебе и ученье!! Сколько времени пролежал он тогда в постели!..
Только Мишенька и после того не стал осторожнее. Молодость все легко забывает! Рассказывает еще Коля Юрьев, что Мишенька в училище свой эскадрон завел, да не из лошадей, а из юнкеров! И как-то они там друг дружке на плечи забираются, и выходит будто бы у них конь и всадник, и этот свой эскадрон Мишенька называет «нумидийским», а что они там творят, только им самим ведомо. Говорят: новичков водой поливают, по залам скачут… Надо бы на него рассердиться, да не выходит ничего: невозможно!
Вонлярлярский тоже бедовый, хотя за лень Мишенька и зовет его «байбак»: целый день готов на кровати лежать. А уж Булгаков Костя – это такой повеса, балагур такой, что мертвого рассмешит: его за это великий князь Михаил Павлович любит. Отец – московский почтдиректор, человек солидный, а сын вышел страсть бедовый.
Ну теперь, благодарение богу, один год миновал, а через год и производство, хоть Миша и говорит, что один год в училище он за пять лет считает.
Так рассуждала бабушка.
* * *
А ее внук, попадая домой, не отрывался от книг, стараясь нагнать упущенное. Книги так называемого литературного содержания в школе прапорщиков читать не разрешалось. Господа юнкера при желании могли заняться этим в воскресный день – дома. Но большинство юнкеров предпочитали всем видам писательства бойко написанные анекдоты, над которыми можно было погоготать. Гоготали над своей «Школьной зарей», выходившей в рукописном виде каждую среду с самого начала 1833 года. И ради этого гогота старались все сопричастные «Заре» авторы, среди которых несравненными почитались два поэта: Степанов и граф Дарбекир. Их имена красовались под произведениями, написанными звучными стихами, получившими известность даже за стенами юнкерского училища. Читатели потешались над не вполне подходящими для цензуры поэмами «Уланша», «Гошпиталь» и «Петергофский праздник», не подозревая, что все эти поэмы сочинены всего-навсего одним юнкером: и вовсе не Степановым и не графом Дарбекиром, а просто Мишей Лермонтовым.
Правда, эти произведения были не такого характера, чтобы их можно было – упаси боже! – показать бабушке. Но зато юнкера вырывали эти листки с боем друг у друга и дрались за право первым прочесть их после вечерней зори, когда кончалось, наконец, все дневное расписание.
После часов, отданных шагистике и стрельбе в цель, после отупляющей усталости, после столь же отупляющего отдыха, пустых, ничтожных и часто непристойных разговоров господ юнкеров что могло остаться в душе? Ничего, кроме затаенного протеста против всего, что делается и говорится вокруг, ничего, кроме страстного ожидания дня свободы и конца мертвых для творчества дней.
Стихи умирали здесь, не прозвучав, как умирают растения без солнечного света.
Но в первый год обучения в Юнкерской школе Лермонтов еще пытался продолжать своего «Вадима».
Рассказ Раевского о том, что отец его бабушки был казнен пугачевцами, как и дед друзей Лермонтовых – братьев Шеншиных, – снова вернул его к этой теме крестьянского восстания. Тайком, скрываясь от воспитателей и от юнкеров, по ночам в пустом классе он пытался продолжать повесть о крестьянском мятеже, который поднял обездоленный горбун Вадим. Но, заметив, что за ним начинают следить, он скоро прекратил эту работу.
Кроме того, он слишком хорошо видел ее недостатки и понимал, что, наделив своего героя прежде всего жаждой личной мести, он снижает самый смысл поднятого Вадимом восстания.
Он не мог не чувствовать, что образы его главных героев и их язык кажутся отвлеченными и оперно-условными наряду с вполне реальными образами крестьян и их живой народной речью, и оставил эту повесть на двадцать четвертой главе, тщетно «перерыв для нее всю душу», как написал он Мари Лопухиной.
ГЛАВА 11
– Ловко! Ловко, Лермонтов!
– Что же ты, Курок? Сплоховал, брат!
– Ай да удар! Молодец, Лермонтов!
– Он всегда на эспадронах как бес бьется!
– Кончили, господа! – кричит офицер. – Сегодня отличные успехи в бою на эспадронах показал юнкер Лермонтов!
– Зато в маршировке ты, Маёшка, не блещешь! – громко говорит Курок и посматривает с явным превосходством на своего товарища.
Юнкер Лермонтов вытирает вспотевший лоб, натягивает на себя куртку, снятую на время сражения, и весело отвечает высокому юнкеру:
– Нет, я, брат, и в маршировке блещу – тем, что хуже всех марширую.
И, покрывая общий смех, громко заканчивает:
– Как и полагается Маёшке.
– Кому? – оборачиваясь, спрашивает офицер, ведущий с юнкерами занятия.
– Это сам Лермонтов так себя прозвал, Алексей Николаевич.
Юнкера обращаются с этим учителем попросту:
– Читали, Алексей Николаевич, французский роман про горбуна Майо?
– Чем же он на Лермонтова похож?
– Лермонтов уверяет, что фигурой.
– Сомневаюсь, Лермонтов. Господа юнкера, объявляю десятиминутный отдых, после чего идите в классы. До обеда у вас еще два урока. Что у вас сейчас?
– Закон божий! – отвечают со всех сторон.
– В таком случае торопитесь! Батюшка, вероятно, уже проследовал в учительскую.
– Лермонтов! – кричит кто-то. – Дай завтра на парадировку твой мундир надеть!
– Возьми сам у меня в шкафу.
– Мишель! – зовут с другой стороны.
Но Лермонтов больше не отвечает. В руках у него небольшой листок бумаги и карандаш, и он что-то пишет, уже не замечая того, что делается вокруг.
Он так и входит в большую пустую комнату, где происходят занятия юнкеров науками, и, подложив под листок бумаги твердую тетрадь, на ходу набрасывает на эту бумажку коротенькие строчки.
А отец Павел из учительской уже проследовал в класс. Он прослушал краткую молитву перед началом урока и поднялся по ступенькам кафедры. Расправляя обеими руками окладистую рыжеватую бороду, оглядел свою аудиторию, оглядев, кашлянул, потом промолвил: «Так!..», потом вздохнул и, наконец, спросил:
– Господин юнкер Лермонтов, на чем остановились мы в прошедший раз в изучении Ветхого завета?
– На бегстве евреев из Египта, – отвечает быстро Лермонтов, не оставляя своего занятия.
– Так-с, – говорит отец Павел. – Способности у вас отменные, юнкер, и памятью бог вас не обидел. Но помнить надлежит вам и то, что в библии событие сие именуется не «бегство», а «исход». А помимо сего, интересуюсь весьма узнать, – медленно и внушительно говорит отец Павел, сильно окая и постепенно повышая голос. – Интересуюсь весьма узнать, чем изволите вы заниматься во время, отпущенное начальством вашим для изучения закона божия? Что начертано на бумажке сей вашей рукой?
В наступившей паузе отчетливо раздается:
– А я молитву пишу, отец Павел.
Глаза отца Павла делаются круглыми от изумления, лицо принимает несколько растерянное выражение.
– Интересуюсь узнать доподлинно, что за молитву изволите слагать? Благоволите прочесть!
– «Царю небесный», – не поднимая глаз на отца Павла, отвечает Лермонтов.
Лицо отца Павла выражает умиление.
– «Царю небесный! Спаси меня!» – читает юнкер Лермонтов и на секунду умолкает.
Голова отца Павла начинает мерно покачиваться в знак полного одобрения и в знак помощи и сочувствия автору.
– Царю небесный! Спаси меня, – повторяет он с умилением.
От куртки тесной,
Как от огня, —
продолжает юнкер Лермонтов. Голова отца Павла все еще по инерции продолжает покачиваться сверху вниз.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь, —
голос юнкера звучит умоляюще, —
Пускай в манеже
Алехин глас
Как можно реже
Тревожит нас.
Позади, в группе юнкеров, старающихся через плечо Лермонтова заглянуть в его бумажку, слышен сдержанный дружный смешок.
– Н-да-с… – говорит отец Павел растерянно. – Интересуюсь весьма узнать продолжение молений ваших!
– А тут уже и конец, отец Павел, – с невинным взглядом печальных глаз отвечает юнкер. – Вот он:
Еще моленье
Прошу принять —
В то воскресенье
Дай разрешенье
Мне опоздать.
Я, царь всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем.
Юнкера уже не могут сдержать своей веселости, и громкий смех молодых голосов не дает отцу Павлу говорить, но предоставляет ему возможность собраться со своими собственными мыслями.
Наконец дождавшись тишины, он устремляет свой взор на сидящего впереди юнкера Лермонтова, расправляет еще раз свою бороду и довольно решительно произносит:
– Одним словом – да…
– Не смею спорить с вами, батюшка, – смиренно говорит юнкер Лермонтов.
– И не спорьте!
Отец Павел вдруг повысил голос, решив рассердиться, и, строго посмотрев на смугловатое лицо своего ученика, повторил еще громче:
– И не спорьте! А будьте-ка любезны изложить, что вам ведомо о войне филистимлян, о коей повествует вторая книга «Бытия».
– О войне филистимлян? Я, отец Павел, лучше про другое.
– Про другое? Что же такое имеете в виду?
– Я имею, отец Павел, в виду Рахиль. Или Ревекку – не могу точно сказать.
– Рахиль? – строго переспрашивает отец Павел.
– Ну да, отец Павел! Ту Рахиль, за которую Иаков семь лет овец пас, но его обманули и подсунули ему Лию. Тогда он за Рахиль еще семь лет овец пас, пока, наконец, женился. Позвольте, батюшка, я про эту Ревекку вам расскажу!
– Нет, отец Павел! – раздается умоляющий голос из задних рядов. – Пусть Лермонтов про Лию расскажет, а я про Рахиль!
Глаза отца Павла перебегают с одного лица на другое и расширяются от гнева. Он протягивает вперед свою широкую ладонь, потом решительно опускает ее на кафедру и грозно произносит, делая ударение на каждом «о»:
– До́-во́ль-но́!..
Юнкера стараются не смеяться, ожидая, что будет дальше.
– Веселостям здесь не место! – продолжает греметь отец Павел. – А дабы привести ваши чувствования к согласию, изложу вам я лично о войнах филистимлян с амаликитянами! Юнкер Лермонтов, попрошу вас не рисовать с меня портретов! Отдохните от моления вашего. И послушайте, что повествует нам Ветхий завет об оных филистимлянах.
Лермонтов убирает свои карандаши, отец Павел приступает к рассказу.
Но тотчас по окончании своего рассказа отец Павел протянул руку и сказал:
– Юнкер Лермонтов, попрошу у вас произведение пера вашего для ознакомления на короткое время.
Лермонтов послушно положил в протянутую руку листок бумаги, и батюшка вышел из класса.
– Ну, Мишель, держись! Сидеть тебе опять в карцере, – предсказывали юнкера.
Отец Павел, показав произведение Лермонтова в учительской, потребовал, чтобы оный юнкер немедленно после занятий был отправлен в карцер: для острастки и для благообразия в образе мыслей его.
– Хотя проступок его и не злостный, но строгости ради надо ученика сего подтянуть, – сказал он надзирателю, – и не давать мыслям и чувствованиям оного излишней вольности, к чему он весьма и весьма склонен.
Во время занятий в манеже надзиратель, глядя на марширующих в ногу юнкеров, сказал своему помощнику:
– Вот, Тихон Семеныч, каналья этот Лермонтов! Хоть в маршировке не отличается, зато на лошади сидит как влитый и на эспадронах лучше всех бьется! А стишки такие пишет, что умора! Молитву одну сочинил, где и про нас с вами есть. Вот за то и пойдет сегодня в карцер. Уж он там и так все стенки стишками исписал!
ГЛАВА 12
Такая радость, что в эту субботу вернулся Раевский из Москвы! Все два долгих года военного обучения своего младшего друга Святослав Афанасьевич всегда старался устраивать так, чтобы воскресные дни Лермонтов проводил в кругу литераторов и в общении с людьми, которым могли быть близки и понятны его мысли и надежды.
Чаще всего Святослав Афанасьевич приводил его туда, где собирались начинающие писатели, где интересовались народным творчеством, изучали народные песни, сказания, пословицы и где иногда он сам читал небольшие доклады или выступал, обсуждая доклады других.
Лермонтов с интересом прислушивался и к докладам и к оживленным спорам – то о душе русского народа, то о вреде западных влияний, – но Раевскому ни разу не удалось заставить его прочесть там что-нибудь свое.
На следующий же день после своего приезда Святослав Афанасьевич затащил его к Панаеву, где собирался в приемные и в неприемные дни хозяина цвет литературного общества Петербурга. Но они попали неудачно: у Панаева в этот вечер был большой карточный стол. Лермонтов посмотрел на вошедших в азарт игроков и, не простившись с Панаевым, незаметно покинул его дом.
Возвращаясь с Раевским к себе домой, он твердо сказал:
– Вот что, Святослав, ты меня пока к своим литераторам не води. А когда я напишу что-нибудь достойное быть прочитанным, тогда я сам к ним попрошусь.
– Хорошо. А когда это примерно будет?
– Примерно… никогда, – смеясь, ответил Лермонтов и на том покончил разговор.
Как-то вечером они пошли побродить по Невскому. У Лермонтова была смутная надежда увидеть там Пушкина, хотя он знал, что Пушкин появлялся на Невском чаще всего в дневные часы, по пути в книжную лавку к Смирдину.
– Скоро ты кончаешь школу, Мишель, – сказал Раевский, – и для тебя, как для офицера лейб-гвардии гусарского полка, одного из самых блестящих полков наших, немедленно откроются двери всех домов петербургской знати.
– Меня это не особенно интересует, – ответил Лермонтов.
– Будто бы? – Раевский сбоку посмотрел на своего спутника. – Не ошибаешься ли ты? В этом скрыт великий и обольстительный соблазн. И я боюсь, как бы вся эта светская кутерьма в соединении с кутерьмой гусарской не отдалила тебя от твоего прямого дела.
– Уверяю тебя, что твой страх напрасен. Ты лучше расскажи мне про Москву. Где ты был, кого видел?
– Был в разных местах – и для дел и для развлечений – и вспоминал тебя на «вторнике» в Благородном собрании. Ты любил эти «вторники»!
– Ну, что же там нового?
– Одну новость могу тебе сообщить: я видел Вареньку, которая делает в свете первые шаги, и с большим успехом.
Лермонтов молчал. Они давно миновали Невский и стояли, облокотясь на гранитные перила набережной, прямо против Исаакиевского собора.
Перед ними был широкий простор реки, на двух больших судах и нескольких баржах горели слабым светом фонари, отражаясь извилистой чертой в темной воде. На затуманенном небе кое-где мерцали осенние звезды, выступал на фоне медленно плывущих облаков громадный собор с четырьмя крылатыми фигурами, точно охраняющими купол, и казалось, что крылья их взметнул порыв ветра.
– Так ты видел Вареньку? И она уже появляется в большом свете? – проговорил Лермонтов. – Ну что ж, я рад, что ей не скучно… без меня.
Он задумался и твердо закончил:
– Я ведь уже говорил тебе: она единственная, которой я верю.
ГЛАВА 13
Святослав Афанасьевич поставил точку, кончая небольшую статью о народных сказителях, и решил немедленно ложиться спать. Но, погасив свечи, горевшие на письменном столе, он услышал чьи-то шаги. Раевский остановился и посмотрел в окно: какой-то удивительный голубой свет был за окном – вероятно, от луны.
«Кто бы это так поздно?» – Святослав Афанасьевич прислушался к шагам.
Шаги быстро и решительно остановились у его комнаты, потом дверь широко открылась – и он увидел Лермонтова в шинели, запорошенной снегом.
– Миша? Ты? Что случилось? – отступил Раевский.
– Мне нужно с тобой поговорить.
– Так что ж ты не снимаешь шинель? Давай ее сюда, она вся в снегу. Вьюга на улице. Хочешь вином согреться?
– Нет. Я за тобой, Слава, пойдем!
– Куда? Что с тобой, друг мой? Ведь поздно: ночь и вьюга.
– Вот именно. И ночь и вьюга. Лунная ночь и голубая вьюга! Одевайся, пойдем бродить под вьюгой. Я не могу больше думать один! Мне необходимо сказать тебе сейчас же о том, что сегодня с утра владеет неотвязно моими мыслями.
– Что же это такое?
– Это, – повторил Лермонтов, глядя в окно, где ветер нес хлопья голубого снега, – это «Демон»!
* * *
Вьюга была теплая, предвесенняя – последняя вьюга зимы. Иногда луна закрывалась быстро летящей тучей, и тогда снег валил густыми, крупными хлопьями, голубой свет исчезал, и делалось холодно и тускло.
Но опять порывом налетал ветер, отгонял разорванную тучу – и только легкая сетка снежинок мелькала между землей и луной.
– Вот что, Святослав Афанасьевич, заставило меня прибежать к тебе, – начал Лермонтов, как только они очутились на улице. – Сегодня, пересматривая все мной написанное, я понял, что все это плохо и все не то. Понимаешь? Все, начиная от неоконченной повести, которую ты знаешь, кончая последней переделкой «Демона», которой ты еще не знаешь.
Он остановился около решетки запорошенного снегом сада и, не обращая внимания на ветер, рвавший полы его шинели, близко и пристально посмотрел в лицо Раевского, освещенное мигающим светом тусклого уличного фонаря, качавшегося под ветром.
– Святослав Афанасьевич, скажи мне как брату: ты веришь в меня?
– Как в этот месяц, который сейчас светит, – полушутя ответил Раевский.
– Нет, ты серьезно скажи – так же, как я спрашиваю.
– Я серьезно говорю, Миша: верю. И ты сам знаешь, что верю я не без оснований и не слепо.
– Нет, не знаю. Может быть, в одуряющей атмосфере нашей Юнкерской школы писать невозможно, а может быть, по некоторым еще более глубоким причинам, но я сейчас ничего не пишу – ничего, кроме таких произведений в юнкерском вкусе, как «Уланша» и другие, о которых я потом стараюсь поскорее забыть и никогда их не перечитываю.
– Скоро ты кончишь школу и тогда вернешься к настоящей работе, поверь мне.
– Может быть. Но сейчас я только вижу, как много слабого во всем, что лежит в моем столе, начиная от того, что было написано на грани детских лет – вроде либретто к пушкинским «Цыганам». Вот, пожалуй, в «Испанцах» есть что-то удачное. Я перечитал их нынче, – оживился он.
Взяв под руку Раевского, Лермонтов потянул его дальше, против ветра, дувшего им прямо в лицо влажным дыханием.
– Ох, как захотелось мне видеть их на сцене! Хотя бы и не в любимом моем Малом театре, хотя бы и не с великим Мочаловым в главной роли, а где-нибудь в самом скромном театрике. Да разве цензура пропустит! Если бы ты знал, как мучительно убирать в ящик стола вещь, написанную для сцены! Но «Демон» – вот кто мучает меня по-настоящему.
– Его-то по крайней мере ты не бросил?
Лермонтов остановился и, усмехнувшись, задумался.
– Когда я начал его – еще в пансионе, в двадцать девятом году, когда впервые явился воображению этот летящий под голубым сводом великий скиталец, я написал:
И гордый Демон не отстанет,
Пока живу я, от меня, —
и знаешь, сам себе напророчил. Ведь он и в самом деле не отстает! Ты слушай, Святослав, что это такое, и пойми… Кажется, исчез – и опять он здесь! Сколько раз я уже брался за поэму – вновь и вновь! Демон все куда-то зовет и не дает мне успокоиться.
Оставив тех же героев, я увеличил очерк в пять раз. Но вот около года тому назад перечитал поэму и… написал все заново… с четырехстопным ямбом покончил, гармоническое построение теперь совершенно иное, я сделал все гораздо более тяжелым размером.
– Белым стихом?
– Хореем пятистопным. И он у меня все время ломается, мне хотелось, чтобы размер отражал как бы внутреннюю дисгармонию в душе Демона. Но герои остались теми же. А они должны стать более живыми – и монахиня моя и незнакомец, то есть Демон. А теперь меня мучает сознание, что все это совсем не так надо писать. Я всегда думал, что это должна быть поэма в стихах. Но нет, – покачал он в раздумье головой, – в прозе лучше.
– В прозе?! – остановился в удивлении Раевский. – Я не представляю себе твоего «Демона» в прозе. Но я начинаю думать, Миша, – сказал он, поднимая воротник, – что он еще оживет в новом виде и в новых стихах. А теперь пойдем домой. Ветер стал еще сильнее, и, наверно, очень поздно.
– Да, ветер стал сильнее, – повторил машинально Лермонтов и посмотрел на небо. – Но, видишь, он зато разогнал все тучи, и чистая луна светит с чистого неба. – Он помолчал. – Скажу тебе на прощание, Святослав Афанасьевич: мне кажется, что я не расстанусь с «Демоном» и с этой темой всю жизнь, потому что в ней заключена, может быть, самая большая часть меня самого.