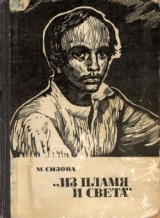
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 23
В то лето – последнее Мишино лето в Тарханах – стояла засуха. С полудня задувал суховей, проплывали с восточной стороны легкие облачка и, постепенно исчезая, таяли в жаркой синеве. Мужики со страхом глядели на пересохшее поле, и бабушка дважды приказывала батюшке служить молебствие о дожде. Но ветер все не менялся, и с посветлевшего, точно выгоревшего, неба палило неумолимое солнце.
Жаркий день клонился к вечеру. Бабушка в сопровождении Христины Осиповны вышла в сад на свою любимую скамейку около цветника, где в это лето половина цветов засохла. Но и в саду не было прохлады.
Бабушка наблюдала, как садилось солнце, и почти испугалась, услыхав громкий крик Миши, бежавшего по аллее.
Бабушка, будет гроза!
Бабушка безнадежно махнула рукой.
– Что ты, Мишенька, откуда ей взяться!
– Вот увидите, что будет! Непременно будет! – запыхавшись от бега, радостно повторял Миша. – Трава нынче совсем сухая!
А она все лето сухая, – вздохнула Христина Осиповна.
– Нет, Христина Осиповна, совсем не такая! – с уверенностью деревенского жителя, волнуясь, говорил мальчик. – Сегодня она вся, до самой земли, сухая. Вы бы влезли с бабушкой на большую липу, тогда увидали бы то, что я видел!..
– Ну, конечно, – сказала бабушка, – нас только с Христиной Осиповной там не хватало. Так что же ты видел?
– Облако видел, маленькое, серое, совсем маленькое, бабушка, но оно на западе, а это первый раз за все время.
Христина Осиповна и бабушка с сомнением покачали головами, но не прошло и получаса, как они убедились, что Миша был прав.
С запада поднималась, быстро темнея, еще далекая туча, а немного спустя все предвестники грозы наполнили радостью и надеждой и сердца хозяев и сердца мужиков и, как всегда, заставили забиться в буйном веселье сердце Миши. Он обежал весь парк, сбивая тонкой тросточкой головки засохших цветов, и еще раз забрался на самую большую старую липу, чтобы осмотреть горизонт. Теперь он уже весь громоздился тучами. На западе пробегали тревожные зарницы, словно тучи передавали друг другу световые сигналы, и первые порывы еще далекого ветра поднимали на дорогах пыльные смерчи.
Всмотревшись в дорогу, которую крестьяне называли большаком, Миша разглядел, что клубы пыли поднимает на ней не только ветер. В легких, все приближавшихся светлых клубах темнела дорожная бричка, запряженная тройкой почтовых лошадей. Ямщик или седок, видимо, торопились добраться до пристанища, и кони быстро приближались.
– Это папенька! – прошептал Миша, с волнением и надеждой всматриваясь в растущие очертания брички и лошадей.
Но нет, Юрий Петрович не ездит на почтовых, и дорога в Кропотово круто сворачивает с большака в другую сторону…
Он говорил это себе, слезая торопливо с дерева, в то время как первый раскат долгожданного грома уже прокатился по всему небосводу и молния огневым изломом мелькнула над Тарханами.
Девки уже толпились у ворот, с опаской поглядывая на небо и с жадным любопытством на дорогу: почтовая тройка, которая мчится во весь дух к дому, – большое событие в деревне. Бабушка тоже всматривалась в нее, выйдя на крыльцо. И вот с первыми каплями несущегося ливня бородатый ямщик круто осадил лошадей, и из запыленной брички легко выскочил всего-навсего молоденький студентик с живыми карими глазами, поблескивающими на совсем юном лице с едва намеченными усиками.
– Елизавета Алексеевна! Бабушка! – проговорил он, взбежав на крыльцо и целуя бабушкины руки. – Не прогоните крестника? Приютите у себя недельки на две! Я прямо из Москвы!
– Славушка! – ответила она, обнимая его. – Милости просим, рада тебе, друг мой. И Мишенька будет рад. Ему с тобой повеселее будет. Вот, Миша, ты его, наверно, не помнишь, ты маленький был, когда он в Тарханы приезжал, – это крестник мой, Раевский Святослав Афанасьевич. Мы с его бабушкой подругами были, у Столыпиных она и жила.
Несколько мгновений они рассматривали друг друга: темноволосый мальчик в зеленой бархатной курточке, с внимательным взглядом очень серьезных и очень живых глаз и юный студент Московского университета, показавшийся этому мальчику примчавшимся вместе с грозою вестником какой-то далекой, полной еще незнакомых ему радостей и волнений, бурной, настоящей жизни.
Вечером за окнами бушевал ливень. Струи дождя обрушились на иссохшую землю, и старый парк, облегченно шумя, подставлял буйным потокам свою густую листву, кое-где уже начинавшую преждевременно желтеть.
Реки воды струились по дорожкам, заливая цветочные клумбы, и ручьями стекали по оконным стеклам. Но было уютно в тархановской столовой, где за поздним ужином, после ухода и мсье Капэ, и мсье Леви, и Христины Осиповны засидевшаяся бабушка слушала рассказы приехавшего из Москвы крестника.
– Однако вот что, Славушка, – сказала она, когда Раевский умолк. – Ты в Московском университете учился. А при нем Благородный пансион имеется. Я в него Мишеньку хочу определить. Этой осенью в Москву переедем, а в будущем году, может, коли бог даст, он туда и поступит. Ты что про этот пансион скажешь?
– Это лучший пансион во всей Москве.
– Ну что же, давай бог. А хорошие-то люди там есть ли? – спросила бабушка.
– Есть.
– И из хороших семейств?
– Из самых хороших. Да вот вам пример: поступил я в Московский университет вместе с сыном Струйского, в одной комнате с ним и жил: замечательный человек!
– Струйского сын? Какого же это? Уж не нашего ли богатея, пензенского помещика Леонтия… забыла, как по батюшке!
– Этого самого.
– Знавала, знавала. Дела его шуму наделали. Напился, да своего дворового до смерти и зашиб. Может, и сошло бы это ему, да Сперанский Михаил Михалыч в ту пору губернатором нашим пензенским был, в Сибирь Струйского закатал! И помер он там в Сибири. Сын-то вспоминает ли его? Как сына зовут?
– Александром.
– Стало быть, Александр Леонтьевич.
– Он не Леонтьевич…
– Почему же?
– Он Иванович.
– Не пойму я…
– Он незаконный сын Струйского. Он крепостной. Ему не дали отчества по отцу.
– Так, так… И каков же он, этот Александр Иванович Струйский?
– А он и не Струйский.
– Да что ты мне все загадки загадываешь? Как-нибудь его да кличут?
– Его фамилия Полежаев.
– Ну, Славушка, я уж больше ничему не удивляюсь. Полежаев так Полежаев. За тобой-то он сюда не пожалует?
– Сюда? Что вы, бабушка! Ведь его в солдаты сдали.
Хотя Елизавета Алексеевна и обещала больше ничему не удивляться, но при таком ответе крестника она в глубоком удивлении вскинула на него глаза.
– За что же? Верно, вроде отца своего учинил разбой, ну и досталось за то?
– Нет. За стихи. Он один из лучших наших поэтов.
– За стихи?! Вот уж трудно поверить, чтоб за стихи человека в солдаты сдали. Кабы не ты сказал, ни за что бы не поверила! Какой же от стихов вред? Их еще неведомо кто прочтет да и, прочитав, тут же забудет. И у кого ж это рука поднялась студента за стихи в солдаты сдать?
– У императора Николая Первого, бабушка.
Елизавета Алексеевна испуганно оглянулась, встала и, открыв дверь, посмотрела в соседнюю комнату. Никого!
Она тяжело опустилась в кресло.
– А другие-то друзья у тебя в университете были?
– Большие друзья были – братья Критские.
– А где же они теперь?
– Они в тюрьме оба. Арестованы в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое августа сего года.
– С нами крестная сила!
Елизавета Алексеевна испуганно перекрестилась.
– Да-а… – в раздумье проговорила она. – Вот тебе и науки!..
* * *
Проходя в отведенную ему комнату, Раевский в темном коридоре наткнулся на Мишу.
– Ты почему так поздно не спишь? – спросил он мальчика.
– Я вас жду.
– Меня? – удивился Раевский. – Ну, пойдем тогда ко мне.
Усевшись на маленький диванчик, он предложил Мише поместиться с ним рядом.
Миша охотно принял это предложение, уселся в угол дивана, положил ногу на ногу и, охватив колено обеими руками, стал внимательно разглядывать приехавшего из Москвы гостя.
Посидев так, он, по-видимому, остался доволен осмотром и очень вежливо спросил:
– Скажите, пожалуйста, что, в Петербурге не было больше никакого восстания?
– Как? – воскликнул Раевский, привскочив от удивления на диване. – Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду, – очень обстоятельно приступил к объяснению Миша, – какое-нибудь восстание, вроде того, о котором дядя Афанасий рассказал. Оно произошло четырнадцатого декабря на… на Сенатской площади.
– Все точно, и время и место, – улыбнулся Раевский. – Только нового восстания не было.
Сидевший рядом с Раевским странный мальчик в зеленой бархатной курточке, с недетскими глазами на совершенно детском лице пристально посмотрел на своего собеседника и, помолчав, сказал:
– Знаете, я прежде думал, что тех узников скоро можно будет освободить, как французы освободили узников Бастилии. Но теперь это не кажется мне таким легким делом. Это простительно? – очень серьезно спросил он, вспыхнув. – Я был тогда еще очень молод. Мне было одиннадцать лет.
– А сейчас сколько? – сдерживая улыбку, спросил Раевский.
– Сейчас мне тринадцать. Скоро будет, – поспешно добавил мальчик.
Раевский доверчиво положил на его руку свою.
– Вот что я тебе, Миша, скажу, раз уж тебе скоро будет тринадцать. Ты мои слова поймешь. Не говори ни с кем о том, что ты слышал от дяди Афанасия. И никого – понимаешь? – никого не спрашивай больше о восстании.
– Я ни с кем и не говорю о нем. Только с Акимом один раз.
– А кто этот Аким?
– Аким – это мой кузен. Он часто гостит у нас, и мы с ним очень дружны. Я вот что хотел еще спросить, – сказал Миша вставая. – Какие стихи написал этот друг ваш… Полежаев? Вот те, за которые его в солдаты отдали? О чем он в них говорил?
– Полежаев? – изумился Раевский. – А ты откуда знаешь, что он мой друг?
– Я слышал, как вы это сказали бабушке.
– Он писал о свободе человеческой, друг мой, – ласково сказал Раевский, чувствуя в этом мальчике действительно дружескую душу.
– А разве об этом нельзя писать? – спросил удивленно Миша.
– Когда-нибудь, когда ты будешь постарше, мы непременно поговорим о том, что можно и чего нельзя писать, а сейчас, пожалуй, пора спать. Ты с этим согласен? – улыбаясь, спросил Раевский.
– Согласен, – задумчиво ответил Миша и, пожелав Раевскому доброй ночи, ушел к себе.
ГЛАВА 24
Дождь зарядил на неделю – ни проезду, ни проходу. Но вынужденное семидневное сидение дома за разговорами и разными занятиями сблизило Мишу с бабушкиным крестником, который должен был признаться себе, что все чаще забывает о разнице их возрастов и начинает говорить с ним, как со взрослым.
В то же время он видел, что этот мальчик, окруженный всяческими заботами и вниманием, не знает человека, с кем он мог бы поделиться так рано пережитой душевной болью и мыслями, которые он уже привык скрывать. И как только кончились дожди и проглянуло ясное небо, они начали бродить вдвоем по парку, занятые самой дружеской беседой.
Раевский рассказывал мальчику о своей любви к литературе, к народным песням и сказкам и о том, что в некоторых литературных кружках он читает иногда пробы своего пера.
Не признался он мальчику в одном: что уехал он из Москвы в Саратовскую губернию к отцу не только из желания повидать родные места, но потому еще, что некий человек весьма подозрительного вида стал слишком часто стоять у его подъезда и провожать его и его гостей, идя по другой стороне улицы. Об этом не следовало знать никому.
Однажды, гуляя с Мишей по окрестным лугам, Раевский сказал ему:
– Прислушивайся к песням и говору народному. Пушкин умеет это ценить и понимать.
– А вы Пушкина любите? – спросил Миша, останавливаясь среди дороги между желтеющими с обеих сторон полями дозревающей ржи.
– Какой же русский не любит Пушкина? – быстро ответил Раевский.
– И я люблю, – тихо сказал Миша. – Его стихи – самое прекрасное, что я когда-нибудь читал.
– А ты сам писать не пробовал?
Смуглое лицо мальчика покрылось темной краской.
– Пробовал несколько строчек и все бросил в печку. Это так плохо по сравнению с тем, как я хотел бы написать! – вздохнул он.
– Ну, если ты так ясно чувствуешь, что хорошо и что плохо, – это уже хороший знак.
– Да? – переспросил Миша. – Я этого не думал! Вот в рисунке мне почти всегда удается передать то, что я хочу. И восковые фигуры для моего театра тоже делать легко. А стихи трудно!.. Стихи должны быть как… как песня, – сказал он после паузы. – Или как музыка. А у меня совсем не так выходит, поэтому я их все сжигаю. И буду сжигать…
После отъезда Раевского Миша весь отдался чтению. Его новый друг подарил ему несколько книг и дал «до возврата в Москве» истертую, зачитанную тетрадь, добавив, что лучше эту тетрадь не показывать никому.
В ней Миша нашел старательно переписанные строфы из неоконченной поэмы и с трепетом прочел их дважды:
Но вековые оскорбленья
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого отмщенья —
Не в силах я: один лишь раб
Так может быть и подл и слаб.
Над заголовком этой поэмы стояла фамилия автора: Рылеев.
ГЛАВА 25
Уже несколько раз в большой тархановской гостиной обсуждался вопрос о дальнейшем образовании Мишеля. Каждый раз приезжал на эти совещания Юрий Петрович, вызванный бабушкой.
Юрий Петрович не возражал бабушке, которая утверждала, что Мише нужны столичные учителя. Кроме общих способностей и блестящей памяти, он видел в своем сыне и ярко выраженную склонность к искусствам. Миша быстро и выразительно лепил из воска целые сцены с несколькими фигурами, совершенно точно наигрывал на стареньком фортепьяно своей матери все услышанные им песни и мелодии и страстно любил рисование.
Пришла пора мальчику расстаться с Тарханами и жить в Москве; и отец с грустью думал о том, что это еще больше отдалит от него сына.
Приехав как-то летом в Тарханы, Юрий Петрович долго беседовал с сыном, гуляя по парку, и оба решили просить Елизавету Алексеевну отпустить Мишу перед отъездом в Москву хоть ненадолго к отцу.
Когда Мишель уехал с Юрием Петровичем, бабушка, горестно вздохнув, сказала Марии Акимовне, что исполняет эти просьбы Юрия Петровича с тяжелым чувством.
Мария Акимовна с укором посмотрела на нее своими добрыми черными глазами.
– Нельзя же, ma tante, совсем отнять сына у отца! По-моему, Миша каждый раз глубоко страдает, расставаясь с Юрием Петровичем.
– Ну, в этом деле, Машенька, ничего изменить нельзя, – решительно ответила Елизавета Алексеевна.
Миша вернулся от отца печальный и встревоженный. Он несколько дней молча о чем-то думал и, заложив руки за спину, как взрослый, медленно ходил по своей любимой аллее, под липами, которые уже сбрасывали желтый лист.
– Думает, все думает, – сказала Елизавета Алексеевна Марии Акимовне, глядя в окошко на внука. – Я надеюсь, Машенька, что авось повеселеет в Москве-то.
– Дай бог! – проговорила Мария Акимовна. – Жалею я, что мой Аким на целых три года моложе Мишеля, а то отправила бы его с вами тоже в Москву. Ну, что же делать, поскучаем пока здесь.
* * *
В одно погожее утро перед домом началось какое-то волнение. Христина Осиповна посмотрела из окна. Тархановские мужики валом валили в ворота. Кучер Матвей попробовал было остановить их.
– Куды прешь? Чего тут позабыли?
Мужики шли и шли… Наконец они сгрудились толпой у самого крыльца. И только когда вышла сама Елизавета Алексеевна и спросила, что им надобно, мужики, поснимав шапки, хором ответили:
– Барина молоденького, Михаила Юрьича поздравить пришли. Как он не будет здесь в день ангела своего, то мы, значит, загодя…
А Мишель уже прибежал из сада и остановился, не без смущения поглядывая на такую большую толпу поздравителей.
Но вдруг глаза его расширились от удивления: два старых деда вели под уздцы серого коня. Он был небольшого роста, но строен и, легко ступая, подошел к самому крыльцу, где стоял Мишенька, и остановился, поводя ушами и потряхивая серой короткой гривкой.
– Что это? – спросил Миша, не спуская с него глаз. – Чей это конь?
Дядя Макар отделился от толпы, кашлянул и громко сказал:
– Вашей милости ото всего мира, значит, на добрую память.
И загудели вокруг голоса, повторяя:
– Всем миром на добрую память!..
– Бабушка! – мог только прошептать Миша. – Что же это?! Это они мне? Сами!..
И, взобравшись на своего нового коня, к полному удовольствию тархановских мужиков, объехал весь широкий двор, промчался по дороге и вернулся к крыльцу, сияя от радости.
* * *
Весь дом знал, что вечером бабушка обыкновенно проверяет у себя счета; и потому она была очень удивлена, когда ее внук тихонько вошел вечером в ее комнату и молча уселся против нее.
– Ты что, Мишенька? – спросила она, не отрывая глаз от счетов. – Иль случилось что?
– Пожалуйста, бабушка, скажите, чтобы завтра Долгую рощу немножно порубили.
– Что такое? – переспросила бабушка, не веря своим ушам.
– Скажите, чтобы ее порубили, – повторил он решительно, – потому что нужно выстроить в деревне новые избы. Ведь не всю рощу вырубить, бабушка, а только чтобы на всех хватило.
– Ты здоров ли, Мишенька? Нет ли у тебя жару? – Бабушка приложила руку к его лбу.
Но он отодвинул голову от ее руки и твердо пояснил:
– Мне подарили коня мужики. Вы видели, какой конь? Это они сами купили, на свои деньги. А Ивашка мне говорил, что денег у них совсем мало, совсем! Как они их собрали, бабушка, вы не знаете?
– Не знаю, Мишенька. Раз собрали – значит были у них. Ты не всякому слуху верь. Они тебе наскажут! Есть у мужиков деньги.
– Нет, нету! И избы у них очень, очень плохие.
– Мишенька! – строго посмотрела на него бабушка. – Что ты говоришь? Кто это тебе наговаривает? Ивашка?
– Не Ивашка, бабушка, а я сам видел. Мы Долгую рощу не всю срубим. Право, не всю. Можно и оставить немножечко, ежели вам жалко. Но только чтобы всем хватило. Мы с вами всем подарим по новой избе. И чтоб на каждой избе наверху конек был деревянный – это им за моего серого коня. Хорошо, бабушка? Подарим?
– Ну, мой друг, – с гневом сказала бабушка, – ты меня в это дело не путай, я мужикам новых изб дарить не собираюсь.
* * *
И все-таки через несколько дней тархановские мужики были приятно поражены: ранним утром из соседней деревни явились с подводами плотники, а на подводах везли они лес.
Застучали по Тарханам топоры, завизжали пилы, а к зиме крестьянские семьи перебрались вместе с нехитрым своим скарбом в новые избы.
На каждой избе красовался деревянный конек, и, поглядывая на него, говорили тархановские мужики, что вот вырастет их Михаил Юрьевич – всех удивит. Скрутит он тогда, бог даст, и Мосолова, который у своих мужиков кровь сосет. Покажет он всем, как надо по правде, по-божески жить!
ГЛАВА 26
Осенью 1827 года начали готовиться в путь. В последнюю ночь перед отъездом налетел первый осенний бурелом. С раннего утра тархановские крестьяне были отправлены в господский парк – убирать сломанные бурей деревья.
По обочинам дороги на утреннем солнце еще не оттаял хрупкий ледок. Были так прозрачны осенние холодные краски, так тихо поднимались в вышину оголенные ветки осинок, лип и берез, что Миша не мог удержаться от желания еще раз – в последний, в самый последний раз! – обежать все любимые и даже нелюбимые дорожки.
Он обежал почти весь парк и нигде не встретил ни души, только дядя Макар усиленно трудился, подравнивая пилой изуродованные бурей деревья. Заметив Мишу, он снял шапку и ласково поглядел на мальчика из-под черных бровей.
С того дня как вернули его, проданного барыней, по настоянию барчука домой, в сердце Макара родилась глубокая, горячая привязанность к Мишеньке.
– Дядя Макар, а Ивашка где? – спросил Миша, постояв и поглядев некоторое время на работу, казавшуюся такой легкой в умелых Макаровых руках.
Дядя Макар помолчал.
– А вон на гумне у вас, на господском, в сарае нонче с утра ревет.
– На гумне? – переспросил Миша и быстро побежал через парк к полю.
Он не сразу нашел своего товарища. Наконец увидал светловолосую Ивашкину голову, прижавшуюся к стенке в самом углу сарая, там, где сходились толстые бревна.
– Ивашка! – позвал его Миша. – Ты здесь?
– Ну, здесь… – Ивашка встал, поспешно вытирая лицо рукавом, чтобы не показать Мише следов недавних обильных слез.
Несколько минут мальчики постояли молча.
– Ивашка, ты знаешь что? – сказал, наконец, Миша.
– Ну, чего?
– Я ведь тебя скоро к себе возьму. В Москву. Понимаешь? Это ничего, что я уезжаю. Я попрошу бабушку, и она тебя выпишет к нам в Москву.
– Ей-богу?! – сказал Ивашка.
– Ей-богу, – повторил Миша.
– Ну ладно! – Ни о чем больше не спрашивая, Ивашка окончательно вытер другим рукавом заплаканное лицо, весело поглядел на Мишу, и они вместе побежали к дому, откуда доносились понукания и крики кучеров, подававших лошадей, и голос мсье Капэ, звавшего своего воспитанника и уже не на шутку обеспокоенного его продолжительным отсутствием.
Француз стоял на крылечке, закутанный таким количеством теплых шарфов, что из них виднелся только его длинный нос с горбинкой. Он кашлял и зябко поеживался в ожидании той минуты, когда madame la grand' mére[31]31
Госпожа бабушка (франц.).
[Закрыть] первая сядет в свой старый дормез, со свойственной ему французской галантностью считая неудобным занять место прежде нее.
Но Миша уговорил мсье Капэ поместиться туда, не дожидаясь бабушки.
Постепенно широкий двор перед домом заполнялся дворовыми и тархановскими мужиками, бабами и ребятишками, товарищами шумных Мишиных игр.
Как не похож был этот отъезд на их веселое путешествие к далеким Кавказским горам! Теперь Миша оставлял Тарханы и дом, взрастивший его, и любимый парк, такой пустой и грустный в минуты прощания, не зная, когда вернется сюда опять.
Увидав заплаканные глаза Насти и понуро опущенные головы мужиков, часто видевших в нем свою защиту, оглядев все эти лица, обращенные к нему – к нему, а не к бабушке, – он вдруг почувствовал, какую большую часть своей души и своей жизни оставляет он здесь, и, растроганный, стал обходить крестьян, прощаясь и пожимая старикам руки.
Совсем недавно пережил он горечь другой разлуки – с отцом. Боль от этой разлуки заставляла его мучительно замыкаться в себе, потому что об этом он ни с кем не мог говорить, даже с мсье Капэ.
Вот и теперь, уже сидя в дорожной карете между бабушкой и мсье Капэ, Миша в последний раз посмотрел на все, что оставлял, и до боли закусил себе губы, чтоб не расплакаться, как давеча Ивашка. Это было бы очень стыдно – заплакать, потому что ему ведь скоро тринадцать лет и, значит, он уже совсем большой.








